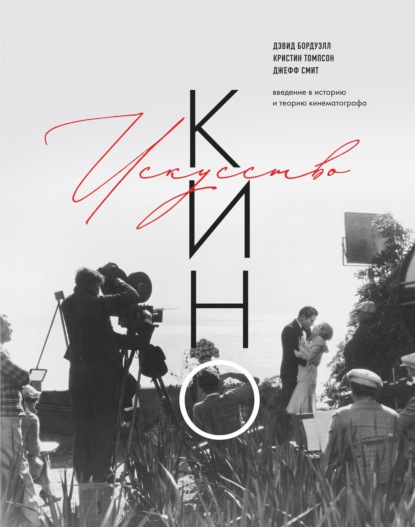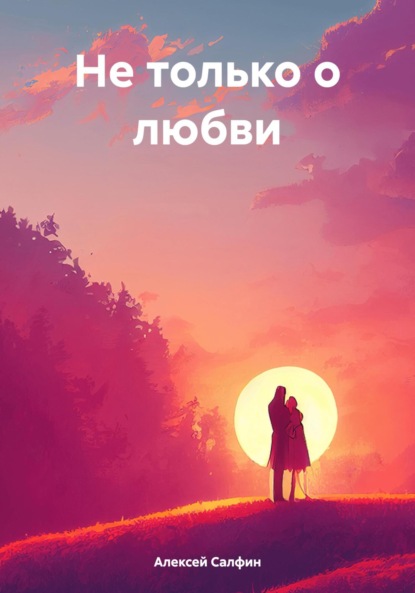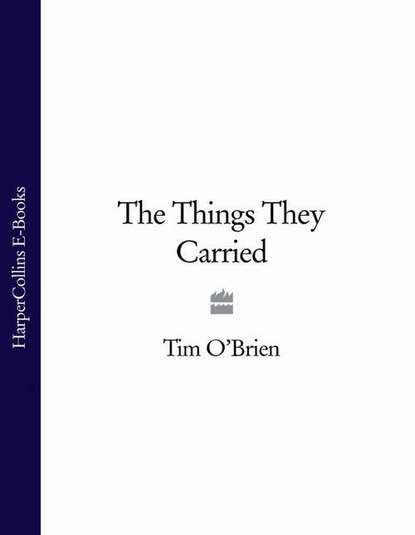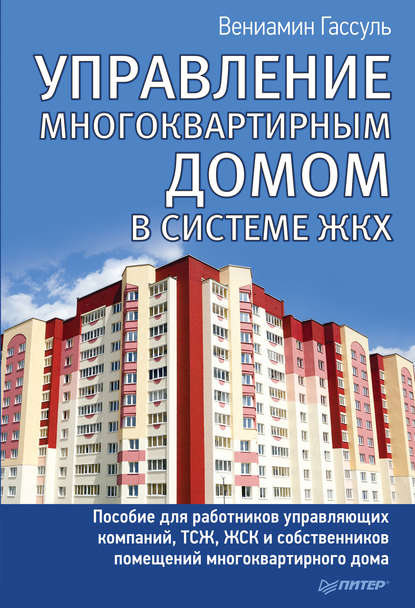Драматургия: искусство истории. Универсальные принципы повествования для кино и театра
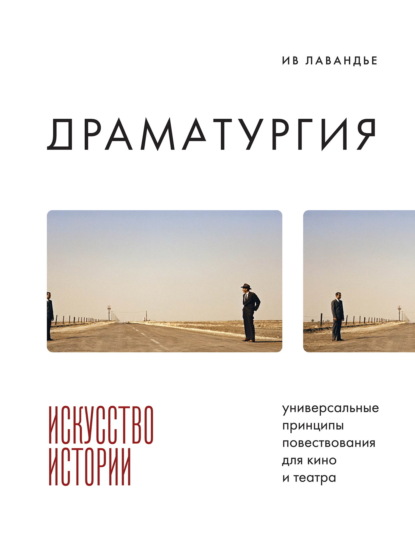
- -
- 100%
- +
Связующий ключевой момент
Для некоторых привлекательность драматического произведения, его величие, сила, гениальность состоят исключительно в различиях, а не в общих чертах. Я прекрасно понимаю страх перед стандартизацией и считаю его вполне обоснованным. Различия необходимо культивировать. С другой стороны, я считаю, что для человеческого равновесия необходимо, чтобы эти различия имели общую основу. Величие произведения заключается как в том, что делает его непохожим на другие, так и в том, что сближает его с аналогами. Даже необходимо, чтобы произведение имело что-то общее с себе подобными. Ведь, как говорил Чехов [183], «у произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень много; если из каждого из них выкинуть это общее, то произведение утеряет свою цену и прелесть».
Подобно тому, как человек стремится одновременно быть уникальным и универсальным, как он нуждается в постоянстве не меньше, чем в переменах, как в его интересах питать и сторону инь, и ян, использовать как левое полушарие, так и правое (см. ниже), я считаю фундаментально необходимым развивать как общие черты, так и различия и между двумя людьми, и между двумя произведениями. Интерес только к различиям ведет к элитарности или расслоению; интерес только к общим чертам приводит к обнищанию или тоталитаризму.
А как же спонтанность творения? Еще одно серьезное препятствие для ознакомления с правилами – идея о том, что они мешают творческой интуиции. С тех пор как существует мир, художники и философы из самых разных слоев общества, будь то Дидро, Ницше или Леонардо да Винчи, высказывали мысль о том, что знание правил не препятствует спонтанности творчества.
Научные эксперименты, проведенные в основном в Калифорнийском технологическом институте лауреатом Нобелевской премии по медицине Роджером Сперри, позволили нам лучше понять справедливость этой идеи. В двух словах, его исследования показали, насколько два полушария человеческого мозга различны в своих функциях.
Одно из них (левое – у 95 % людей, правое – у остальных) отвечает за анализ и логические рассуждения. Именно в этом полушарии развивается речь. Другое полушарие (правое у большинства людей) служит средоточием всеобъемлющей интуитивной и творческой деятельности. Между ними проходит мостик, состоящий из тысяч [нервных] волокон и называемый мозолистым телом. Для меня этот орган является анатомическим воплощением союза и. Он позволяет двум полушариям не только общаться, но и помогать, дополнять друг друга. Именно потому, что знание правил обеспечивается левым полушарием, а спонтанное художественное творчество связано с правым, одно не мешает другому. И именно благодаря наличию мозолистого тела правила, вместо того чтобы быть помехой, служат художнику незаменимым инструментом.
Более того, в истории искусства нет ни одного хорошего художника, который не знал бы правил. Знание правил может быть неосознанным, но тем не менее оно существует. Тот факт, что художнику не удается сформулировать правила, еще не доказывает, что он их не придерживается.
На самом деле существует два способа изучения правил. Самый очевидный – это школа (или книга). Изначально ставка здесь делается на осознанное усвоение правил. Второй способ – бессознательный. Он состоит в изучении трудов своих предшественников и, конечно же, в большой практике, позволяющей бессознательно извлекать уроки, а значит, и понимать правила.
Чаплин, Ибсен или Сартр никогда не изучали драматургию в школе. Тем не менее когда мы обращаемся к мастерству повествования в фильмах «Цирк», «За закрытыми дверями» или в пьесе «Привидения», становится ясно, что их авторы были знакомы с классическим репертуаром начиная с «Царя Эдипа» – и воспользовались им. Помимо этого они должны были обладать выдающимся талантом, какой достается немногим, поэтому история знает не так уж много Чаплинов, Ибсенов и Сартров.
В некоторых обществах (в том числе и в том, к которому принадлежал Декарт) принято развивать у детей левое полушарие, отдавать предпочтение аналитическому обучению и пренебрегать возможностями интуиции.
Для большинства людей это заканчивается крайней рационализацией, боязнью или презрением к интуиции и, если левое полушарие недостаточно стимулируется, к обеднению ума. Для тех, кто восстает против рационализированного образования, а это прежде всего большинство художников, результатом становится отказ от анализа и осознанного знания.
Драматург всегда может проигнорировать успехи Фрейда, Сперри и других, отдавая предпочтение бессознательному усвоению правил. Но при этом он делает гигантскую ставку на собственный талант. С другой стороны, автор может считать, что художник – прежде всего ремесленник, который заинтересован в том, чтобы задействовать оба полушария, и решает «пойти в школу», чтобы в каком-то смысле специализироваться, подобно тому, как музыканты поступают в консерваторию или художники в студию, чтобы подпитать свое левое полушарие знанием правил. Тем лучше для сценариста, если к тому же он обладает талантом Чаплина, Ибсена или Сартра. Сомнительно полагать, что эти авторы были бы менее гениальны, если бы осознанно учили правила. Моцарт, архетипический гениальный творец, не является исключением из этого принципа. В раннем возрасте ему посчастливилось сочетать исключительный талант с одним из лучших технических курсов обучения, который проводил его отец Леопольд, сам композитор и автор высоко оцененного метода игры на скрипке. Затем последовало педагогическое влияние Иоганна Христиана Баха, Иоганна Шуберта и Иоганна Михаэля Гайдна. Короче говоря, Моцарт не был неискушенным необразованным человеком, которого случайно поразила божественная искра.
Учимся пользоваться пультом дистанционного управления
Представьте себе человека, который только что купил проигрыватель дисков Blu-ray. К нему прилагается пульт дистанционного управления со множеством кнопок. Некоторые из них обозначены знакомыми покупателю символами (воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперед и т. д.). Другие кнопки гораздо менее понятны интуитивно и даже загадочны. Поэтому наш покупатель сперва обращается к инструкции и начинает шаг за шагом скрупулезно ей следовать. Поначалу это трудоемко. Его глаза постоянно блуждают от инструкции к гаджету, не торопясь, он нащупывает путь. Постепенно ему становится легче – настолько, что однажды, после долгих тренировок, он даже перестает смотреть на кнопки, не говоря уже об инструкции по эксплуатации.
То, что начиналось как осознанное действие, превратилось в бессознательный автоматизм.
У каждого из нас был аналогичный опыт. Если не с пультом дистанционного управления, то с музыкальным инструментом, приборной панелью автомобиля, кулинарным рецептом. Любое сознательное обучение человека происходит точно по такой же схеме. Мы постепенно переходим от прочного усвоения к интуитивной спонтанности. Конечно, научиться рассказывать историю дольше и сложнее, чем научиться пользоваться пультом ДУ. Во-первых, потому что «кнопок» больше и овладеть ими труднее. Во-вторых, потому что для этого требуются начальные навыки, которые есть не у всех и приобрести которые не помогут даже время и упорство. Но для тех, кто обладает необходимыми навыками от природы, переход от сознательного обучения к бессознательному мастерству работает чудесным образом.
Вот почему я считаю, что драматурги, осознанно изучившие правила, могут продолжать писать спонтанно. Но поскольку спонтанность не всегда приводит к хорошим результатам – она состоит из разнообразных автоматизированных навыков и иногда сбивает с толку своего обладателя, – знание правил позволяет направить эту спонтанность в нужное русло. Ведь работа автора – это постоянное движение вперед и назад между спонтанным творчеством и анализом его итогов.
Содержание книги
В этой книге подробно описывается то, что я только что назвал синтетической моделью. Речь идет не только о перечислении необходимых констант, но и о понимании их обоснования – важном условии, на котором я настаиваю, для установления правил. Мы увидим, что интерес к драматургии равнозначен интересу к жизни людей.
В главе 15 рассматриваются взаимоотношения между драмой и литературой, которые часто объединяют в ущерб первой. Главные вопросы основной части книги в равной степени касаются и автора, и аудитории, к которой он обращается. Эта аудитория, как правило, состоит из взрослых и подростков.
Все те же аспекты применимы и к короткометражным фильмам, но приходится признать, что они редко используются. Этой особенности посвящена глава 17. Наконец, в четвертом приложении (глава 18) объясняется, почему механизмы драматургии подходят для сценариев документальных фильмов.
Предостережения
Сценарий к «Гражданину Кейну» – это работа двух человек.
Джон Хаусман [89]Если Марло написал произведения Шекспира, то кто написал произведения Марло?
Вуди Аллен [2]Успешные пьесы заслуживают того, чтобы их авторы, как и создатели великих храмов, оставались неизвестными.
Жан Жиродо [72]Ищите автора
Споры о том, кто написал «Гражданина Кейна» или кто автор «Гамлета», небезынтересны. Но для драматурга важнее всего то, что эти произведения существуют и служат нам путеводителями. Поэтому, чтобы не задеть ничье тщеславие, я буду использовать для обозначения создателя всего, что имеет значение в драматическом произведении, только одно слово: автор. Относится ли это слово к драматургу или к другим участникам (актеру, редактору, художнику, режиссеру и т. д.) – вопрос, который я рассматриваю в Évaluer un scénario [112] / «Оценке сценария».
Американец греческого происхождения
Большинство театральных пьес или опер, используемых мной в качестве примеров, являются европейскими (сначала греческими, затем английскими, французскими, итальянскими, норвежскими, русскими, ирландскими, немецкими и т. д.), тогда как большинство кинематографических примеров – американские. Это не случайно. Европейским киносценаристам, возможно, есть что сказать, но слишком часто им это плохо удается. В результате если характеры персонажей и диалоги иногда блестящи, то все остальное зачастую выглядит неуклюже. Мы еще вернемся к этому в главе 7 о творчестве (стр. 378–384).
Кроме того, стоит также спросить себя, что такое американское кино. В Европе само слово «американец» вызывает множество эмоций, от ненависти и страха до восхищения и преклонения. Если послушать некоторых европейских интеллектуалов, то выяснится, что наши дети становятся необратимо тупыми из-за посещения раз в год парижского Диснейленда, а мясо в бургерах содержит гены культурного империализма янки! Тот же бред распространяется и на американские фильмы и сериалы.
Мы охотно путаем американский сценарий с голливудским и забываем, что Спайк Ли, Роберт Олтман и Джон Кассаветис – такие же американцы, как Джон Бэдхэм, Генри Левин и Дон Сигел. Наконец, мы упускаем из виду, что многие выдающиеся пионеры американского кино – европейского происхождения. Капра, Чаплин и Казан провели детство в Италии, Англии и Турции. Ланг, Любич, Мурнау, Премингер, фон Штернберг, фон Штрогейм, Уайлдер и другие родом из Австрии или Германии.
Если бы мне пришлось отбросить личные вкусы и выбрать образцовые американские сценарии, я бы не остановился на вечно популярных кинолентах «Касабланка», «Крестный отец» и «Тутси», а предпочел бы фильмы «В джазе только девушки», «Окно во двор», «Холостяцкая квартирка», «На север через северо-запад», «Ниночка» и «Быть или не быть». Без сомнения, это прекрасные образцы сценарного мастерства. Но их режиссеры и главные сценаристы (Хичкок, Любич и Уайлдер) родились не в Соединенных Штатах. Более того, если мы проанализируем творчество Хичкока и Любича, оказавших огромное влияние на американский кинематограф, то поймем, что они черпали вдохновение и мастерство в европейском театральном репертуаре: Гоголь, Уайльд (для Любича) и английские авторы широко известных пьес Кауард, Моэм и Пинеро (для Хичкока).
Мы могли бы довести нашу маленькую генеалогическую игру до конца [скорее, до истоков], через Дидро, Плавта и Менандра добравшись до Эсхила. Мы увидим, что Чехов занимался доработкой сценариев, что греки привыкли к ремейкам и сиквелам, что у Еврипида и Корнеля мы находим happy ending, экшен – у Мольера, саспенс – у Брехта, клиффхэнгеры[13] – у Расина и Ибсена и так далее. Короче говоря, истоки того самого порицаемого американского стиля сценария, которого так опасаются в Европе, именно в ней и можно найти.
Когда Куросава экранизирует Горького («На дне»), Шекспира («Макбет» – «Трон в крови, или Паучий замок») или Эда Макбейна («Между небом и адом»), так ли важно знать национальность [авторов] этих произведений и культуру, которую они передают? Разве хорошая история не должна уметь путешествовать? При этом в книге представлен весь репертуар, что должно позволить каждому читателю найти свой путь, соответствующий его культуре и личным вкусам.
Уэллс и Софокл
Кинодраматургия представлена лучше, чем драматургия театральная. На то есть две причины. Во-первых, не исключено, что, несмотря на его юный возраст, кинематограф благодаря богатству своих возможностей имеет больший опыт повествования, чем театр. Примерно в 1930 году, с появлением звукового кино, Марсель Паньоль [140] уже предчувствовал, что авторы смогут создавать «произведения, попробовать поставить которые не могли ни Мольер, ни Шекспир из-за отсутствия у них соответствующих средств».
Во-вторых, кино материально доступнее, чем театр. У любого жителя Марселя, желающего посмотреть «Царя Эдипа», вряд ли будет шанс увидеть его в ближайшем к дому театре. Ему придется читать текст. С другой стороны, если он захочет посмотреть «Гражданина Кейна», а ни в одном местном кинотеатре фильм в данный момент идти не будет, то его легко посмотреть на видео. Пуристы скажут, что домашний просмотр портит впечатление от фильма. Как это часто бывает, пуристы преувеличивают. Домашний экран безжалостен к исполнительским живым искусствам, таким как театр, потому что лишает зрителя реального присутствия актеров. С другой стороны, домашний экран вполне уважительно относится к драме. Короче говоря, если фильм не изуродован (цензурой, панорамированием и сканированием, сокращением, колоризацией или рекламой) и если зрители посмотрят его за один присест и в хороших условиях, они уловят суть произведения.
Последняя проблема заключается в том, что существует тысяча постановок пьесы Софокла, и мы не знаем, какая из них в наибольшей степени удовлетворила бы автора. С другой стороны, существует только одна версия фильма, снятого режиссером Орсоном Уэллсом.
Несколько примеров можно привести из комиксов. Комиксы – это самостоятельная форма повествовательного искусства, находящаяся на полпути между драматургией, поскольку в них показаны действия, и литературой, поскольку диалоги читаются, а не прослушиваются. Более того, изображение в комиксе (рисунок) гораздо менее реалистично, чем изображение, представленное в театре или кино. Вот почему, хотя комиксы подчиняются многим правилам, общим для всех драматических искусств, у них есть несколько специфических особенностей.
Наконец, в качестве примера приводится несколько сказок, некоторые из которых никогда не были адаптированы для театра или кино и, следовательно, относятся к литературе, а не к драматургии. Но мы увидим, что структура сказок очень близка к структуре драматического произведения. Возможно, это связано с тем, что сказки, отражающие фундаментальные человеческие структуры и не обремененные культурными отсылками, являются основой любого повествования. По мнению Марии-Луизы фон Франц, «сказки кажутся международным языком, независимо от возраста, расы или культуры».
Путешествие в воображение авторов
Обилие примеров служит нескольким целям:
1. Чтобы каждый мог понять и найти что-то себе по душе. Кто-то может знать произведения Вуди Аллена, Дзиро Танигути или Бернара-Мари Кольтеса, а кто-то – Джеймса Кэмерона, Жан-Мишеля Шарлье или Жоржа Фейдо.
2. Показать, что механизмы, описанные в этой книге, применимы ко всем произведениям драматического репертуара. Такую работу можно написать, взяв небольшую горстку справочников, но это опасно. Чем больше произведений проанализировано, тем богаче и надежнее будет результат. Возвращаясь к образу типового портрета Кшиштофа Прушковского (см. стр. 28), чем больше фото президентов Французской Республики вы возьмете, тем достовернее будет итоговый портрет. Полученная таким образом синтетическая модель не является слишком жесткой и обязательной для копирования. Она остается достаточно гибкой, чтобы позволить сценаристу писать и как Бергман, и как Брехт, Эрже, Ануй, Моничелли и т. д. Другими словами, она достаточно гибкая, чтобы помочь каждому писать в своем собственном ключе.
Таким образом, я постараюсь показать, что существует только одна модель драматического повествования (иногда ее называют классической или аристотелевской) и что все произведения, в которых делается попытка рассказать историю, являются лишь более или менее счастливыми исключениями из этой модели.
3. Продемонстрировать богатство драматического репертуара и в то же время развивать и стимулировать читательское творчество. Если читатель хочет писать, ему полезно знать, что уже сделано другими. Более того, эта книга предлагает отправиться в сказочное путешествие в воображение авторов и побуждает читателя (заново) открыть для себя некоторые произведения. Обилие примеров, некоторые из которых не иллюстрируют какие-либо конкретные теоретические положения, делает путешествие еще более насыщенным.
Терминологические вопросы
Драматургия не похожа на биологию, астрофизику или морскую навигацию: ее язык еще не был универсально кодифицирован. Каждый теоретик дает терминам «акт», «экспозиция» или «саспенс» собственное определение, и они не всегда согласуются между собой. Читателям рекомендуется сосредоточиться на понятиях, определения которых даны в этой книге, а не на словах, используемых для их описания, особенно если они уже привыкли к иной терминологии.
Справочные материалы
Вы можете обратиться к этой книге, имея не слишком богатое представление о драматическом репертуаре. Наиболее важные примеры описаны подробно, чтобы каждый читатель мог их понять. Тем не менее для тех, кто хочет сделать свое чтение более ясным и насыщенным, здесь приведены работы, наиболее часто цитируемые в качестве примеров и/или наиболее поучительные. Я бы рекомендовал читателям ознакомиться с ними, особенно с теми, что представлены в первом списке, прежде чем продолжить чтение этой книги.
• «Амадей» (Питер Шаффер или Милош Форман и Питер Шаффер),
• «Астерикс и тайное зелье» (Рене Госкинни и Альберт Удерзо),
• «Драгоценности Кастафьоре» (Эрже),
• «В джазе только девушки» (Билли Уайлдер и И. А. Л. Даймонд),
• «Сид» (Пьер Корнель),
• «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс и Герман Манкевич),
• «Сирано де Бержерак» (Эдмон Ростан),
• «Школа жен» (Мольер),
• «В ожидании Годо» (Сэмюэл Беккет),
• «Дети райка» (Марсель Карне и Жак Превер),
• «Окно во двор» (Альфред Хичкок, Джон М. Хейс, Корнелл Вулрич),
• «Холостяцкая квартирка» (Билли Уайлдер и И. А. Л. Даймонд),
• «Гамлет» (Уильям Шекспир),
• «За закрытыми дверями» (Жан-Поль Сартр),
• «Огни большого города» (Чарльз Чаплин),
• «Кукольный дом» (Генрик Ибсен),
• «К северу через северо-запад» (Альфред Хичкок и Эрнест Леман),
• «Смерть коммивояжера» (Артур Миллер),
• «Царь Эдип» (Софокл),
• «Психо» (Альфред Хичкок, Джозеф Стефано, Роберт Блох),
• «Ромео и Джульетта» (Уильям Шекспир),
• «Святая Иоанна» (Джордж Бернард Шоу),
• «Тартюф» (Мольер),
• «Быть или не быть» (Эрнст Любич, Эдвин Юстус Майер и Мельхиор Ленгиел),
• «День сурка» (Гарольд Рамис и Дэнни Рубин),
• «Жизнь Галилея» (Бертольт Брехт),
• «Эта замечательная жизнь» (Фрэнк Капра, Филипп Ван Дорен Стерн, Джо Сверлинг, Альберт Хакетт и Фрэнсис Гудрич).
И в меньшей степени:
• «Антигона» (Софокл),
• «Бал пожарных» (Милош Форман, Иван Пассер, Ярослав Папоусек, Вацлав Сасек),
• «Придворный шут» (Мелвин Фрэнк и Норман Панама),
• «Во все тяжкие» (Винс Гиллиган),
• «Кинооператор» (Бастер Китон, Эдвард Седжвик, Клайд Брукман, Лью Липтон),
• «Касабланка» (Майкл Кертиц, Джулиус и Филипп Эпштейн, Говард Кох, Мюррей Бернетт и Джоан Элисон),
• «Кавказский меловой круг» (Бертольт Брехт),
• «Вишневый сад» (Антон Чехов),
• «Цирк» (Чарльз Чаплин),
• «Папаши» (Франсис Вебер),
• «Любовь под вязами» (Юджин О'Нил),
• «Диктатор» (Чарльз Чаплин),
• «Ужин с придурком» (Франсис Вебер),
• «Дон Жуан» (Мольер),
• «Школа мужей» (Мольер),
• «Обгон» (Дино Ризи, Этторе Скола, Руджеро Маккари, Родольфо Сонего),
• «Торжество» (Томас Винтерберг и Могенс Руков),
• «Великая иллюзия» (Жан Ренуар и Шарль Спаак),
• «Зеленая карта» (Питер Вейр),
• «Троянской войны не будет» (Жан Жироду),
• «Гедда Габлер» (Генрик Ибсен),
• «Песочный человек» (Энтони Шаффер или Джозеф Л. Манкевич и Энтони Шаффер),
• «Макбет» (Уильям Шекспир),
• «Мамаша Кураж и ее дети» (Бертольт Брехт),
• «Сотворившая чудо» (Уильям Гибсон или Артур Пенн и Уильям Гибсон),
• «Мизантроп» (Мольер),
• «Ничья земля» (Данис Танович),
• «Странная парочка» (телесериал) (Нил Саймон, Джерри Белсон и Гэри Маршалл),
• «Отелло» (Уильям Шекспир),
• «Где дом моего друга» (Аббас Киаростами),
• «Запах женщины» (Дино Ризи, Руджеро Маккари и Джованни Арпино),
• «Принцип Питера» (Марк Бертон, Джон О'Фаррелл и Дэн Паттерсон),
• «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (Марио Моничелли, Эйдж, Скарпелли и Сузо Чекки д'Амико),
• «Отрава» (Саша Гитри),
• «Родители» (Рон Ховард, Лоуэлл Ганц, Бабалу Мандел),
• «Стальные магнолии» (Герберт Росс и Роберт Харлинг),
• «Погоня» (Артур Пенн, Лилиан Хеллманн и Хортон Фут),
• Pour un oui ou pour un non (Натали Сарро),
• «Пигмалион» (Джордж Бернард Шоу),
• «Далеко по соседству» (Дзиро Танигути),
• «Назад в будущее» (Роберт Земекис и Боб Гейл),
• «Ревизор» (Николай Гоголь),
• «Роберто Зукко» (Бернар-Мари Кольтес),
• «Король Лир» (Уильям Шекспир)
• Série noire (Ален Корно, Жорж Перек, Джим Томпсон)
• «Клан Сопрано» (Дэвид Чейз),
• «Головокружение» (Альфред Хичкок, Алек Коппель, Сэмюэл Тейлор, Буало-Нарсежак)
• «Читай по губам» (Жак Одиар и Тонино Бенаквиста),
• «Соломенная шляпка» (Эжен Лабиш, Марк-Мишель),
• «Виктор/Виктория» (Блейк Эдвардс и Райнхольд Шюнцель),
• «Жизнь других» (Флориан Хенкель фон Доннерсмарк),
• «Эта замечательная жизнь» (Роберто Бениньи и Винченцо Керами),
• «Под звуки меди» (Марк Херман),
• «Пролетая над гнездом кукушки» (Кен Кизи, Бо Голдман, Лоуренс Хаубен и Милош Форман),
• «Путешествие месье Перришона» (Эжен Лабиш и Эдуард Мартен).
I. Основные механизмы
Мне захотелось написать пьесу так, как строят сарай, то есть сначала возвести конструкцию, идущую от фундамента до крыши, еще не зная, что именно там будет храниться… форму, достаточно прочную, чтобы в ней можно было разместить другие формы.
Бернар-Мари Кольтес [103]Форма, которую хотел получить Кольтес, действительно существует. Она позволяет рассказать любую историю, включить в нее любые формы и сделать это любыми желаемыми средствами, подобно тому как в хорошо построенном сарае можно хранить как хлопок, так и тракторы. Вкратце эту форму можно представить в виде следующей схемы:
персонаж – цель – препятствия.
Таков основной принцип драматургии, содержащий все фундаментальные структурные механизмы: характеристики героев, структуру, единство, подготовку. Он следует из сущности драмы – конфликта, который сам же и порождает.
Поскольку существует бесконечное множество вариантов выбора персонажа, его цели и препятствий, эта простая и единственная форма позволяет создать бесконечное количество сюжетов.
1. Конфликт и эмоции
Роль эмоций заключается в том, чтобы помогать организму поддерживать жизнь.
Антонио Дамасио [46]Главная цель – вызвать у зрителя эмоцию, и эта эмоция возникает от того, как разворачивается сюжет.
Альфред Хичкок [82]Даже в этом мире торгашей у некоторых есть чувствительность к несчастьям других, сила сострадания…
Теннесси Уильямс [209]Это сострадание (в смысле сочувствия) обозначает высшую способность к эмоциональному воображению, искусство эмоциональной телепатии. В иерархии чувств оно является высшим чувством.