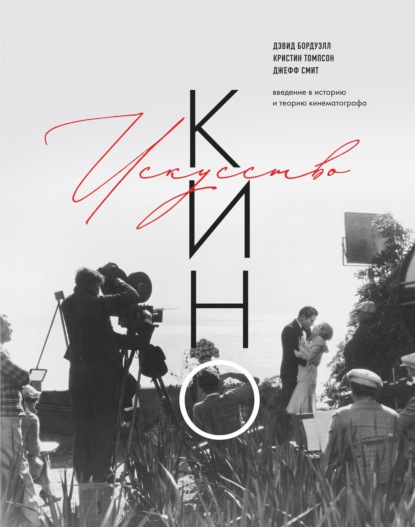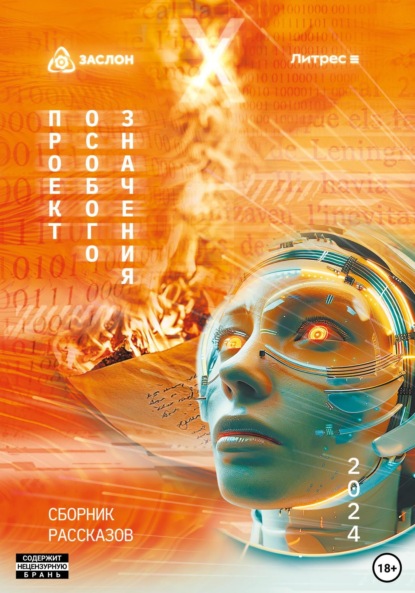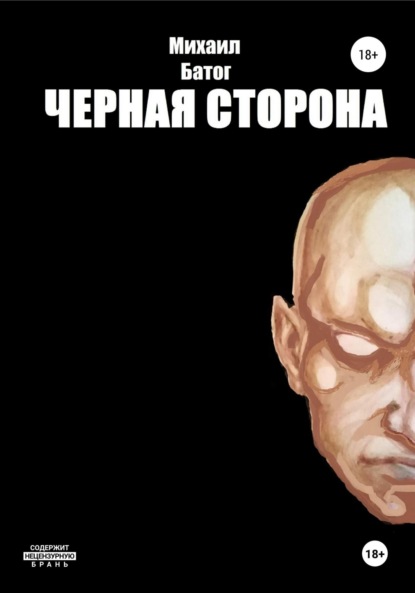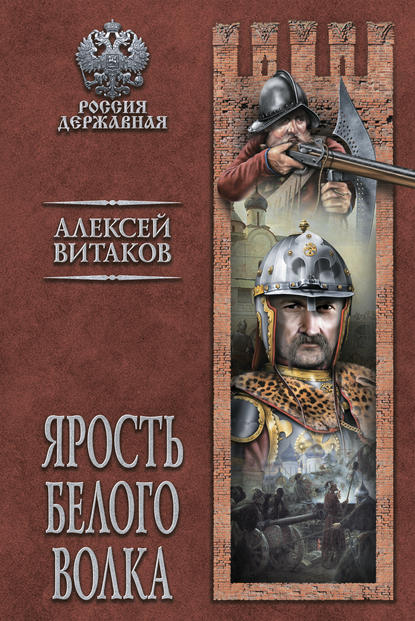Драматургия: искусство истории. Универсальные принципы повествования для кино и театра
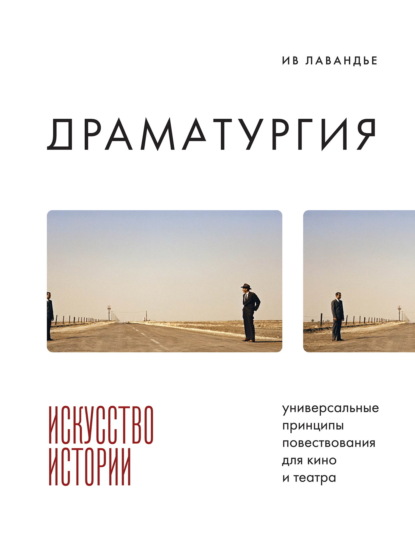
- -
- 100%
- +
В фильме «Займемся любовью» богатый бизнесмен Жан-Марк Клеман (Ив Монтан) пытается соблазнить певичку из музыкального ревю без гроша в кармане Аманду Делл (Мэрилин Монро).
Поскольку она презирает богатых, он заставляет ее поверить, что по профессии он стекольщик. Показывая девушке бриллиантовый браслет, который, как мы знаем, стоит десять тысяч долларов, он говорит, что тот стоит пять. Аманда очень впечатлена. Она отдает драгоценность подруге за пятидолларовую купюру и просит Клемана попробовать достать ей другой браслет. Клеман разочарован.
В фильме «Рожденный 4 июля» Рон Ковик (Том Круз) навещает мистера и миссис Уилсон (Тони Фрэнк, Джейн Хэйнс), сына которых он случайно убил во Вьетнаме. Сцена, в которой он делает это признание, довольно болезненна для всех: Рона, родителей и зрителя.
В фильме «Где дом моего друга» Ахмад (Бабак Ахмадпур) просит у своей матери (Ирана Утари) разрешения выйти из дома, чтобы вернуть тетрадь однокласснику. Мы знаем, что ставки высоки. Мать отказывает и просит сына выполнить домашнее задание, а также помочь ей по хозяйству. Он настаивает, она отказывает. Так продолжается с полдюжины раз. То, что на первый взгляд может показаться утомительным, на самом деле создает непреодолимое напряжение. Подобный конфликт довольно часто встречается у Киаростами: герои просят о чем-то; им отказывают или не отвечают. Вместо того чтобы остановиться на достигнутом или попробовать что-то еще, они снова просят. И, кажется, к шестому или седьмому разу ответ вполне способен измениться.
Эпизод с булочками в «Золотой лихорадке» – не только прекрасное произведение циркового искусства, но и сцена конфликта. Шарло (Чарльз Чаплин) должен исполнить свой номер, чтобы соблазнить любимую женщину. Мало того что это всего лишь сон, но мы догадываемся, что она не придет на назначенное им свидание.
Откровения
В «Царе Эдипе» момент, когда герой наконец осознает, что он убийца, является периодом напряженного конфликта. Так часто бывает в минуты откровения, к которым мы еще вернемся в главе 8, посвященной драматической иронии. Когда Нора («Кукольный дом») понимает, что ее муж эгоистичен и снисходителен, когда Роксана осознает, что автором писем был Сирано («Сирано де Бержерак»), когда цветочница (Вирджиния Черрилл) в «Огнях большого города» узнает своего спасителя (Чарльз Чаплин), эмоции захлестывают.
Сентиментальные разочарования
В «Детях райка» Батист Дебюро (Жан-Луи Барро) разыгрывает на сцене пантомиму, когда замечает за кулисами любимую женщину Гаранс (Арлетти), флиртующую с его другом Фредериком Леметром (Пьер Брассёр).
Он опустошен. Натали (Мария Казарес), которая играет с ним в мизансцене и безответно в него влюблена в жизни, замечает смятение партнера. Она пугается и кричит (в разгар пантомимы!). Эта знаменитая сцена иллюстрирует двойное страдание в любви.
Сентиментальное разочарование – классический пример конфликта. Примеров тому множество. Мы увидим его особенно трогательный вариант (стр. 332) в «Холостяцкой квартирке». Я уже упоминал выше Сирано де Бержерака. В «Двойной жизни Вероники» Вероник (Ирен Жакоб) влюбилась в кукольника (Филипп Вольтер), о котором ничего не знает. Она пытается встретиться с ним снова и получает от него шнурок, который заставляет ее поверить, что кукольник тоже хочет увидеться с ней, и после долгих бесплодных поисков она находит его. Когда Вероник наконец видит его снова, она глубоко взволнована. Мы чувствуем – благодаря Ирен Жакоб, – что сердце героини бьется с частотой 180 ударов в минуту. Она едва сдерживается, чтобы не вскочить и не поцеловать его, но тут кукольник сообщает, что намеревается написать роман и послал ей шнурок, чтобы проверить, сможет ли женщина найти его. Это был просто эксперимент. Вероник падает в обморок. Еще один пример сентиментального разочарования – Сабрина (Одри Хепберн в одноименном фильме). Она встречает Дэвида (Уильям Холден), в которого влюблена, а тот не в силах придумать ничего лучше, чем сказать: «О, это ты, Сабрина! Я думал, что мне послышалось».
Неэффективные конфликты
Случается, что конфликты, возникающие в жизни, порой не имеют драматического эффекта. Так бывает, если их используют не по назначению и ситуация не находит отклика у зрителя, оставляя его равнодушным. Так же происходит, когда сама природа демонстрируемых конфликтов не вызывает эмоций. В предыдущих примерах сцены получились сильными, потому что конфликты (стыд, смущение, разочарование, досада, унижение) были правильно драматизированы. Недостаточно, чтобы конфликт был сильным сам по себе, его нужно еще и хорошо обыграть. «Выбор Софи» – хороший пример конфликта, который, на мой взгляд, испорчен тем, как он представлен. Это тем более прискорбно, что конфликт, о котором идет речь, – унижение, вызванное отрицанием человеческого достоинства, – один из самых жестоких, которые только приходится переживать человеку. По прибытии в лагерь смерти офицер СС заставляет Софи (Мерил Стрип) выбрать, кто из ее двоих детей останется в живых. Эта ужасная сцена не столько показана, сколько обсуждается, так что конфликт носит скорее концептуальный, чем эмоциональный характер, но, что принципиально важно, эпизод появляется в конце фильма как объяснение странного отношения Софи, которое не позволяло зрителю понять ее и, следовательно, разделить ее боль на протяжении большей части фильма. Другими словами, совершенно необходимо, чтобы эмоция переживалась не только одним из персонажей. Автор должен убедиться, что ее испытывает и зритель.
Вот почему скрыть конфликт от зрителя – это «хороший» способ не дать ему его пережить. Другой способ – показать, что человек, который, как предполагается, должен переживать конфликт, на самом деле к нему безразличен. Пощечина, например, не достигнет своей цели, если сценарист забудет показать, как страдает получивший ее человек. Если бы семья в фильме «За нашу любовь» не обратила внимания на обидные слова отца и продолжила спокойно болтать, а не криво улыбаться, зритель не испытывал бы дискомфорта. Если бы Джефф («Окно во двор») потенциально мог помочь Лизе, рискующей своей жизнью в квартире убийцы, тревога зрителя была бы значительно меньше. Именно поэтому такой фильм, как «Парад идиотов» (версия 1992 года), не срабатывает. Его главный герой (Жан Рошфор) становится жертвой различных злоумышленников, но создается впечатление, что это его больше забавляет, чем по-настоящему беспокоит. Если кто и должен забавляться, так это зритель, а не жертва конфликта. Та же проблема и в фильме «Эд Вуд». Главный герой (Джонни Депп), режиссер сериала Z, переживает впечатляющую череду разочарований, но кажется, будто в глубине они его не трогают. В результате зритель не сочувствует персонажу, а просто наблюдает за действием, не вовлекаясь в него. Последний пример: в «Сообщении Адольфу» персонаж по имени Сохей подвергается жестоким пыткам со стороны японской тайной полиции (дело происходит в конце 1930-х годов). К сожалению, Сохей – умница, или, может быть, таков его создатель Осаму Тэдзука. Получив жестокий удар, Сохей с окровавленным лицом говорит: «Вы ошибаетесь, я мечтаю о супе с лапшой». Или: «Я все равно предпочитаю это тому, что попробовал в гестапо…» Эти неуместные фразы полностью снижают накал конфликта и даже делают сцену невероятной. Сомневаюсь, что в самый разгар пыток даже у величайшего комика планеты хватило бы присутствия духа и силы характера, чтобы сказать: «Даже неплохо! Биск, суп-пюре, ярость…»
Г. Механизм конфликта
Основной принцип драмы
Конфликт означает противодействие или столкновение с препятствием, которым может быть человек, предмет, ситуация, черта характера (недостаток, но иногда и положительное качество), случайный поворот судьбы, природное явление и т. д., а порой даже чувство или ощущение.
Но все эти причины конфликта сами по себе не способны служить препятствиями. Например, стена – это препятствие для того, кто хочет перебраться на другую сторону, но не для того, кому нужно прислонить к ней лестницу. Обжорство – препятствие для того, кому нужно сесть на диету, но не для того, кто не набирает вес. И если можно утверждать, что рак – препятствие для всех, то лишь потому, что никто не хочет страдать.
Таким образом, препятствие определяется по отношению к воле, желанию, потребности или стремлению. Личность, объект, черта характера, ситуация, чувство являются препятствиями только потому, что они противостоят тому, что мы будем называть целью. Именно так возникает конфликт: когда наличествует противостояние между целью и препятствием.
Что касается цели, то, по логике вещей, она относится к тому, кто переживает конфликт: человеку, животному или тому, кто их замещает, – короче говоря, к персонажу. Таким образом, анализируя конфликт, мы только что раскрыли основную цепочку драмы:
персонаж – цель – препятствие – конфликт – эмоция.
Персонаж стремится достичь цели и сталкивается с препятствиями, что порождает конфликт и вызывает эмоции как у персонажа, так и у зрителя.
Универсальный принцип
Каким бы ни был персонаж, какой бы ни была цель и препятствия к ее достижению, интересно отметить, что, согласно этому принципу, самая первая возникающая эмоция – разочарование (или, по крайней мере, неудовлетворенность). Желание и невозможность немедленно получить что-то – вот причина фрустрации. Это чрезвычайно сильное чувство, которое способен понять и, соответственно, испытать каждый человек. Именно таково первое негативное чувство, которое переживает младенец. Когда ребенок начинает ощущать голод, его мама редко стоит наготове, чтобы покормить его грудью. Обычно об этой необходимости ее оповещает детский плач, и проходит некоторое время, прежде чем мама начинает кормить малыша. Между моментом, когда ребенок чувствует потребность в еде, и моментом, когда его потребность удовлетворяется, он испытывает два чувства: сначала разочарование, а затем тревогу. Так происходит потому, что младенец представляет себе самое худшее и боится, что его потребность никогда не будет удовлетворена. На самом деле, один из самых страшных страхов ребенка – оказаться брошенным.
Нет нужды говорить, что чувство разочарования не спешит покидать человека. Мы проводим жизнь, желая получить то, чего у нас нет, или, что еще хуже, чего быть не может.
Речь необязательно о вещах, но и о профессии, романтических отношениях, внутреннем покое и т. д. По Фрейду [64], противопоставление человеческих желаний реальности или моральному сознанию создает психическую энергию, которая является источником серьезного напряжения. Подавление этой энергии избавляет человека от напряжения и фрустрации, но не решает всех проблем. Более того, оно способно даже вызвать побочные эффекты.
Поэтому легко понять причину универсальности и демократичности этого великого движущего принципа драматургии (персонаж – цель – препятствия). «Достаточно» взять персонажа, поставить ему цель и – не забудьте – создать на его пути препятствия, чтобы каждый житель планеты сразу понял, что тот чувствует, и, следовательно, заинтересовался бы им. Другими словами, если ситуация или характер персонажа могут сделать его концептуально универсальным, то цель и препятствия делают его эмоционально универсальным, что гораздо эффективнее.
N. B. Слово «достаточно» здесь стоит в кавычках, потому что эта операция, которая выглядит довольно простой, очевидно, требует работы и определенных навыков.
Конфликт и драма, драма и конфликт
Вместо того чтобы начинать с вездесущности конфликта, я мог бы начать книгу, собственно, с определения слова «драматургия»: это имитация человеческих действий. Затем я бы отметил, что в основе любого действия лежит намерение, импульс – короче говоря, цель, и у этой цели обязательно есть владелец (персонаж), а ее достижение может быть легким или трудным. Поскольку первый случай не представляет особого интереса для зрителя, я бы сделал вывод, что драма – это рассказ о персонаже с труднодостижимой целью, которая порождает конфликт и вызывает эмоции.
Так что я бы пришел к такому же выводу. Единственный небольшой недостаток этой отправной точки состоит в том, что она недостаточно акцентирует конфликт, который, как мы уже видели и еще увидим, является жизненно важным инструментом. Всем известны знаменитые слова мистера X (Жана Габена, Говарда Хоукса или Дэррила Занука, в зависимости от источника): «Чтобы сделать великий фильм, нужны три вещи – сценарий, сценарий и еще раз сценарий»[18]. Это забавно и напоминает некоторым режиссерам о том, что им стоило бы уделить больше внимания работе со сценарием, но для сценариста фраза не слишком полезна, поскольку не помогает ему сдвинуться с мертвой точки. В основе хорошего фильма лежит хорошая история, но что такое хорошая история? Преимущество конфликта в том, что он служит первым приходящим в голову ответом.
Чтобы написать хорошую драматическую историю, вам нужны три вещи: конфликт, конфликт и еще раз конфликт. Желательно динамичный.
Что превыше всего: цель или препятствие?
Подчеркивание важности конфликта тем более оправданно, что конфликт и эмоции чаще всего предшествуют действию. Правда, иногда у персонажа изначально есть цель, а препятствия к ее реализации появляются позже. Например, герой что-то ищет, но это что-то спрятано. Обратный порядок – «раз что-то спрятано, я буду это искать» – не имеет смысла. Однако чаще всего именно конфликт или препятствие порождают цель, а значит, и действие. В таком случае цель (на начальном этапе) всегда одна и та же: избежать конфликта. Так происходит с человеком, который внезапно узнает, что у него рак. Эта реактивная цель может затем привести к другим препятствиям, отличным от тех, которые ее породили.
Если конфликт стоит на первом месте, то, вероятно, потому, что мы лучше умеем лечить или подавлять, чем предотвращать, и профилактикой мы занимаемся обычно для того, чтобы избежать проблемы. Следовательно, нами движет страх, а раз так, то на первом месте стоит эмоция.
Специфические конфликты
В процессе достижения цели персонажи могут вовлекаться в конфликт, не связанный с противостоянием между целью и препятствием. В фильме «Жизнь Галилея» ученый сталкивается с опасностью чумы. Это порождает конфликт, не имеющий отношения к цели, которая заключается в общественном признании его теорий. Он просто подчеркивает, насколько Галилей стремится достичь своей цели.
В сцене из фильма «Холостяцкая квартирка» Си Си Бакстер (Джек Леммон) пытается защитить Фрэн (Ширли Маклейн). Для этого он притворяется хамом и в результате получает удар по лицу от шурина Фрэн (Джонни Севен). Так проявляется конфликт, очевидно, не имеющий прямого отношения к его цели (защитить Фрэн). На самом деле, протагонист достигает этой цели в тот самый момент, когда получает пощечину. Аналогично, в других моментах фильма упреки квартирной хозяйки (Фрэнсис Вайнтрауб Лакс) и соседа (Джек Крушен) вызывают у Бакстера конфликт, но не мешают ему достичь главной цели – соблазнить Фрэн.
В фильме «Град камней» Томми (Рики Томлинсон) – безработный, а его дочь Трейси (Джеральдин Уорд) неплохо зарабатывает на жизнь продажей косметических средств.
Однажды, столкнувшись с бедой своего отца, Трейси предлагает ему немного денег. Томми отказывается, чувствуя себя неловко, но она настаивает. Он взял деньги, а потом, как только дочь ушла, разрыдался.
В фильме «Тутси» Майкл Дорси (Дастин Хоффман) – безработный актер, который переодевается в женщину, чтобы иметь возможность работать. Он влюбляется в свою коллегу Джули (Джессика Ланж). Эта невозможная любовь причиняет ему боль, но не является непосредственным препятствием на пути к цели. То, что он любит Джули, не мешает ему работать. Он даже может попытаться соблазнить Джули в нерабочее время, когда он не переодет в женское платье, – что Дорси однажды безуспешно делает, и что при схожих условиях в течение долгого времени проделывает Джо (Тони Кертис) в фильме «В джазе только девушки».
Хотя подобный вид конфликта (иногда статичный, иногда динамичный) не связан напрямую с целью персонажа, он не лишен смысла. В действительности он выполняет четыре важные функции:
1. Привлекает внимание зрителя, как и любой конфликт.
2. Вызывает сочувствие зрителя к персонажу, усиливая эмоции.
3. Испытывает волю персонажа к достижению цели и через реагирование показывает его решимость.
4. Направлен на определенную черту персонажа, которая, вероятно, будет трансформирована.
2. Протагонист – цель
Каждое действие должно иметь определенную цель.
Г. В. Ф. Гегель [080]С послезавтрашнего дня я буду вести себя так, как будто покойный никогда не жил в этом доме. Здесь не останется никого, кроме моего сына и его матери.
Миссис Алвинг, «Вернувшиеся»Я люблю Гвендолин. Я приехал в город только для того,
чтобы попросить ее выйти за меня замуж.
Джек, «Как важно быть серьезным»Они хотят, чтобы ты завладел Ковчегом до того, как он достанется нацистам.
Маркус (Денхолм Эллиотт), «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»В тот день я принял решение. Чего бы мне это ни стоило, я должен был остановить исчезновение моего отца. У меня были на это силы и возможности.
Хироси, «Далеко по соседству»А. Определение и свойства
Мы будем называть протагонистом (от греческого prôtos – первый и agônizesthai – борющийся или страдающий) персонажа драматического произведения, который переживает наиболее динамичный конфликт, и, следовательно, именно с ним зритель в наибольшей степени отождествляет себя. Чаще всего этот конфликт очень специфичен. Иногда его называют центральным конфликтом. Именно потому у главного героя обычно есть одна и только одна цель, которую он пытается достичь на протяжении всей истории и на пути к которой встречает препятствия. Его попытки и трудности в достижении этой цели определяют ход сюжета, который мы называем действием.
Протагонист также, вероятно, является персонажем, с которым больше всего отождествляет себя автор. Поскольку он одновременно и персонаж, с которым максимально идентифицирует себя зритель, протагонист служит одним из важнейших связующих звеньев между автором и зрителем.
Другие критерии
Для некоторых теоретиков протагонист – это, по определению, движущая сила действия, тот, кто движет повествование вперед. Такой критерий очень часто перекликается с предложенным выше, но не всегда. В «Отелло» движущей силой действия является Яго, в фильме «Склока» движущая сила – Детрит, в «Дуэлянтах» – Феро (Харви Кейтель), в киноленте «Поменяться местами» – братья Дьюк (Ральф Беллами, Дон Амече). Но они явно не являются протагонистами. Не они переживают наибольший конфликт и не с ними отождествляет себя зритель. Таким образом, в нашем определении протагонист существует в двух вариантах: он может быть либо активным (и в этом случае он является движущей силой действия), либо пассивным.
Важно, чтобы протагонист был активным или пассивным. Это не персонаж, который переживает больше всего конфликтов, а тот, который переживает наиболее динамичный конфликт. Вернемся к примеру с «Белыми дюнами» (см. стр. 47). Совершенно очевидно, что наибольший конфликт переживает муж (Барри Салливан), поскольку ему грозит опасность утонуть через несколько часов. Но он не является протагонистом фильма, потому что абсолютно бессилен, его конфликт статичен. Протагонист «Белых дюн» – жена (Барбара Стэнвик), пытающаяся его спасти. Она активна и единственная, кто способен изменить ситуацию. Тот же принцип прослеживается и в киноленте «Тропы славы». Больше всего конфликтов переживают три солдата (Тимоти Кэри, Ральф Микер, Джо Теркел), которые, например, рискуют быть расстрелянными. Их арестовывают, но их конфликт статичен. Единственный, кто обладает хоть какой-то властью, – их адвокат, полковник Дакс (Кирк Дуглас).
Обязательно ли протагонист меняется в ходе развития сюжета? Есть еще один спорный критерий определения, на который часто ссылаются американские теоретики: протагонист – это персонаж, который меняется психологически (обычно в лучшую сторону). Повторюсь, иногда так и происходит, но есть слишком много исключений, чтобы считать это правилом. Начнем с того, что существует множество произведений, включая комедии или эпизоды сериалов, в которых не меняется ни главный герой, ни любой другой персонаж. Главные герои фильма «Голубь» в конце остаются такими же невежественными, как и в начале. Не меняются главные герои «Ничьей земли», «Макбета», «Детей райка», «Взвода» или «Жизни Галилея».
Кроме того, случается, что трансформации подвергается не главный герой, а другой персонаж. В «Антигоне» главная героиня остается верна своим убеждениям до самой смерти, а ее антагонист Креон в конце смягчается. В «Школе жен» Арнольф – неуклюжий и властный сексист до самого финала, а Аньес превращается из бесхитростной в жестокую. В «Тартюфе» единственный персонаж, который меняется, – Оргон: он превращается из слепого в ясновидящего. В фильме «Пролетая над гнездом кукушки» протагонист Макмерфи (Джек Николсон) с самого начала бунтует и заканчивает бунтарем. В то время как Вождь (Уилл Сэмпсон) начинает с покорности, а заканчивает освобождением. В «Истории игрушек» протагонистом выступает Вуди, но персонаж, который развивается, – Базз. В начале истории он считает себя спасителем галактики. В середине он понимает, что он всего лишь игрушка. В фильме «Приключения Флика» протагонист – Флик, а Дот – персонаж, который эволюционирует. «Сначала мы думали, – рассказывает Эндрю Стэнтон [178], – что характер Флика должен меняться на протяжении фильма. Но когда я писал сценарий, то понял, что это неверная динамика. Не протагонист меняется, а он меняет мир всех остальных персонажей». Можно привести и другие примеры:
• «Бейб», где протагонист – поросенок Бейб, а Рекс – персонаж, который эволюционирует. Точнее, Бейб развивается социально, а Рекс – психологически;
• «Милионер поневоле», в котором протагонист – Дидс (Гэри Купер), а Бэйб (Джин Артур) – персонаж, который развивается;
• «Окно во двор», где протагонист – Джефф (Джеймс Стюарт), а Лиза (Грейс Келли) – персонаж, который эволюционирует;
• «Зарубежный роман», где протагонистом является Джон (Джон Лунд), а развивающийся персонаж – Фиби (Джин Артур);
• «Жизнь других», где протагонист— драматург (Себастьян Кох), а меняющийся персонаж – капитан Штази (Ульрих Мюэ).
В большинстве сериалов протагонист не развивается ни на йоту, поскольку должен оставаться прежним до следующего эпизода. «Отчаянные домохозяйки» ехидно жонглируют этим правилом. Во многих сериях протагонисты проходят через небольшое испытание, в конце которого они приходят к необходимому осознанию и меняют свое отношение к происходящему. Если бы сериал остановился на этом моменте, можно было бы сказать, что героини эволюционировали. Но в следующем эпизоде природа снова дает о себе знать, и наши милые Сизифы вновь отправляются штурмовать гору.
Короче говоря, наступает момент, когда исключений становится так много, что они не подтверждают правило, а опровергают его. Другие примеры и другие наработки на эту тему читатель найдет в главе 4 «Построение сюжета» [111], полностью посвященной внутренней траектории.
Главный герой, протагонист и заглавная роль
С моей точки зрения, главный герой повествования – это персонаж, соответствующий теме произведения. Так, Тартюф, набожный лицемер, является главным героем пьесы «Тартюф», которая стремится обличить лицемерие. Очевидно, что Тартюф не является ее протагонистом. Робот в исполнении Арнольда Шварценеггера – главный герой «Терминатора» и… его антагонист.
Таким образом, протагонист – это необязательно самый важный персонаж в произведении или заглавный герой, хотя, конечно, часто так и бывает. Альцест («Мизантроп»), Антигона, гражданин Кейн, Сирано де Бержерак, Дон Жуан, Фауст, безумная из Шайо, Галилей, Гамлет, Медея, Мамаша Кураж, Месье Верду, Эдип («Царь Эдип» или «Эдип в Колонне», Отелло, Пер Гюнт, король Лир и т. д. – главные герои произведений, названных по их именам.
Случай с «Похитителями велосипедов» сложнее, ведь протагонист не вор, а Антонио Риччи (Ламберто Маджорани), рабочий, у которого в начале фильма крадут велосипед. Но в финале Риччи сам совершает кражу. Становится ли он вором из названия фильма?
Фильм «Федра» назван по имени протагониста, в то время как пьеса Еврипида, по которой снят фильм, называется по ее сюжету – «Ипполит». Пьеса Расина, на написание которой у него ушло более двух лет, первоначально называлась «Ипполит». Затем она называлась «Федра и Ипполит» и наконец просто «Федра». Сравнение этих двух пьес интересно не только в плане названия. В пьесе Еврипида Федра и Ипполит переживают почти такой же конфликт: сначала Федра страдает от любви к зятю, затем Ипполита обвиняют в том, что он обесчестил свою тещу. Расин явно сделал выбор: больше всех страдает Федра. Именно поэтому ее смерть наступает не в середине пьесы перед смертью Ипполита (как у Еврипида), а в конце.