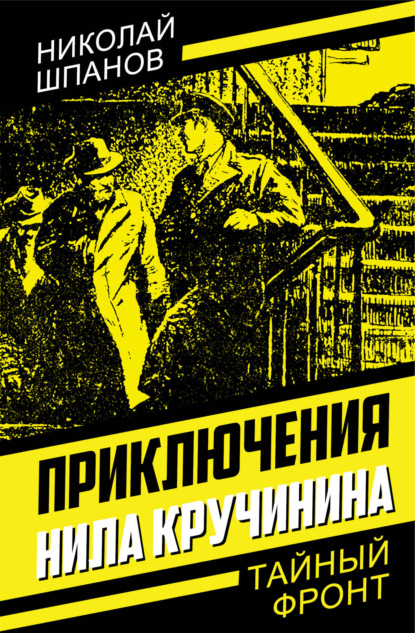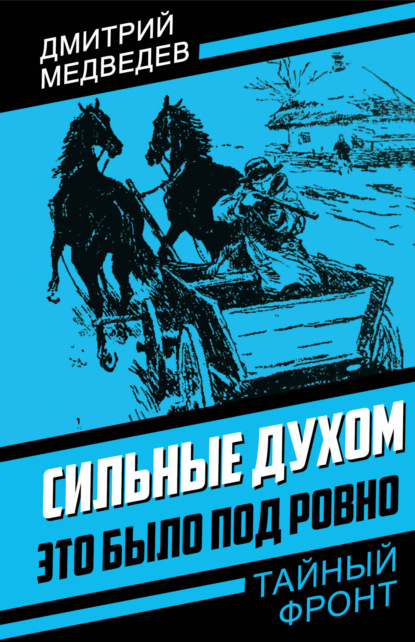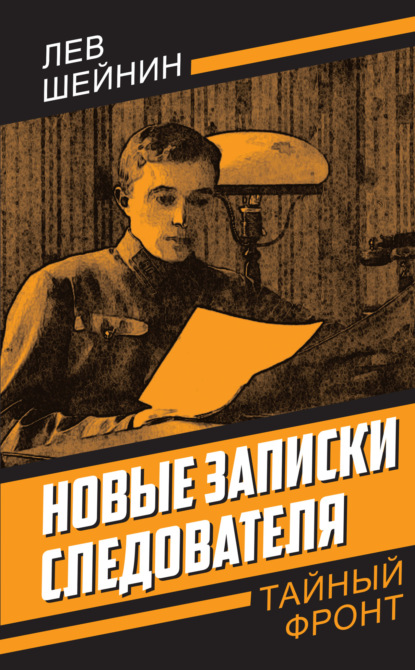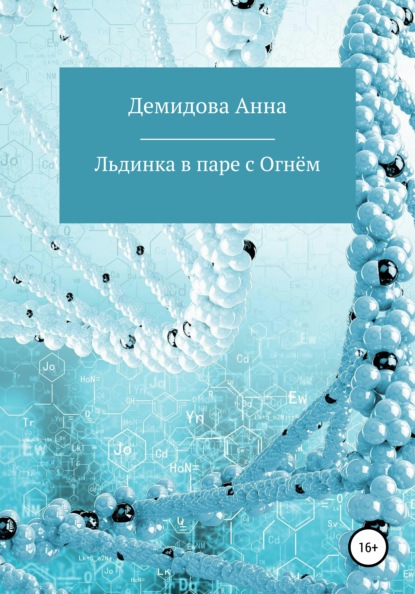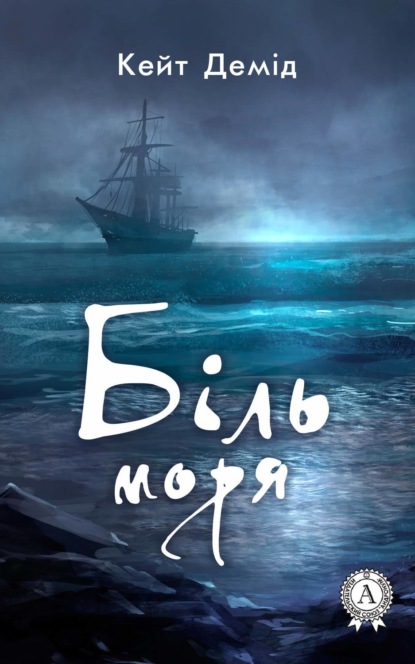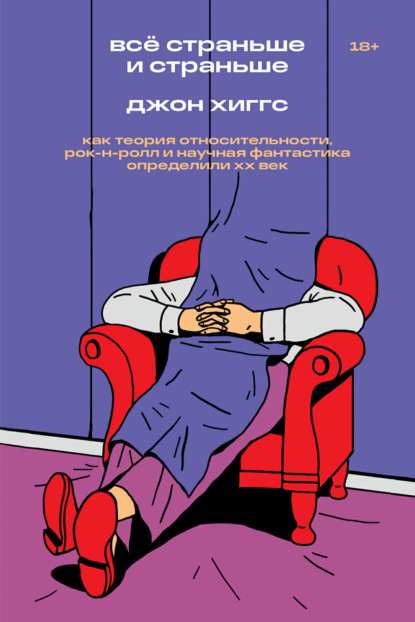Данные достоверны
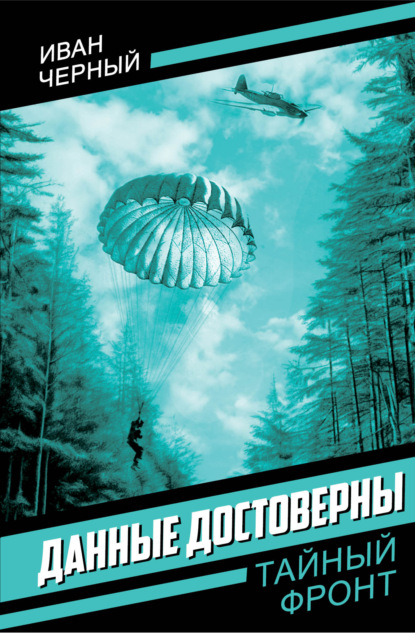
- -
- 100%
- +
Затем члены комиссии задали несколько вопросов.
Я ответил.
Председатель, вертя в руках карандаш, спросил:
– Куда бы вы хотели попасть, товарищ капитан?
– А куда дальше фронта сейчас попасть можно? – спросил я в свою очередь.
Председатель приподнял бровь. Члены комиссии улыбались.
– Подождите в приемной, – сказал председатель.
Я повернулся налево кругом и вышел.
В приемной раскуривал папиросу старый знакомый – Гриша Харитоненко. Увидел меня – отбросил спичку, раскинул объятия.
– Послушай, Гриша, не знаешь, что мне прочат?
Гриша вытаращил глаза:
– Как?! Ты не в курсе?! – покосился на дверь мандатной комиссии, дохнул в самое ухо. – В тыл противника полетишь!
Осведомленность Гриши помогла мне выслушать решение комиссии с относительным спокойствием.
* * *На той же даче, где я отдыхал и переодевался, началась подготовка к выполнению будущего задания.
Наставниками моими были опытные, до тонкости знающие свое дело люди – полковник Николай Кириллович Патрахальцев и его заместитель подполковник Валерий Сергеевич Знаменский.
Н. К. Патрахальцева я раньше не знал. Помнится, ходили фантастические рассказы о прошлом полковника.
Со временем: я убедился, что многое в этих рассказах было правдой.
Во всяком случае, правдой было то, что Николай Кириллович всегда оказывался там, где пахло порохом.
Судьба бросала его то на Дальний Восток, то в песчаные пустыни Монголии, то на берега Средиземного моря, в оливковые рощи и горы республиканской Испании, то в болота Полесья…
Колоссальный опыт работы Николай Кириллович передавал ученикам настойчиво и умело.
Он имел привычку, обрисовав обстановку, спрашивать, как бы поступил ученик в данном конкретном случае.
Сосредоточенно выслушивал ответ и, если не был удовлетворен, опускал голову на руки, прикрывал глаза и спокойно, как бы рассуждая вслух, давал нужные объяснения.
Валерий Сергеевич Знаменский, высокий, подвижный, внешне выглядел полной противоположностью невысокому, полноватому Патрахальцеву. Но и Знаменскому опыта было не занимать. За успешные действия в тылу противника он был удостоен звания Героя Советского Союза.
17 июля 1942 года общая подготовка закончилась.
Однако я все еще не знал, для выполнения какого задания меня готовят, и мог только гадать, где окажусь в скором времени.
Лето стояло жаркое, пыльное. В голосе Левитана, читавшего сводки информбюро, еще не звучало торжество. Ленинград задыхался в кольце блокады. Войска Волховского фронта, понеся большие потери, не смогли прорваться к городу Ленина. На Центральном участке линия фронта замерла в двухстах километрах от Москвы. Наше наступление под Харьковом остановилось: противник перехватил стратегическую инициативу и начал наступление на юге, рвался через донские степи к Волге, намереваясь отрезать страну от кавказской нефти.
Может, вскоре я окажусь где-нибудь там, вблизи родных донских степей?..
Мои сомнения разрешились 20 июля.
При очередной встрече Николай Кириллович Патрадальцев сказал, что я буду заброшен в Белоруссию, в район старой государственной границы, к партизанам Григория Матвеевича Линькова.
На стол легла карта-двухверстка.
Я увидел характерные штришки, обозначающие болота с редким кустарником и островками леса.
Через штришки тянулась надпись: «Урочище Булево болото».
С востока к Булеву болоту прилегала овальная голубизна – озеро Червонное, с юга – голубое пятнышко поменьше – озеро Белое.
На западе и юго-западе урочище обтекала густая зеленая краска, – видимо, дремучие непроходимые леса, тянувшиеся до голубовато-белесой ленточки реки Случь.
Красный карандаш руководителя поставил на западной окраине Булева болота, неподалеку от деревни Восточные Милевичи, маленький крестик.
– База Линькова, – объяснил Патрахальцев. – Понимаешь, почему сюда передислоцирован отряд?
Я смотрел на карту.
База располагалась в глубине Пинских болот. В таких топях и чащобах противник не может действовать против партизан крупными соединениями, используя свое превосходство в живой силе и технике. Очевидно, Центр учитывал это, перебрасывая отряд Линькова под Милевичи.
Но Центр, конечно, учитывал и другое, главное: район действия отряда покрывала густая сеть шоссейных и железных дорог.
Северо-западнее базы тянулась магистраль Брест – Барановичи – Минск – Смоленск – Москва.
В Барановичах от нее ответвлялась дорога на Луцк и Могилев.
Южнее базы, как по линейке вычерченная, летела магистраль Брест – Пинск – Лунинец – Микашевичи – Житковичи – Мозырь – Гомель.
Через те же Барановичи и Лунинец шла магистраль, связывающая Ленинград и Ровно.
В Сарнах эту крупнейшую рокаду гитлеровцев пересекала железная дорога Брест – Ковель – Киев.
Из Бреста выходили шоссе на Москву и Ковель.
Именно по этим магистралям и шоссе устремлялся основной поток фашистских военных перевозок, именно эти дороги использовали гитлеровцы, маневрируя своими резервами.
Со своей базы партизаны Линькова могли наносить удары по главным коммуникациям врага, уничтожать вражеские эшелоны, прерывать движение железнодорожных составов.
– Все правильно, – кивнул Патрахальцев, выслушав мои соображения, – Линьков так и действует. Его подрывники немцам в печенку въелись… Но сейчас важнее всего – разведка! Смотри, какие тут «пауки» сидят…
Остро отточенный карандаш моего наставника быстро перемещался по карте, вонзаясь в толстые кружочки железнодорожных узлов, выпустивших во все стороны извилистые линии путей, похожих на паучьи лапки.
– Брест, Барановичи, Лунинец, – называл Патрахальцев эти кружочки, – Ковель, Сарны, Микашевичи, Житковичи… Крупнейшие города, большие населенные пункты! Наверняка в каждом имеется гарнизон, фашистские учреждения, возможно, штабы. На каждом узле – депо, где ремонтируют паровозы и подвижной состав, в городах – предприятия, используемые гитлеровцами в военных целях. Где-то здесь находятся и важнейшие аэродромы немцев… Ясно?
– Ясно, товарищ полковник!
– Всех «пауков» возьмете под особый контроль. Ни один эшелон не должен пройти через «паука» незамеченным. Обнаружите состав – и провожайте по всему району, следите, куда свернет… Но для этого вам с Линьковым придется иметь людей не только на крупнейших узлах, но и на каждой промежуточной станции.
Ветерок шевелил карту.
Район, указанный Патрахальцевым, по площади равнялся примерно Франции, и лететь туда предстояло в ближайшее время не кому-нибудь, а мне.
Выслушивая решение комиссии на Арбатской площади, я представлял свое будущее несколько иначе…
– Что-нибудь непонятно? – спросил Патрахальцев.
– Нет, все понятно, товарищ полковник… А что, отряд Линькова ведет уже разведку?
– Видишь ли, Линьков по образованию военный инженер, выброшен Центром в район Лепеля в августе прошлого года, создал крепкий партизанский отряд, но отряд этот нацелен на диверсионную работу.
– Как давно Линьков базируется на Червонном озере?
Руководитель понял затаенный смысл моего вопроса.
– Недавно. И вряд ли он успел установить тесную связь с населением.
Я молчал, разглядывая карту.
Ладонь Патрахальцева накрыла район Булева болота.
– Слушай внимательно, – сказал наставник. – Опыт показывает, что тебе сразу же придется столкнуться с рядом трудностей. Обычно в партизанских отрядах нет людей, знакомых с методами сбора данных о противнике. Ты не найдешь таких людей и в отряде Линькова.
– Понимаю.
– Дальше. В некоторых партизанских формированиях недооценивают роль этой работы. Может быть, и ты столкнешься с подобным.
– Но Линьков получил соответствующие указания?
– Получить-то он их получил. Да ведь в отряде не один Линьков… Тебе предстоит убедить партизан в важности этого дела, увлечь их. Опыт показывает, что партизаны предпочитают взрывать эшелоны, а не вести разведку.
Я пожал плечами:
– Их же не учили.
– Да. Их не учили. А научить надо. И не только научить. Надо перестроить всю работу линьковского отряда. Главной задачей отряда должен стать сбор данных о противнике.
– Понимаю.
Патрахальцев опустил голову на руки, прикрыл глаза.
– Немецкие войска находятся на нашей территории, среди наших, советских людей, оказавшихся, к несчастью, в оккупации, – сказал он. – Возможности партизанского движения огромны. А мы не используем ситуации в полной мере, так, как могли бы. Мы отстаем в темпах насаждения наших людей в административном аппарате гитлеровцев, во вражеских формированиях, в среде персонала, обслуживающего железные дороги, предприятия, аэродромы… Отстаем. А не должны отставать!
Я слушал.
– И не только отстаем, – продолжал мой наставник. – Даже там, где удается развернуть работу, мы допускаем непростительные ошибки. Подчас действуем по шаблону с ограниченным количеством людей. Держим их поблизости от партизанских баз, и наши разведчики обеспечивают, по сути дела, тот или иной отряд, а не Красную Армию, которую должны обеспечивать. Партизаны до сих пор не научились создавать разведывательные группы. Про связь и говорить не приходится. Связь обычно настолько плоха, что даже добытые данные поступают с большим опозданием и теряют ценность. Да и в конспирации товарищи слабы. Оттого – частые провалы.
– Учту сказанное вами…
Мы еще долго говорили в тот день. Я получил точные и исчерпывающие указания относительно будущей работы. Меня предупредили, что на первых порах лучше ограничить число товарищей, занятых разведкой, чем набрать десятки их и оказаться перед угрозой провала: ведь плохо работающие разведчики обычно легко становятся жертвой противника.
Разведгруппы предложили создавать в количестве не более пяти-семи человек. Связь между разведчиками должна была осуществляться главным образом через «почтовые ящики». Лишь в исключительных случаях допускалась возможность личных встреч.
Мне посоветовали каждый раз ставить людям ясные, конкретные задачи.
Предостерегли от возможной потери связи из-за передислокации отряда и указали, как ее предупредить.
Обязав организовать наблюдение за противником, напомнили о важности захвата пленных и документов в боевых операциях, о важности тщательнейшего допроса пленных…
Я записал все указания полковника Патрахальцева, чтобы на досуге продумать их. Мне было совершенно ясно: работая, придется учиться самому…
– Ты полетишь на Червонное озеро заместителем Линькова по разведке, – сказал Николай Кириллович. – Но отдельные указания получать будешь не от Линькова, а от нас.
– Как я буду поддерживать связь с вами?
– Связь с Центром – через радиоузел, который уже выброшен к Линькову. Начальник узла – Семен Скрипник. С ним трое радистов.
– Знаком со Скрипником.
– Есть еще вопросы?
– Да. Сколько человек в отряде Линькова?
– Человек сто. На Центральной базе около Булева болота и на ближайших к ней – человек пятьдесят. Остальные – на озере Выгоновском под командованием комиссара Бринского.
– Состав отряда?
– Разношерстный. Часть людей – десантники, выброшенные вместе с Линьковым, остальные – из бойцов и командиров, оказавшихся в окружении. Есть и местные жители.
– Ясно… Район предстоящих действий находится к западу от бывшей государственной границы. Известна ли обстановка в этом районе?
– Связи с местными партизанскими отрядами нет.
Ответ был ясен, но неутешителен. В областях Западной Белоруссии, только в тридцать девятом году освобожденных от панского ига, могли найтись и националисты, и предатели.
Патрахальцев угадал причину моей задумчивости.
– Народ везде одинаково ненавидит оккупантов, – сказал он. – И везде не забывает о своей власти. Ты найдешь партизан и в Западной Белоруссии.
– В этом я не сомневаюсь!
– Тем лучше. А теперь – берись за изучение карты…
Я изучил карту района предстоящих действий так, что мог с закрытыми глазами представить положение каждого населенного пункта, болота, леска, каждой речки и речушки.
В память врезались изгибы шоссейных и железных дорог, тянувшихся от Барановичей до Ровно и от Бреста до Мозыря.
Было тревожно. Действовать предстояло в огромном районе. Никогда не был я в глубоком тылу противника и не организовывал разведывательной работы.
Как-то удастся «насадить» в занятых врагом городах и на железнодорожных узлах разведчиков? Как-то они будут действовать?
Я старательно повторял пройденное: с чего начинать дело, как строить взаимоотношения с людьми, как переключать разговор в нужном для разведчика направлении, на какие особенности формы перевозимых фашистами войск и на какие детали транспортируемого вооружения обращать внимание в первую очередь, по каким пунктам составлять сводки для Центра…
Одновременно я принимал участие в подготовке к вылету в тыл противника: комплектовал грузы, проверял оружие, боеприпасы, питание для раций, взрывчатку.
Все это заняло еще около месяца.
Однажды наша повариха Митрофановна принесла подарок – ложку и вилку.
– Спасибо, но зачем? – засмеялся я. Митрофановна ворчливо отмахнулась:
– Бери, бери! Пригодятся!
Уходя из столовой, я поймал ее грустный и теплый взгляд.
Видимо, старушка отлично разбиралась в сроках подготовки, существовавших на «даче», потому что вскоре был назначен мой вылет.
Случилось это во второй декаде августа 1942 года.
На Центральный аэродром меня и провожавших доставила грузовая машина.
Вечерело. Погода держалась отличная. Самолет ЛИ-2 стоял на взлетной полосе, ожидая погрузки.
Мы подкатили на грузовике прямо к самолету.
Перетаскать из машины в ЛИ-2 двенадцать огромных мешков оказалось нелегким делом.
Трудились все – и экипаж самолета, и мои наставники.
Старшина, инструктор парашютнодесантной службы, помог мне надеть десантный парашют, подогнал лямки по толстой десантной куртке. Убедился, что все в порядке, и отдал рапорт Патрахальцеву.
– В самолет! – приказал Николай Кириллович. Но перед тем как я начал карабкаться в ЛИ-2, он подошел и, глядя в глаза, крепко-крепко пожал мне руку.
Пожали мне руку и остальные провожающие.
Я повернулся и полез по железной лесенке в зияющий провал самолетной дверцы…
С этой минуты я должен был забыть на время свою фамилию.
Заревели моторы.
Самолет побежал по летному полю, вздрогнул, земля накренилась, начала уходить вниз…
Глава 3
Сидя на жестком брезентовом мешке с грузом, я огляделся.
Экипаж самолета занимал свои места: пилот, Герой Советского Союза Еремасов, штурман и радист сидели в кабине командира корабля, инструктор парашютнодесантной службы, по совместительству стрелок, прильнул к пулеметной турели.
Я был предоставлен самому себе.
Корпус самолета вибрировал, в ушах гудело, по фюзеляжу плыл еле уловимый сладковатый запах бензина, – наверное, «благоухал» запасной бак с горючим на пятьсот литров, помещенный вдоль одного из бортов.
Становилось жарко, и я сначала расстегнул, а потом и вовсе снял толстую, ватную, с меховым воротником десантную куртку.
Хотелось спать.
Я отлично выспался прошлой ночью, и тем не менее, спать хотелось.
Мысль о том, что пассажирский самолет практически почти беззащитен против фашистских истребителей, что нам еще предстоит перелететь линию фронта, где может случиться всякое, оставляла меня равнодушным.
Опасность осознаешь уже после того, как она минула…
И я не стал противиться искушению.
Бросил куртку на запасной бак с горючим, забрался туда сам, улегся на правый бок, зажмурил глаза и заснул.
Заснул почти мгновенно, как в яму провалился…
Разбудил меня холод.
Самолет натужно ревел, пробиваясь в облаках ночного неба, а за окнами машины внезапно и беззвучно расцветали пышные букеты огня.
Вероятно, мы пересекали линию фронта, и нас обстреливали.
Я слез с бака, пробрался к кабине командира.
Штурман подтвердил, что проходим линию фронта в районе Орла.
– Какая высота? – крикнул я.
– Три тысячи метров! – прокричал штурман.
Я вернулся к мешкам с грузом.
Огненные букеты увяли, пропали.
ЛИ-2 начал снижаться.
Ночь стояла светлая-светлая.
Мы шли на бреющем полете над сплошными лесами. Я отлично видел поляны и просеки, верхушки деревьев. Они возникали и исчезали там, внизу, а самолет все летел и летел, и время все тянулось, бесконечное, как стена мрака на западе, которой мы никак не могли достичь…
Я отвернул рукав пиджака, приблизил к лицу ручные часы.
Час тридцать ночи. Скоро должны прилететь. Но экипаж не проявляет никаких признаков волнения. Все застыли на своих местах, словно тоже заснули…
Может, я ошибаюсь, и лететь еще долго?
Нашарил в кармане коробку папирос. Самое бы время закурить! Как приземлюсь – сразу выкурю несколько папирос подряд. За все пять часов терпения!
Сидеть без дела было невыносимо.
Поднялся, еще раз осмотрел грузовые парашюты, ощупал мешки с боеприпасами и снаряжением. Все в порядке. Надумал пригнать парашют на летнее обмундирование, чтобы прыгать без куртки. Надевать тяжелую жаркую куртку не хотелось. Сиди в ней неизвестно сколько! Начал расстегивать пряжки брезентовых лямок парашюта.
В эту минуту и появился из кабины пилота Еремасов.
Подошел, наклонился, улыбаясь, спросил, как самочувствие.
– Отлично!
– Рад… Готовьтесь к прыжку.
Руки Еремасова пробежали по лямкам парашюта.
– Сигнал для прыжка – сирена, – сказал пилот, выпрямляясь. – Не мешкайте.
Я не успел попросить помочь подтянуть лямки: в оконца самолета блеснуло отражение луны, струившееся в серебряной воде озера.
– Червонное! – сказал Еремасов и торопливо направился в кабину.
Звать стрелка – не услышит, а пока подойдет…
Я начал торопливо подтягивать снаряжение сам, как умел: ведь от Червонного озера до Булева болота, где предстояло прыгать, оставалось всего двадцать пять километров, а это и для тогдашних самолетов не являлось расстоянием! На плечо мне опустилась тяжелая рука. Штурман кричал, что самолет у цели.
В фюзеляже собрались все, кроме Еремасова, оставшегося у штурвала: люди готовились к выброске грузовых мешков.
Вот второй пилот распахнул люк, они со стрелком приподняли первый мешок и столкнули в черный провал.
Второй мешок… третий… четвертый…
Кое-как я застегнул все пряжки парашюта.
Самолет делал разворот, ложась на левое крыло.
Штурман движением руки приказывал подойти ближе к дверце для прыжков.
В проеме открытой дверцы пылала буква «Г». Эту букву должны были выложить партизаны Линькова. Но ее могли выложить и враги! Фашисты неоднократно пытались заманивать и сажать наши самолеты в расположение собственных войск.
Лицо штурмана оставалось спокойным.
– Высота? – крикнул я.
– Двести метров! – откликнулся штурман.
– Поднимайтесь выше!
Штурман передал мою просьбу пилоту.
Я шагнул к открытой дверце. Встал между четырех грузовых мешков – последних, сложенных попарно по обе стороны дверцы.
– Восемьсот метров! – прокричал штурман.
Конец произнесенной им фразы заглушил резкий, оглушающий вой сирены.
– Пошел! – сказал я себе и бросился в пустоту.
Вихрь, идущий от левого мотора, подхватил меня и отнес куда-то в тишину.
Спасительный вихрь! В следующий миг рядом, чуть не задев, пролетели два грузовых мешка.
Парашют еще не раскрывался. Продолжалось леденящее душу падение…
Рывок оказался мягче, чем я полагал.
Теперь требовалось осмотреть купол парашюта.
Подняв голову, я увидел то, что должен был увидеть согласно полученным инструкциям, – закрывший чуть ли не все небо, туго наполненный воздухом белый шелковый четырехугольник.
Стало весело. Захотелось взглянуть на землю. Не тут-то было! Опустить голову я не мог. Нагрудный ремень парашютного снаряжения, неплотно застегнутый и неумело подогнанный в короткие секунды перед прыжком, соскользнул со своего места и с силой уперся в мой подбородок. Попытался повертеть головой. Ничего не вышло.
Проклятый ремень строго зафиксировал голову в одном положении. Я видел только купол парашюта. Ничего, кроме белого купола. И только краешком скошенных до боли глаз заметил, что сигнальные костры уплывают куда-то влево.
Орудуя стропами, я попытался изменить угол своего планирования. Хоть и с трудом, но мне это удалось сделать.
Теперь оставалось приземлиться. По возможности не сломав ног и рук, потому что я по-прежнему не видел земли, не видел, куда меня сносит.
Подогнув ноги, откинув назад корпус, я приготовился к худшему.
Но густые, мягкие мхи Булева болота приняли меня чуть ли не с материнской нежностью.
Я просто увяз во мху и тут же почувствовал, как проклятый ремень освобождает подбородок.
Потом упал лицом вниз, меня немного проволокло по влажным кочкам, и все кончилось.
Рокот самолета удалялся.
Слышались голоса перекликавшихся людей.
Я быстро освободился от лямок.
– Та где-то здесь! – негромко убеждал кто-то. – За кустами…
На всякий случай я расстегнул кобуру, вынул пистолет, перевел предохранитель.
Ждал лежа.
Зачавкали сапоги. Замаячили какие-то фигуры. Невдалеке остановился человек, взмахнул рукой:
– Да вот же!
И уверенно направился ко мне. Не дойдя нескольких шагов, окликнул:
– Пароль!
Сжимая влажную рукоятку пистолета, я ответил:
– Я к Грише.
– Я от Гриши, – весело сказал партизан. – Живы?
Я поднялся с земли. В редевших сумерках летней ночи передо мной стоял, улыбаясь, высокий молодой парень.
Признаться, я ожидал увидеть мрачного, вооруженного до зубов бородача, а парень был весел, выбрит и аккуратно подстрижен.
– Тугов Алеша, – назвался он. – Мы уж вас ждали, ждали, товарищ капитан!..
Подошли спутники Тугова.
Тоже не старики. Тоже не бородачи.
Жали руку, возбужденно переговаривались.
– Вы из самой Москвы, товарищ капитан?
– Откуда же еще? – улыбнулся я.
– Стоит, значит, Москва?
– Стоит и стоять будет!
– А газеток не прихватили?
– Есть и газеты.
– А ну, хлопцы, разойдись! – вступил в разговор Тугов. – Давай за мешками! Товарищу капитану до Бати надо… Пойдемте, товарищ капитан!
– Откуда ты знаешь, что я капитан?
– Батя сказал, чтоб встречали капитана, вот я и зову вас так.
Алеша Тугов повел меня по пружинившему, холодившему ноги болоту к видневшемуся вдали костру.
– Батя сам вас встречать вышел, – доверительно сообщил он, и по тону Алеши я догадался, что моему приезду придано важное значение.
Это было ни к чему. Впрочем, почему бы командиру партизанского отряда и не встретить своего будущего заместителя?
Я испытывал странное чувство неудовлетворения. Все свершилось так обыденно, так по-житейски просто, что было даже чуточку обидно. Нет, иначе я представлял себе приземление в тылу врага…
С болота еще доносились голоса партизан:
– Крепче держи, черт!
– Сам держи!..
В дрожащем круге рождаемого костром света беззвучно двигались, то обретая черные силуэты, то почти сливаясь с предрассветным воздухом, фигуры людей.
Я одернул пиджак, поправил фуражку.
Мы подошли вплотную к костру.
Тугов остановился, стукнул каблуками:
– Привел гостя, Батя!
Он рапортовал невысокому, чуть сутуловатому, плотному человеку в армейской безрукавке.
Тусклые блики огня отражались в цепких глазах, скользили по крутым скулам человека.
Громкий голос Тугова никого не смутил. Видно, излишней осторожностью тут не страдали.
Я шагнул вперед:
– Товарищ командир! Капитан Черный прибыл для дальнейшего прохождения службы!
Линьков помедлил, покалывая взглядом, потом кивнул, протянул руку:
– Поздравляю с прибытием. Очень рад.
И тут же отрывисто, деловито распорядился:
– Костры – гасить. Груз – к землянкам… Идемте, капитан.
Шаг у него был широкий, уверенный, хозяйский.
Глава 4
Болото кончилось. Начался высокоствольный сосняк. После гнилого запаха стоялой воды остро и свежо запахло багульником и хвоей.
Вскоре я заметил землянки и часовых.
Навстречу бежал человек.
Тяжело дыша, остановился в двух шагах:
– Товарищ капитан!
Мы обнялись.
Это был Семен Скрипник, товарищ по учебе в Москве, начальник радиоустановки, выброшенный к Линькову двумя неделями раньше.
– Радиоузел смонтирован, все в порядке! – тут же сообщил Сеня. – Прибыли, товарищ капитан! А уж я жду, жду!..
В землянке Линькова, вырытой среди сосен на сухом взгорбке, тускло горела жестяная керосиновая лампа. Обтянутые блестящим парашютным шелком стены казались желтыми.
Собравшиеся расселись на широких, покрытых лапником нарах слева от двери, на сосновых и березовых чурбаках, заменявших табуретки.