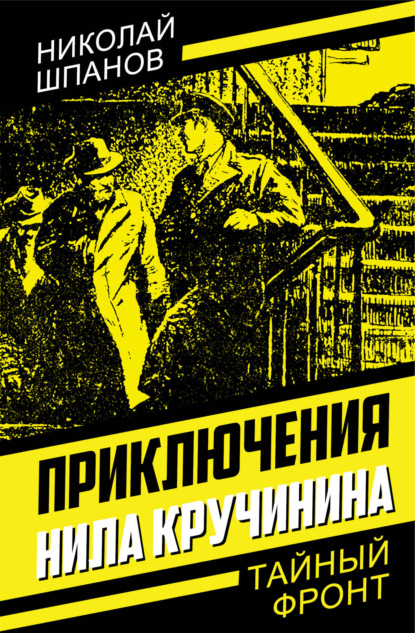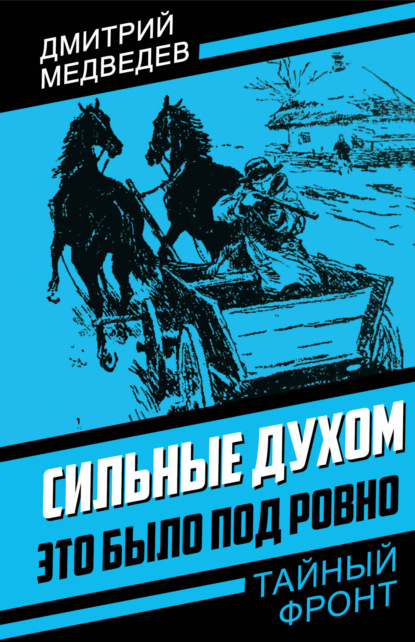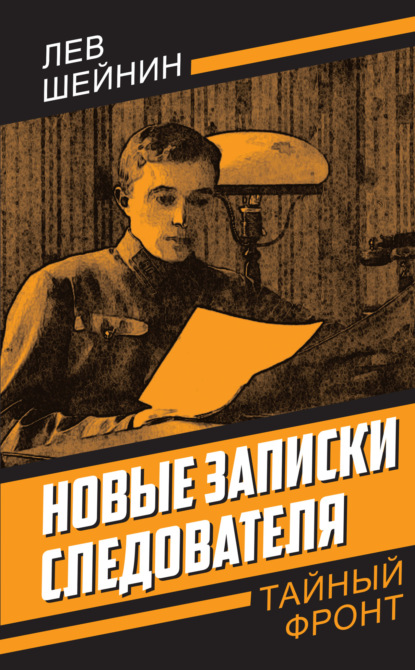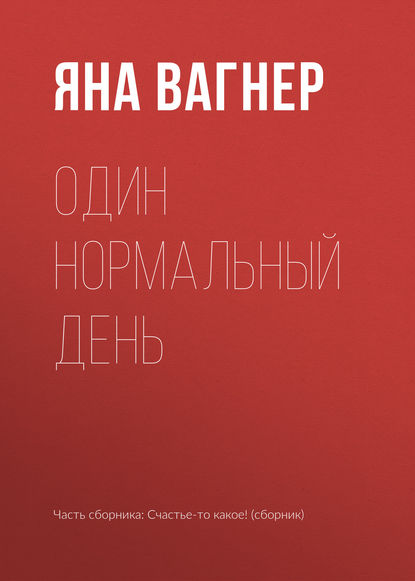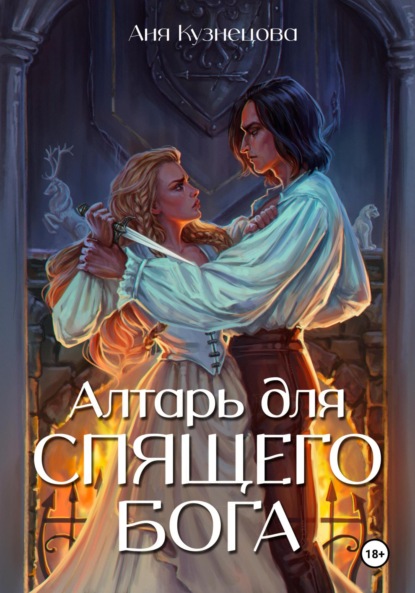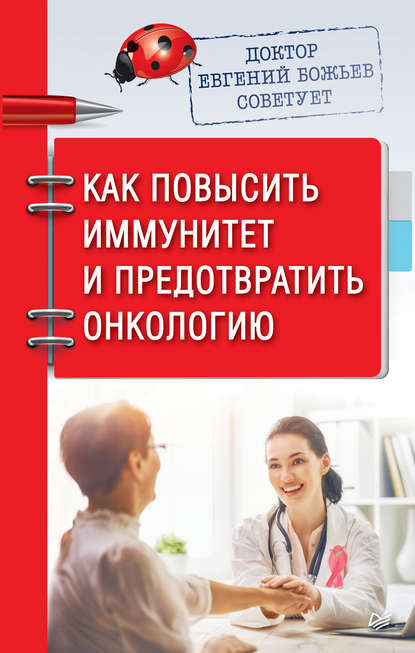Данные достоверны
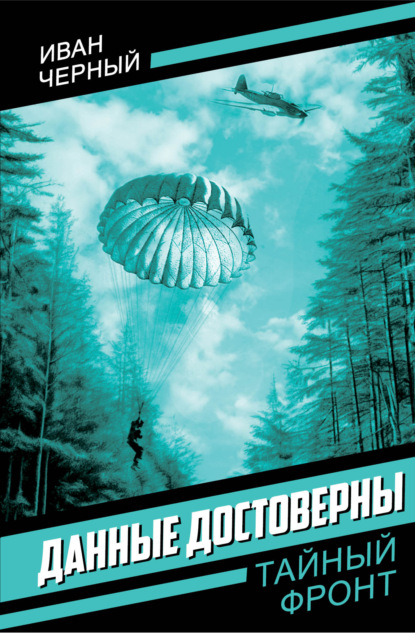
- -
- 100%
- +
Меня, как гостя, усадили рядом с Линьковым возле маленького стола в дальнем правом углу.
Появились кружки, трофейная фляга, каравай деревенского хлеба. На печурке зашипела картошка, забулькал чайник.
Никого, кроме Сени Скрипника, я здесь не знал. Видел только, что все, за исключением Линькова, молодежь. Иные, пожалуй, намного моложе меня.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят – вместе со всеми я выпил глоток обжигающего спирта.
Линьков взял флягу, взглянул вопросительно.
Я накрыл кружку ладонью:
– Пил только ради встречи, товарищ командир.
Линьков протянул флягу в сторону своих ординарцев, фляга исчезла.
Закусили.
Благоухал горячий настой малины.
– Как в Москве? – спросил Линьков. – Что нового? На фронтах как?
Несколько пар взволнованных, жадных глаз смотрели на меня.
Помнится, я говорил о чистоте московских улиц, о строгом порядке в столице, о том, что фашистские бомбежки не причинили городу почти никакого вреда, что все находится на своих местах – и Кремль, и Мавзолей, и Большой театр, и Колонный зал Дома Союзов…
Мой рассказ о милиционере, потребовавшем вымыть машину при въезде в Москву, вызвал веселое оживление.
Почти не дыша, слушали о подтянутых к фронту новых дивизиях, вооруженных по последнему слову техники, о дивизионах «катюш», сжигающих немецкую пехоту, как прошлогоднюю траву, о перебазированных на восток танковых и самолетостроительных заводах, уже наладивших выпуск продукции.
– Партизан тоже будут снабжать получше, – сказал я. – Обеспечат и взрывчаткой, и рациями. Мне приказали передать это. И просили сказать, что на партизан надеются. Крепко надеются. Ибо есть план парализовать вражеские железные дороги.
Линьков быстро оглядел своих людей, и видно было – он доволен.
– Мы не подведем! – сказал кто-то. – Вот только взрывчатки подкидывали бы!
Говорили еще часа два.
Потом Линьков встал:
– Капитану надо отдохнуть, товарищи.
Все сразу поднялись с мест.
– Спокойной ночи!
– Спите хорошо на новом месте, товарищ капитан!
Вскоре мы с Линьковым остались одни.
– Ну ложись, капитан, – сказал Линьков. – Перин не запасли, но уж как-нибудь.
Я поднялся с чурбака:
– Прежде – разрешите доложить о задании, товарищ командир.
– Докладывай.
– Нас не услышат?
– Нет. Часовой стоит в десяти шагах.
– Хорошо.
И я доложил Линькову о задаче, поставленной мне Центром. Сказал, что мы должны улучшить разведку в районе действия отряда, особенно в крупных городах и на самых важных объектах фашистов.
– Я послан сюда вашим заместителем по разведке, товарищ командир, но некоторые указания мне будет давать Центр.
– Понятно, – уронил Линьков.
– Есть просьба, товарищ командир.
– Слушаю.
– Об активизации разведки на первых порах не должен знать никто, кроме вас и отобранных нами людей.
– Понимаю, однако…
Я выжидающе смотрел на Линькова.
Он с силой потер бритую голову:
– Ладно. Обо всем остальном – завтра. А сейчас – спать, капитан.
Сел на нары и стал стягивать сапоги.
* * *Спал я крепко и долго.
Открыл глаза – в оконце землянки льется солнечный свет, из распахнутой двери веет дневным теплом. Линьков сидит у стола, читает газету.
Тишина…
Я вскочил с нар.
– Проснулся? – поднял голову Линьков. – Справа от выхода – колодец. Умоешься там… Завтрак ждет.
Умылся до пояса, растерся. Солнце пронизывает сосны, искристые потоки золотистого света падают на белесый мох, на прошлогоднюю хвою. Возле соседней землянки чистят оружие партизаны, посматривают на меня. Где-то неподалеку вжикает пила. Наверное, заготавливают дрова.
Странный покой, странная тишина…
Вернулся в землянку.
Напились чаю.
– Я думал о вчерашнем разговоре, – сказал Линьков. – Должен сразу предупредить – опытных разведчиков у нас нет. Люди нацелены на диверсии. Научены подрывать железные дороги. А разведкой почти не занимались.
– Мне тоже еще учиться надо, товарищ командир. Но ведь не боги горшки обжигают. Постараемся подобрать людей…
Линьков поднялся:
– Ладно. Пойдем знакомиться с базой.
* * *Где тропами, а где напрямик по лесу, через кусты и нехоженые поляны, водил меня в то утро Григорий Матвеевич, показывая расположение своих подразделений.
– Видишь, в какую глушь забились? – спросил Линьков. – Не удивляйся. Нельзя штабу иначе: немцы кругом, полиция… На задания наши люди только ночью ходят: днем – опасно, пропадут… Так что покамест зажали нас немцы. Тесно живем.
Считается, что партизанская база должна отвечать следующим условиям: располагаться вблизи хорошо заметных с воздуха природных ориентиров, чтобы летчики без труда находили место для посадки или сбрасывания грузов; находиться, однако, достаточно далеко от этих ориентиров, чтобы противник не мог легко обнаружить ее; размещаться по возможности поодаль от населенных пунктов, лучше всего в мало посещаемых населением лесных районах, но не настолько далеко, чтобы связь с населенными пунктами оказалась слишком затруднительной.
Казалось бы, выбрать такое место просто невозможно.
Тем не менее, база Линькова отвечала самым строгим требованиям. Озёра Червонное и Белое были хорошо заметны с воздуха, летчикам не приходилось подолгу кружить, чтобы выйти на костры Булева болота, а вместе с тем Червонное и Белое были удалены от базы за пятнадцать-двадцать километров.
До ближайшего населенного пункта на западе – села Восточные Милевичи – от базы было километров семь, а на юге до городка и железнодорожной станции Житковичи – километров двадцать пять-тридцать.
Центральная база, где работал штаб отряда, жила охрана и содержался радиоузел, состояла из трех землянок, вырытых, как я говорил, на уединенном бугре и надежно замаскированных.
Число людей, постоянно находившихся на базе, никогда не превышало двадцати человек.
На юго-востоке от центральной базы, километрах в двух от нее, имелась конюшня.
К населенным пунктам и дорогам были выдвинуты заставы, надежно прикрывающие центральную базу от неожиданного нападения противника.
Заставы, замаскированные столь же тщательно, были удалены от центральной базы, как правило, на три-пять километров.
Тут, на заставах, и размещались основные силы отряда. Сюда приходили с заданий боевые группы подрывников, здесь отдыхали и несли караульную службу, отсюда же уходили на новые задания.
И хотя партизанам было известно, что на заставах они охраняют центральную базу, свой штаб, о подлинном местонахождении штаба знали только командиры боевых групп или начальники застав.
Это была отнюдь не излишняя осторожность. Случаи предательства имелись, и командование отряда обязано было принять все меры, чтобы предотвратить разгром своей части.
Такой же отнюдь не лишней предосторожностью было строжайшее приказание всем командирам застав не являться на центральную базу без особой необходимости, а командирам и партизанам, жившим на центральной базе, – не посещать без надобности ни застав, ни конюшни.
Командир боевой группы или начальник заставы обязан был каждый раз ходить на центральную базу новой дорогой, чтобы не торить тропу, способную демаскировать штаб с воздуха или насторожить вражеских лазутчиков.
Без дорог было не обойтись. Но ни одна дорога не подводила к базе вплотную. Все они кружили, петляли под кронами сосен, под елями.
Если, скажем, от восточной заставы до центральной базы напрямую выходило километров пять-шесть, то дорога от этой заставы крутила километров восемнадцать-двадцать.
В некоторых местах она проходила всего в двухстах-трехстах метрах от штаба Линькова. Но из штаба дорога проглядывалась, а заметить штаб с дороги не представлялось никакой возможности.
В этом я убедился, следуя за Григорием Матвеевичем по тихому, казавшемуся вымершим, лесу.
– Приходится по этим дорогам следы поддерживать, – рассказал Линьков. – И непременно два-три тупика делаем: заедут ребята в болото, какое подрянней, развернутся – и обратно… Если бы фрицы и сунулись по следу – увязли бы, запутались, все под нашими пулями полегли бы.
– Пока не совались?
– Нет. Думаю, и не догадываются, где база.
Григорий Матвеевич огляделся, выбрал два пенька, торчавших из мха друг возле друга, присел на один и предложил:
– Устраивайся, капитан. Отдохнем.
Я тоже присел.
– Хочу тебя в курс дела ввести, – сказал Линьков. – У тебя должно быть ясное представление о делах отряда. Ты же мой заместитель.
– Начинающий, Григорий Матвеевич!
– И начинающему придется общие вопросы решать. Всякое бывает… Ну так вот: центральную базу и заставы ты видел. Народ здесь мы не держим. Отряды и подрывные группы действуют в большом радиусе. Отряд Бринского тридцать первого июля ушел на озеро Выгоновское. В бывшие владения Радзивиллов. Там обширные болотища, леса – черт ногу сломит. База у Бринского отличная. Его люди уже действуют и весьма успешно наносят удары по железным дорогам Брест – Барановичи, Барановичи – Лунинец, Барановичи – Белосток… Второй отряд, под командой Садовского, ушел под Калинковичи. Третий, во главе с Сазоновым, под Сарны. На Украину. Кроме этих трех есть еще два отряда рейдовых. Отряд Перевышко работает на дороге Барановичи – Минск, и отряд Цыганова – на дороге Лунинец – Житковичи. Как видишь, стараемся парализовать все основные магистрали, идущие на юг и юго-восток. Не даем фашистам беспрепятственно доставлять пополнения и грузы их наступающим войскам.
Одна беда – не хватает взрывчатки. Мин и взрывчатки. Будь у нас в достатке тола, да получи мы хорошие мины, – лучше всего мины замедленного действия, – ни один немецкий эшелон тут не прошел бы!
Видимо, на моем лице отразилось сомнение в правильности последнего утверждения, потому что Линьков нахмурился.
– Знаешь, я привык отвечать за свои слова, – бросил он.
Это прозвучало твердо.
– Но фашисты охраняют дороги, Григорий Матвеевич. Вероятно, они бы ответили усилением охраны, и часть мин им удавалось бы снимать.
– Они не в силах охранять все участки пути. Это давно подсчитано. Войск не хватило бы. А мины бывают и неснимаемые.
– Вам карты в руки! – согласился я. – Знаю только одно: действиями отряда в Центре довольны.
– Воюем, – сказал Линьков. – Вот соседей у нас пока не густо.
– Однако есть соседи?
– Есть. Ближний – на западе. Корж Василий Захарович. Километров за сто от нас ходит. На северо-востоке – Василий Иванович Козлов, командир партизанских соединений Минской области. Этот подальше. До него километров двести пятьдесят. В Копыльском районе – майор Капуста. А на восток отсюда – Полесское соединение.
– Все-таки что-то!
– Мало! Правда, наши маршрутники встречают в лесах отдельные отряды, но все они распылены. Общего руководства не знают и связи даже между собой не держат…
Линьков умолк, и, воспользовавшись паузой, я осторожно осведомился, что известно о ближайших населенных пунктах, ближайших городах. Тех же Житковичах, скажем. Знает ли Григорий Матвеевич, какой там гарнизон, чем вооружены фашисты.
– Гарнизон там значительный, – сказал Григорий Матвеевич, – но точные цифры назвать не могу.
– Бывают ли партизаны в ближайших деревнях?
– Бывали. В Юркевичах и в Рыбхозе на Белом озере. А сейчас мы соблюдаем максимум осторожности, чтобы не выдать базу. Немцам вообще не надо знать, что мы здесь. Пусть думают, что ушли все отряды.
Я понимал Линькова и по достоинству оценил его хитрость, но нам надо было выполнять свою задачу!
Не можем мы совершенно не встречаться со здешними жителями! – возразил я. – Ведь хотя бы хлеб и картофель надо где-то брать?!
– Ну, картофель мы сами ночами копаем на деревенских огородах, – сказал Линьков. – А хлеб… Хлеб, действительно, нам одна крестьянка печет. Живет тут на хуторе недалеко от Восточных Милевичей.
Я сразу насторожился:
– Как ее зовут?
– Матрена Мицкевич. Вдова. Мыкает горе с двумя сыновьями.
– Ребята большие?
– Нет. Одному лет восемь, другому, кажется, около тринадцати.
– И что же? В открытую Матрена вам печет?
– Конечно нет. Печет по ночам. И наши бойцы по ночам к ней приходят. Заберут хлеб – и обратно.
– Знает она об отряде?
– Ничего конкретного. Но догадывается, что помогает партизанам.
– Есть у нее поблизости родня?
– Не знаю, – сказал Линьков. – Но человек она, видно, хороший. Советский человек.
Григорий Матвеевич глянул на меня, чуть прищурился:
– Загулялись мы. Домой пора. Веди-ка на базу, капитан.
Следуя за Линьковым, я не очень внимательно примечал дорогу, надеялся на Батю. А он, кажется, решил проверить, какой из меня может выйти лесовик.
Ну что ж.
Я стал искать дорогу. Сориентировался по заходящему солнцу, пошел медленно, стараясь вспомнить места, по которым проходили.
И долго не мог вывести на прямую тропу.
– Ладно уж, – сказал Линьков. – Так до ночи ходить будем.
Он довольно быстро вывел меня к запомнившейся замшелой колоде.
– Отсюда направо! – обрадовался я.
– Ага, – буркнул Линьков. – Вспомнил… Но поучиться в лесной академии еще не мешает, капитан.
– Поучусь, – сказал я.
Первый день на партизанской базе Линькова близился к концу. Чувствовал я себя не очень уверенно.
Разведчиков предстояло подбирать и готовить, связь с местным населением – нащупывать…
«Матрена с хутора близ Милевичей… – думал я. – Моя первая и единственная нить… Куда-то она выведет?».
За парашютным шелком землянки нахально бегали мыши.
Под мышиный писк и шорох я и уснул.
Глава 5
Прошло несколько дней. Живя на центральной базе, посещая заставы, я приглядывался к партизанам, заговаривал с ними, пытаясь выяснить, насколько хорошо знают люди обстановку в ближайшем районе, стараясь угадать среди них будущих разведчиков… Это первое поручение Григория Матвеевича Линькова занимало все мое время.
Совершенно так же, как в любом другом деле, в деле разведки вражеского тыла могут работать люди с различными склонностями, характерами, вкусами; люди, весьма отличные друг от друга по жизненному опыту, образованию, даже по способностям.
Это, как всегда и везде, предопределено самой организацией дела.
Сдержанность и дисциплинированность, – пожалуй, самые необходимые качества для разведчика.
Самовлюбленный, болтливый, расхлябанный человек для работы в разведке не подойдет, имей он хоть семь пядей во лбу…
Еще в ночь приземления на Булевом болоте я заметил среди набившихся в командирскую землянку людей крепкого человека лет тридцати пяти, малоразговорчивого и, видимо, очень спокойного.
На следующий день Линьков познакомил нас.
– Якушев Федор, – баском назвался партизан, подавая темную, твердую, как дерево, руку.
– Был комиссаром в отряде Заслонова, – пояснил Григорий Матвеевич. – Начинал осенью сорок первого под Оршей. А в апреле пожаловал к нам…
Чувствовалось, Линьков относится к Якушеву с доверием и благожелательностью.
– Ты, Федор Никитич, расскажи капитану Черному о себе… Можешь быть абсолютно откровенным, – добавил он.
Якушев потер подбородок, помедлил.
– Значит, так, – начал он. – Перед самой войной, в мае сорокового года, назначили меня заместителем начальника политотдела Минского отделения Западной железной дороги…
– Вы потомственный железнодорожник? – перебил я.
– Нет. Родители крестьянствовали… О Стодолище слышали? Ну – под Смоленском? Вот там наша деревня недалеко – Березовка… До двадцать второго года и я в деревне жил. А как поступил в Рославльский механический техникум путей сообщения, так и пошел по одной колее.
– Ясно… Вы говорили о мае сорокового года.
– Да… Поработал я, стало быть, заместителем начальника политотдела до января сорок первого, и направили меня на курсы политуправления НКПС при Ленинградском институте железнодорожного транспорта. А как война началась – обратно в Минск. Только Минск уже захвачен был, и пришлось осесть в Орше. Тут меня сразу – бах! – начальником политотдела Оршанского отделения дороги… Отсюда уже последним эшелоном мы, железнодорожники, выбирались в Вязьму. Как сейчас помню, тринадцатого июля, в двадцать три часа тринадцать минут. Немец уже на станцию врывался…
– Значит, повезло.
– Не больно повезло. Ехали мы в Смоленск, а доехали только до Присельской: дальше по дороге, в Ярцево, фашисты десант выбросили.
– Как же вы?
– Да как. Паровоз взорвали, имущество сожгли, а сами пешим порядком, отдельными группами – к Вязьме.
– Почему группами?
– Да в эшелоне-то тысячи полторы человек было. Разве такой махиной под бомбежками двинешь? А группами почти все благополучно добрались.
– Понятно.
– В Вязьме политотдел Западной дороги и поручил мне подбирать людей для выполнения заданий в тылу врага. Из коммунистов Вяземского узла, конечно. А потом, уже в сентябре, Смоленский обком ВКП(б) назначил меня комиссаром отряда к Константину Сергеевичу Заслонову…
Слушать Якушева было приятно. Была в нем подкупающая неторопливая обстоятельность, свойственная людям, привыкшим много и упорно трудиться, знающим, что спешка – плохое подспорье в серьезной работе.
– А к Линькову вы как попали?
– Узнав, что в отряде Заслонова много железнодорожников, Григорий Матвеевич попросил передать людей в его отряд. Мне в Оршу нельзя было, вот я с апреля 1942 года и стал партизаном у Бати.
Во главе групп подрывников Якушев ходил под Борисов и Молодечно, взрывал железнодорожные пути и эшелоны врага, принимал участие в стычках с немцами.
На личном счету Федора Никитича было восемь вражеских эшелонов, а всего он выходил на диверсионные задания шестнадцать раз.
Если учесть, что для выполнения иного приказа приходилось покрывать расстояние в сто-двести километров, то читатель может легко представить, сколько километров по тылам врага прошел отважный коммунист.
Рассказ Федора Якушева произвел на меня сильное впечатление.
И не только описанием боевых событий, диверсий.
Впечатление производила сама манера рассказа.
Федор Никитич не был златоустом, не умел и не любил громыхать фразой. Говорил он спокойно, ровно, сдержанно.
Но вдруг внезапная усмешка освещала его широкое лицо, или прорывалась в ровном тоне нотка гнева – и все рассказанное сразу обретало какую-то особую значимость, весомость…
И еще одно обращало на себя внимание в рассказах Якушева: наблюдательность, знание людей, понимание человеческих чувств, трезвая оценка деловых качеств товарищей.
Рисуя свою «Одиссею» в отряде Линькова, он несколько раз упомянул фамилию Лагуна, тепло отозвался о подрывнике Седельникове.
Федор Никитич Якушев казался находкой. В самом деле, человек прожил хорошую трудовую жизнь, начал слесарем по ремонту подвижного состава, а перед войной вырос в партийного руководителя.
Он знал район действий отряда, показал себя отличным бойцом и командиром.
Партизаны относились к Федору Никитичу уважительно, признавали его авторитет, прислушивались к его словам, хотя держался Якушев предельно скромно: жил в общей землянке, никогда не расписывал свое прошлое, вместе со всеми становился в очередь к котлу…
– Ну, что ж? – обращаясь ко мне, сказал Линьков. – Подрывникам помог Федор Никитич, пусть и разведчикам поможет. Человек зрелый. Бери!
* * *На второй или третий день пребывания в отряде мне понадобилось побриться.
Обращаться с опасной бритвой я еще не привык и сказал об этом Линькову.
– За чем дело стало? – отозвался Григорий Матвеевич. – Попроси Кузьменко. Он у нас тут за парикмахера. Отлично выбреет.
Николай Кузьменко, партизан лет двадцати четырех – двадцати пяти, состоял в числе бойцов, охранявших центральную базу.
Бойцы эти, воевавшие бок о бок с самого начала деятельности отряда, бок о бок зимовавшие в сорок первом, попривыкли друг к другу.
Я не слышал, чтобы кто-нибудь называл товарища по званию или фамилии, за исключением, конечно, старших командиров. Да и старших-то командиров обычно называли их партизанскими кличками, как называли, например, Батей самого Линькова.
А вот Кузьменко почему-то называли по фамилии.
Не по имени, не кличкой, а только по фамилии.
Это привлекало внимание.
Пока Кузьменко правил бритву, а потом брил меня, я разглядывал этого человека, пытался разговорить его.
Но не тут-то было.
Кузьменко отвечал односложно, пожалуй, отрывисто. Он производил впечатление человека замкнутого, несловоохотливого.
Внешность у него была, что называется, самая заурядная, незапоминающаяся, голос звучал ровно, глуховато.
Брил он прекрасно.
– Где же это ты, Коля, так научился?
Пальцы Кузьменко, вытиравшие бритву, на мгновение замерли. Возможно, бойца удивило, что я назвал его по имени. Но Кузьменко ответил, как обычно, невозмутимо:
– В армии. Ребята просили. Вот и привык.
– Ну, спасибо тебе, Коля, – сказал я.
– Пожалуйста, товарищ капитан…
Я спросил у Линькова его мнение об этом партизане.
– Солдат неплохой, – сказал Григорий Матвеевич. – Вот малограмотен только и держится бирюком. Ни с кем особо не дружит.
– Для этого есть какие-нибудь причины?
– Думаю, характер такой.
– Характер?.. А что, расположение застав он знает?
– Знает, конечно.
– Вы разрешите мне брать Кузьменко в качестве провожатого на эти дни?
– Пожалуйста, берите.
Я трижды ходил с Николаем Кузьменко, изучая местность вокруг центральной базы. Посещал заставы, знакомился с партизанами, приходившими с заданий.
Расспрашивал Кузьменко об его прошлой жизни, о пребывании в отряде Линькова, о взаимоотношениях партизан.
Николай не произнес ни одного слова осуждения в чей-нибудь адрес.
Любое приказание он выполнял быстро, с охотой, держался подтянуто, собранно.
Кузьменко нравился мне день ото дня все больше и больше.
Я полагал, что, если с ним подзаняться, он окажется полезным для разведывательной работы человеком.
– Скажи, Николай, – спросил я однажды, когда мы отдыхали, сидя на стволе поваленного обомшелого дерева. – Кто из наших партизан мог бы рассказать о немецких гарнизонах в Житковичах или Микашевичах?
Кузьменко озадаченно поскреб щеку:
– Не скажу, товарищ капитан…
– А есть такие ребята в отряде?
Мой проводник окончательно смешался:
– Да я вроде не задумывался над этим, товарищ капитан. Ни к чему…
– Как же так? Разве не надо знать обстановку вокруг базы хотя бы? И ты не приметил, кто из партизан ее знает? Ведь мы сколько с тобой ходим по заставам!
Кузьменко растерянно улыбнулся:
– Ходить-то ходим… Я же слышу, о чем вы спрашиваете у ребят. Да они ж не могут вам ответить, товарищ капитан. Выходит, не знают… Вообще, обстановку, наверное, только Батя знает.
Он глядел вопросительно.
Я не стал разочаровывать Николая Кузьменко и вместо ответа на его невысказанный вопрос предложил:
– А если я тебе поручу собирать данные о противнике? Как ты на это посмотришь?
– Мне, товарищ капитан?!
– А чем ты плох? Ведь не боишься?
– Не! Бояться я не боюсь, да как-то чудно… Не знаю я этого дела.
– Научишься.
– Если научите, тогда, конечно, я не против… А что узнавать-то надо, товарищ капитан?
– Все, что можно узнать, Николай. Прежде всего – какова численность немецких гарнизонов в крупных населенных пунктах. Где немцы держат гарнизоны, а где бывают наездами. Кто из местных жителей нам сочувствует, на кого можно положиться, а на кого нельзя.
– Понимаю, – сказал Кузьменко. – Значит, ходить, с людьми говорить… Я пойду. Только боюсь – не справлюсь я, товарищ капитан! Разговор у меня корявый…
– А по-моему, ты справишься, – серьезно сказал я, глядя в глаза Николаю Кузьменко. – Прекрасно справишься, Николай. Только помни: о том, чем мы будем заниматься, никому ни слова. А товарищи спросят о нашем деле – отвечай: ходим, мол, наблюдать за немцами в селах, и все. Понял?
– Понял, – сказал Кузьменко.
Глаза у него загорелись. Видимо, читал в свое время всякого сорта детективчики, и перед его мысленным взором промелькнули в этот миг волшебные картины невероятных приключений.
Но еще и другое увидел я на лице Николая Кузьменко в эту минуту – счастье.
Огромное счастье человека, ощутившего, что его ценят, в него верят, на него рассчитывают.
Возможно, Кузьменко очень долго был лишен такого доверия…
– Скоро сходим с тобой на одно задание, – сказал я, – Готовься.
– Да я хоть сейчас, товарищ капитан!
В те дни на заставы центральной базы вернулись из далеких вылазок группы партизан Седельникова, Яковлева, Лагуна и Сазонова.
Эти группы действовали в районах Пинска и Ровно, уничтожали там вражеские эшелоны, взрывали железные дороги и мосты.