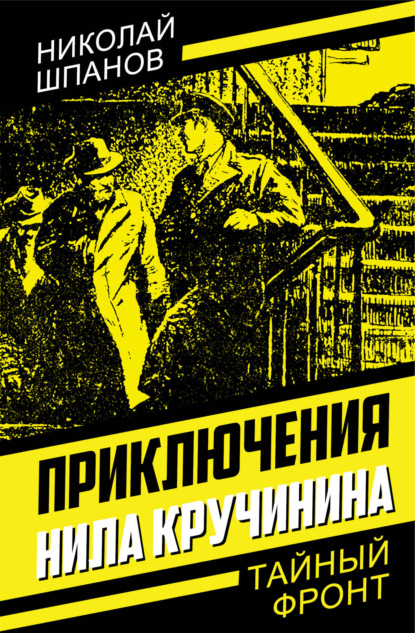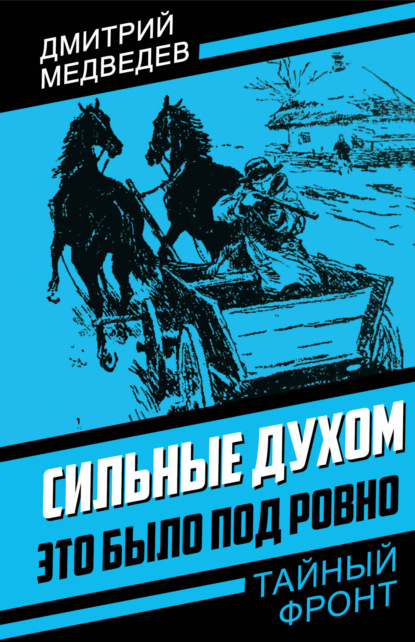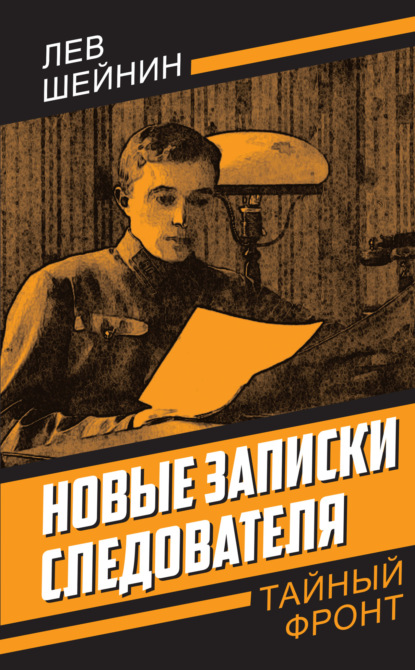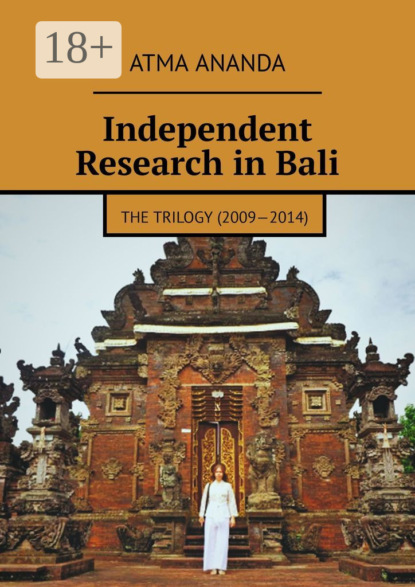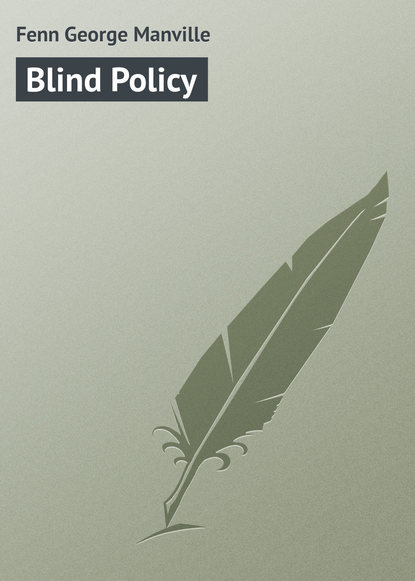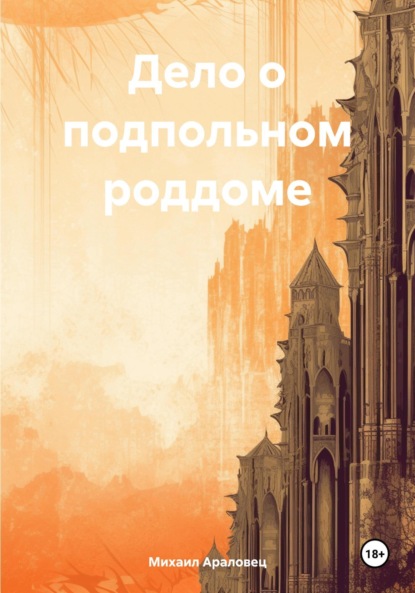Данные достоверны
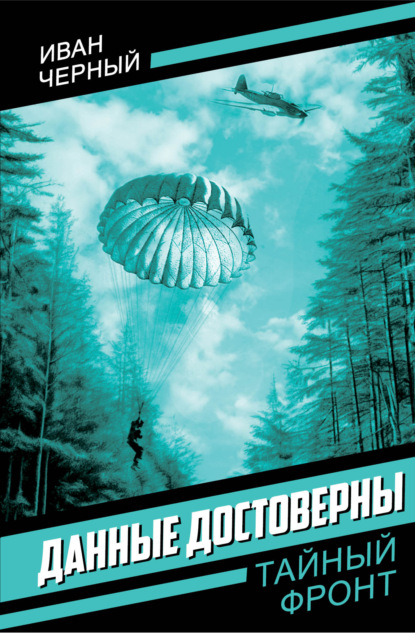
- -
- 100%
- +
– Это чья – «наша»?
– Так я больше не шуцман! – заторопился полицай. – И повязку сдал солтысу. Сказал, что недужен. Не могу. Я свой! Так и Лагуну передайте. И скажите, что я вину свою понимаю и по гроб жизни верен буду!
Свечерело. Лагун и Каплун встретились. Лагун рассказал, что он и бывший инспектор райбюджета Красно-Слободского района Василий Полтавеевич Казяк остались в селе по заданию партизан, что у них есть три украденных из немецкой комендатуры радиоприемника, две винтовки и одна десятизарядка СВТ.
– Будем воевать! – решили оба.
На другой день Каплун был представлен солтысу как бывший заключенный и сапожник и получил удостоверение, дающее ему право проживать на территории Бучатинского сельсовета.
Капитан устроился на новой квартире, оборудовал себе уголок для работы. Сапожник он действительно был замечательный и не сомневался, что заработает на хлеб и обведет немцев и полицаев вокруг пальца.
И уже вечером того же дня Каплун, Лагун и Казяк встретились, чтобы окончательно договориться о конспирации, о том, как противодействовать немецкой пропаганде, о подборе людей в отряд, который решили создать, о сборе оружия и прочих важнейших вещах.
Так началась их подпольная деятельность.
Василий Захарович Корж рассказывал замечательно, с юмором, не покидающим настоящего человека даже в трудные дни, с убедительными подробностями, а порой – с горечью и страстью.
Я узнал о том, как «сапожник» Степан Каплун, Адам Лагун и Василий Казяк начали собирать будущих партизан, приглядываясь в первую очередь к бывшим военнослужащим, а также к советским активистам.
Казалось бы, им проще всего было притаиться, не привлекать к себе внимания, не рисковать. Тем более, что партизанский отряд, державший связь с Лагуном, распался, и никто не уполномочивал бывшего бухгалтера, бывшего инспектора и бывшего командира батальона создавать подпольный комитет для борьбы с оккупантами.
Но в том и сила советского строя, в том и сила идей коммунизма, что люди, подобные Лагуну, Каплуну и Казяку, даже не представляли себе, как можно жить, не борясь, не отстаивая до последней капли крови свои идеалы.
Правда, у них не было опыта конспиративной работы, опыта партизанской деятельности, но они не стали сидеть сложа руки и ждать, что кто-то сделает за них то, что требовалось делать по обстановке.
Мало-помалу небольшая группа подпольщиков обросла активом. В соседних селах были созданы по указанию подпольщиков новые группы. В них входили бывшие красноармейцы и командиры, оказавшиеся в окружении, колхозники, сельская интеллигенция.
Регулярно слушая сводки Совинформбюро, подпольщики записывали их, перепечатывали на машинке и распространяли среди населения.
Так был распространен текст речи И. В. Сталина на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве.
Собиралось оружие, запасалась взрывчатка.
Листовки со сводками Совинформбюро расходились по всей округе. Да что по округе! Иные достигали, переходя из рук в руки, Буга, Картузы, Гродно, Бреста.
При этом люди, передававшие листовки, дополняли текст информбюро рассказами о партизанах, обосновавшихся под деревней Бучатин.
Как водится в таких случаях, слухи росли, подобно снежному кому. Начали поговаривать, что появился в Красно-Слободском районе некий капитан, посланный ЦК партии для развертывания партизанской армии и нанесения фрицам удара с тыла. У этого капитана-де постоянная связь с Москвой, своя типография и крепкий, хорошо вооруженный народ.
И потянулись в Красно-Слободской район люди, жаждавшие обрести связь с Большой землей, влиться в будущую армию, громить врага.
Однажды появился и посланец брестского подполья. Рассказывал, что в Бресте есть товарищи, готовые сражаться, что они только и ждут, чтобы кто-нибудь принял командование ими, чтобы подсказал, с чего начинать.
Товарища снабдили последними сводками информбюро, листовками с текстом речи И. В. Сталина на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года, посоветовали вести пропаганду, подбирать новых людей и быть готовыми к выходу в лес.
Видимо, что-то пронюхали и немцы. Они сделали попытку организовать в селе Бучатин полицейский участок – постарунок по-белорусски.
Ничего у немцев не вышло. Молодежь, распропагандированная подпольщиками, наотрез отказывалась носить оружие, служить в полиции. Вместо двадцати трех человек, как хотели фашисты, в постарунок пошли только четверо – все бывшие уголовники.
Пропаганда велась, несмотря на отсутствие у подпольщиков опыта, столь тонко, что немцы и полицаи не заподозрили ни Лагуна, ни Каплуна.
Больше того, считая Степана-сапожника своим человеком, полицаи и солтыс, захаживая к нему, предупреждали:
– Смотри! К тебе тут всякие ходят… Вон, Гончарук, тот же… Ты с ним поосторожней. Это большевик. Говорят, у него радио есть. Может, это он против нового порядка и агитирует. Ты приглядись-ка к нему, а?
– Пригляжусь, – обещал Каплун, стуча молотком по подметке.
И все же неопытность подпольщиков дала о себе знать.
В январе, на рождество, в Бучатине справляли «престол». Крестьяне пили не с радости – с горя, перегоняя на самогон последний пуд хлеба: «Все едино, при «новом порядке» нам не жить!»
Лагуна и Каплуна пригласили в один из домов. Отказаться было неудобно. Пошли. И там, за столом, когда принялись мужики жаловаться на судьбу, клясть немцев, Каплун не выдержал, произнес речь.
– Здесь, вижу, люди свои… Советские… Ты – бригадир, ты – депутат сельсовета, ты – бухгалтер… И я вам скажу – недолго фрицам пановать! Скоро им капут!.. Не верите? Это я вам говорю! Я!.. Вы думаете, я – кто? Сапожник?..
Лагун так двинул товарища в бок, что тот поперхнулся словом.
– Говори, говори, Степан! Мы же чуем, что ты не простой человек! Говори!
Но Каплун, опомнившись, махнул рукой:
– А я – не тот сапожник, что вы думаете! Я фасонный мастер! Вот! А пропадаю попусту…
Как будто вывернулся. Но вывернулся слишком неловко.
Вдобавок слышала ту каплуновскую речь одна бабенка из говорливых и, прибавив вдесятеро, как и положено, пошла нашептывать кумушкам, что Семашихин сапожник – и не сапожник вовсе, а «якись-то великий чин».
– Я чула, – тараща глаза, тараторила сплетница, – он рассказав Ивану Дзяковому, что он начальник дивизии. Говорил: большевики скоро вернутся, и треба бить немцив и полицию… Шо вы, мои дороженькии! То велики начальник!
Конечно, сплетница всем наказывала молчать, но именно поэтому новый слух распространился с еще большей скоростью, чем слух о капитане с типографией.
И дошел до гестапо.
Случилось это в конце марта. Но, полагая, видимо, что они напали на крупную дичь, и рассчитывая одним ударом уничтожить всю сеть подполья, гестаповцы не арестовали никого из подозреваемых, только поручили полицаям следить за ними.
А чтобы ни один из бывших военнослужащих не исчез незамеченным, приказано было всем примакам дважды в неделю являться к солтысу на отметку, а наиболее подозрительным отмечаться ежедневно.
Подпольщики насторожились.
Это их и спасло.
В конце марта 1942 года морозы уменьшились, начал таять снег. Прошел слух, что в пинских болотах передвигаются крупные вооруженные силы Красной Армии. Будто бы движется целое соединение с пушками, с автоматическим оружием – и один обоз, у него четыреста подвод!
На самом деле, как стало потом известно подпольщикам, из Полесской области в Пинскую, поджимаемый карателями, проскочил отряд товарища Комарова из сорока двух человек.
Но так хотелось народу, чтобы этот крохотный отряд был армией, что молва и превратила его в армию!
Это всполошило фашистов. Немецкое командование после маневра Комарова поставило в лесистых районах гарнизоны из войск СС. В Красно-Слободском районе также появился эсэсовский гарнизон из шестидесяти карателей. На одном месте они не сидели, через два-три дня переезжали на новое и два раза в неделю патрулировали лесные дороги.
Полицейские и эсэсовцы стали рыскать по деревням, хватать бывших активных советских работников и служащих, бывших военнослужащих. Некоторых расстреливали на месте для устрашения жителей. Среди арестованных оказались и члены подполья.
В Бучатине каратели бывали каждый день. Они дали распоряжение солтысу переоборудовать школу под казарму на триста человек.
Каплун и Лагун, собрав группу, приказали быть готовыми к выходу в лес.
Всем товарищам было роздано личное оружие, чтобы они имели возможность, в случае чего, оказать сопротивление и живыми в плен не сдаваться.
Выход в лес отложили до момента, когда будет приведен в исполнение приговор гнусным предателям – четырем бучатинским полицаям, принимавшим участие в кровавых расправах над захваченными.
Но события неожиданно приняли крутой оборот.
8 апреля на дороге в Бучатин, идущей из деревни Смоличи, появились вооруженные люди.
Наткнулся на них Лагун, возвращавшийся из колхоза имени Ворошилова, где проводил беседу с подпольщиками из трех деревень.
Одетые в потрепанное летнее обмундирование, в разбитых кирзовых сапогах, обросшие и немытые, пришельцы производили довольно убогое впечатление, но держались смело и разговаривали напористо.
Увидев на Лагуне добротные сапоги, старший обложил его многоэтажной руганью:
– Такие вы рассякие! Отсиживаетесь тут в тылу, морды наедаете, а мы за вас воюй?! Скидай сапоги, паразит! Видишь, в чем у меня бойцы ходят? А они всю зиму в немецком тылу провоевали! Что смотришь? Не знаешь, что ли, что в тылу у гитлеровцев второй фронт открылся? Ну так знай! Мы из-под Буга наступаем. Я командир разведки шестнадцатой десантной дивизии, и у меня только двести сорок человек, а остальные вот сейчас подтянутся… Кто у вас председатель колхоза? Скажи ему, чтоб готовил хороших коней. Нам артиллерию тащить нужно, а наши кони пристали. Мы их вам оставим, а свежих заберем!
Лагун, обрадованный, хоть и не совсем поверил такому поразительному откровению, сказал:
– Товарищ командир! Раз вас тут дивизия, мы с вами! У нас, правда, маловато людей, всего около сотни, но все с оружием, и места знаем… Мы думали пятнадцатого числа в лес уходить, но коли уж встретились – часть людей я вам передам, а остальных завтра же соберу, и двинем в орликовские леса!
– Партизаны? – обрадовался командир «дивизионной разведки». – Ах, ешь тя в корень! Что ж ты сразу не сказал, друг?
Вместе с Лагуном «разведчики» явились в деревню, где уже выбегал на улицу народ.
Командир «разведчиков» взошел на первое попавшееся крыльцо и опять произнес речь о «шестнадцатой десантной дивизии», о предателях, которые отсиживаются по хатам, когда надо воевать, и о втором фронте за Бугом.
Женщины плакали.
В ту пору подошли девять подвод с лесом, который крестьяне доставляли по распоряжению районных властей на постройку моста через реку Случь.
«Дивизионные разведчики» уселись на подводы и в сопровождении трех подпольщиков, выделенных Лагуном и хорошо вооруженных, решили захватить Бучатин и уничтожить полицейский постарунок.
Толпа провожала их до мостика через речушку Волка. Здесь командир «разведчиков», отведя Лагуна в сторону, признался:
– Слушай, все, что я говорил, – брехня… Никакой десантной дивизии я не видел. Даже не слышал про нее. Со мной всего пять человек. Мы тоже по деревням зимовали, а как немцы подпирать начали, сорвались и надумали двинуть на восток, поближе к фронту.
– Эх ты! – упрекнул Лагун. – Взбудоражил народ… Сам-то ты хоть кто?
– Я, брат, пограничник бывший. Кадровую на Дальнем Востоке служил, а в тридцать девятом как взяли на трехмесячный сбор, так и закаруселило… Из Тулы я. На гражданке председателем колхоза был. А война застигла на Буге, там и застрял. Думка есть – перейти линию фронта. Если не всем, то хоть кому-нибудь из пятерых. Надо нашему командованию сказать, что здесь и в самом деле целую дивизию держать можно.
– А теперь уйдешь, значит?
– Уйду, брат. Только ты ни гу-гу! Пусть фрицы побегают, поищут нашу десантную из пяти человек!.. А полицаев ваших в Бучатине я подберу, не бойся!
Пограничник со своими товарищами тронулся дальше, а Лагун бросился собирать своих.
Вскоре он узнал, что кто-то опередил «дивизионную разведку», добежал до Бучатина и разнес весть о приближающейся десантной дивизии с пушками.
Поэтому, добравшись до Бучатина, «разведчики» захватили только одного полицая, не проспавшегося после пьянки. Остальные, даже не захватив оружия, кинулись в постарунок М. Семежково.
«Десантников» же встречала огромная, человек в шестьсот, толпа ликующих крестьян.
Расхрабрившийся пограничник, имея в распоряжении уже не пятерых бойцов, а целых восемь (троих дал в подмогу Лагун), выставил на концах деревни караул и снова произнес речь.
На этот раз десантная дивизия пополнилась гаубицами и танками.
И опять плакали женщины, опять забегали они, готовясь встречать своих.
Ведь у многих сыновья и мужья были в армии, от них не было вестей, и – как знать? – они тоже могли оказаться в десантной дивизии!
Да хоть бы и не оказались! Все равно шли свои, родные, кровные, советские!
Завершив выступление, пограничник подал команду снять несуществующие пулеметные засады, а один из его орлов, подойдя со стороны, лихо отрапортовал:
– Товарищ майор! Батарея установлена на высоте ноль восемьдесят пять! Вам приказано прибыть в штаб дивизии в село Выгода.
– Ясно, – сказал новоявленный майор и, попрощавшись с крестьянами, уселся на повозку.
Его провожали за околицу, махали вслед, плакали, кричали, чтобы скорее возвращалась вся дивизия…
Между тем полицаи добежали до М. Семежково, а оттуда добрались и до райцентра Красная Слобода.
Видимо, они наплели коменданту с три короба, потому что этот вояка не рискнул выступить в Бучатин. Приказав шестидесяти карателям и семидесяти четырем полицейским занять круговую оборону, он телеграфировал своему начальству о появлении в районе крупной банды с орудиями.
Поднялся переполох. Немецкое командование срочно перебросило в Красную Слободу итальянскую дивизию, ожидавшую погрузки на станции Слуцк.
Но пограничника и след простыл, исчезло и бучатинское подполье. Только Лагун, как местный житель и находящийся почти вне подозрений человек, был оставлен в селе, чтобы сообщать всем прибывающим, что место сбора отряда назначено в орликовских лесах, в районе столицкого смолзавода.
На последнем совещании в селе подпольщики единодушно решили: командиром отряда избрать Степана-сапожника, то есть капитана Каплуна, а начальником штаба – Гончарука.
Оставшийся на своем месте Лагун вскоре убедился, что немцы начали энергичные поиски «десантной дивизии»: они проверяли деревни, прочесывали все ближайшие леса. Пошли массовые аресты бывшего партийно-советского актива, бежавших из лагерей пленных, евреев.
Иных расстреливали на месте, иных везли в Слуцк и расстреливали в городе, на площади, где и закапывали в заранее вырытые ямы.
Каратели заняли и Бучатин, но до хуторка Лагуна пока не добрались. Они появились на следующее утро. Лагун дома не ночевал, отсиживался в кустах. Заметив немецкого офицера и солдат, окружавших хату, он выбрался из своей засады и два дня скрывался у одного из соседей. Арестовав беременную жену Лагуна и восьмилетнего сынишку, фашисты повели их в тюрьму. Сынишке удалось спрятаться среди набежавшей детворы, а жену Лагуна увезли в Слуцк.
Узнав от соседа, что немцы не снимают засады возле хаты, Лагун не стал испытывать судьбу и той же ночью ушел в орликовские леса, в отряд Каплуна.
Отряд благополучно избежал облавы, выскользнул из кольца карателей и ушел на поиски отряда Коржа, о котором ходили слухи, что он прислан из Москвы, имеет рацию, принимает самолеты с Большой земли.
Сто восемь человек привел капитан Каплун в отряд. Привел с боями, имея на счету уничтоженных гитлеровцев, разгромленные обозы и полицейские участки…
Выслушав Василия Захаровича Коржа, я представил себе, в каких условиях начинали местные партизаны. Но мне надо было узнать еще кое-что.
– А в городах как настроен народ? – спросил я.
– Насчет городов… Знаю, к примеру, из Минска подпольщики к Козлову являлись. А от городских жителей, что в партизаны ушли, не раз слышал: в городах тоже не дают покоя оккупантам наши патриоты.
Встретились мы с Коржем и Бондаренко в двенадцать часов дня, а разошлись только в восьмом часу вечера.
Встретились почти не зная друг друга, а расстались добрыми друзьями.
Я доложил Линькову о переговорах с Василием Захаровичем Коржем и Бондаренко, не скрыв своего отношения к этим людям, к их легендарному отряду.
Линьков принял мои излияния сдержанно.
Однако в ближайшие же дни пригласил Коржа прибыть на базу для личной беседы.
Корж получил взрывчатку и некоторое количество боеприпасов.
А я, посоветовавшись с Сеней Скришшком, послал в Центр очередное сообщение:
«Шлите помощников. Краткое ознакомление работой требует обслуживать большой район действия».
Сообщение было датировано 26 августа 1942 года.
Я уже понял, что при помощи партизан мы сможем просматривать огромную территорию, и что один человек справиться с таким делом будет не в силах.
Глава 7
На хутор к Матрене Мацкевич со мной пошли Федор Никитич Якушев, Анатолий Седельников и Николай Кузьменко.
Перед этим я поговорил с Седельниковым и Кузьменко, прямо сказал, что командование отряда хочет назначить их в разведывательную группу.
Седельников встревожился. Сержанту показалось, что таким образом его отстраняют от активных диверсионных действий. Пришлось объяснить, что ему оказывают большое доверие.
И все же Седельников колебался:
– Не имею ни малейшего представления о разведке, товарищ капитан!
– Ничего. Получите представление.
– Даже не знаю, что предстоит делать!
– Объясним… Например, когда пойдем к Матрене, нужно будет вызвать ее на разговор о местных жителях, осторожно узнать, кто хотел бы бороться, а кто продался немцам.
– Да ведь об этом напрямик не спросишь!
– Правильно… Однако вас я спросил о вашем прошлом, и вы мне все рассказали.
– Спросили?.. Просто мы беседовали, вот и…
– Нет. Мы не просто беседовали. Вспомните.
Седельников смотрел озадаченно.
– Товарищ журналист! – засмеялся я. – Где же ваше понимание психологии человека?! Ведь это очень просто! Вы совершенно естественно отреагировали на мою откровенность, открыв свою душу!
Седельников смутился. Кажется, он досадовал и на меня, и на себя.
– Не сердитесь! – сказал я. – Этот прием был употреблен не во вред вам!
– Н-да… – мотнул головой мой собеседник. – Если бы знать… Вы это ловко проделали, товарищ капитан. Я даже не заподозрил подвоха.
– По отношению к вам и не было никакого подвоха. Скорее, это был урок. Вам предстоит вести такие же беседы не раз и не два. В самое ближайшее время.
– У меня так не получится.
– Получится!
Перед тем как идти на хутор, я приказал Якушеву, Седельникову и Кузьменко внимательно прислушиваться к рассказам Матрены и как можно лучше запоминать все, а особенно имена и фамилии, которые она назовет.
– Это наша основная задача! Разговор поведу я, а вы запоминайте. Ясно?
– Ясно, товарищ капитан.
…Мы шли глухим ночным лесом, неприметной, виляющей из стороны в сторону тропой. Впереди – Седельников, за ним мы с Якушевым, сзади – Кузьменко.
Шли долго. Наконец лес кончился, по плечам зашуршал невидимой листвой, царапнул невидимыми сучьями подлесок.
– Выходим, – шепнул Седельников.
Двор Матрены смутно чернел посреди большой поляны. Сквозь одну из ставен еле пробивалась ниточка света.
Убедившись, что все тихо, мы осторожно приблизились.
Седельников взошел на крыльцо, трижды стукнул в крайнее окно. Скрипнули половицы, брякнула щеколда…
Я вошел следом за Седельниковым. Входную дверь за нами закрыли. Невидимая в темноте хозяйка прошла вперед, приоткрыла дверь в избу. Запахло теплом печи, нагретым деревом, кислым тестом.
– Сюда! – шепнул Седельников.
Я натолкнулся на притолоку, шагнул в боковушку, где хозяйка вздувала лампу.
Матрене было лет под сорок. Еще молодое лицо ее, сухое, как говорят – иконописное, приветливо улыбалось над закопченным стеклом лампы.
– Милости просим! – певуче сказала Матрена. – Заходьте, заходьте!
Большие, живые глаза с любопытством оценивали мою новую, в ремнях, куртку, новые диагоналевые брюки, армейские сапоги.
– Мы за хлебом, – сказал Седельников.
– Рановато, – ответила Матрена. – Еще не пекла. Придется обождать.
– Ребятишки-то спят? – спросил я.
– Спят, – сказала Матрена. – Что им сделается?
Мы присели – кто на лавку, кто на застланную рядном постель. Матрена посмотрела тесто, вернулась.
– Курить у вас можно, хозяюшка?
– Да курите, курите!.. Гляжу, табачок-то у вас городской!
– Вспоминают о нас, хозяюшка… А вы что же, и до войны тут жили?
– И до войны жила.
– Не скучно было?
– За работой скучать некогда. Мы с мужем в колхозе состояли. Не бирюки. А что на отшибе стоим, так муж за лесом присматривал.
– Ну, это иное дело… А колхоз большой был?
– Не то чтобы очень, но и не маленький. Обыкновенный.
– Ну а что теперь с колхозом стало? Как люди живут?
– Какая уж тут жизнь! Хорошо еще, немец гарнизона в Милевичах не держит. Да и то…
– Что «да и то»?
– Да так… Фашист фашистом, а и среди своих гады находятся. Доказывают на тех, кто Советскую власть строил, выслуживаются, иуды… Вон как Герман да Кацюбинский!
– Какие это Герман и Кацюбинский?
– Эва! Ими бабы детишек пужают, а вы не знаете? Начальник полиции в Житковичах и его заместитель. Из Залютичей он родом-то, а его заместитель будто бы в прошлом лейтенант. Как немцы пришли, Герман себя и выказал. Всех ведь в округе знает!
– Герман… Не русское имя.
– А он и есть немец. Может, оттого его Гитлер и поставил начальником. Форму полицая нацепил, вместе с помощником своим Кацюбинским пьянствуют, грозят людям… Если, говорят, не будете о партизанах доносить – на столбах повесим. Столбов у нас много, говорят!
– Так… И что же? Боятся Германа?
– Как не бояться? Свои далеко, а он, поди, под боком сидит!
– Понятно… Но вы-то не из пугливых оказались.
Матрена махнула рукой:
– Какая уж героиня! Вижу – голодуете, ну и пеку вот…
Она ушла к печи, долго возилась там, сажала хлебы. Потом вернулась, разрумяненная, пропахшая дымком:
– Скоро управлюсь…
– Доставляем мы вам хлопоты… Значит, больно худо народ в деревнях живет нынче?
– Смотря где. Там, где немец стоит, – худо. А где нету фашиста – ничего. Хлеб-то припрятали, да и скотинку прирежут, не отдадут полицаям.
– Выходит, сами себе хозяева?
– Почему – сами себе? Так жизнь сложилась, а народ о своей власти помнит… Ждет народ. Ну а кто и в партизаны подался. К вам, значит.
– Однако не все подались, а?
– Не все, – согласилась Матрена. – Иному мужику не под силу уже по лесам и болотам бродить. Да и опасаются за семью. Уйдешь к партизанам, семью и прикончат… Разве не бывало? Бывало! А еще – смущаются…
– Как так – смущаются?
– Да ведь поди разбери, кто нынче партизан, а кто от Гитлера подослан на проверку… На лбу-то у людей не написано, чьи они, верно?
– Верно.
– То-то и оно! Да и не попадешь к вам, слыхать. Сторожитесь вы людей-то.
– Обижаете! Нам тоже не расчет первому встречному доверяться.
– Это я понимаю. Как не понять? Да все ж и честные люди есть.
– Это где же? Уж не в Милевичах ли?
– А хоть бы и в Милевичах! Хоть Пришкеля взять. Или вон Пашку Кирбая из рыбхоза… Не партизаны, а честные.
– Что ж? Может быть… Не подгорит хлеб-то, хозяюшка?
– Не бойся, милый, не подгорит… До войны-то Пришкель в активистах ходил, да и Пашка – серьезный, самостоятельный… Бывало, кто из пограничников приедет – непременно у Кирбаев побывает. Уважали ихнюю семью. Да и то сказать – работящие все, душевные.
– Вот ты говоришь, хозяюшка, работящие, душевные… А нынче-то Пашка где? Небось на немцев работает?
– Куда ж ему податься, милый человек? Как был при рыбхозе на Белом, так и остался. А немцы нагрянули, ну, значит, рыбы требуют… Своих людей там поставили. Не больно-то им противиться будешь, коли жить не надоело.
– Да, трудное время…
– И не бывало трудней, – с сердцем сказала Матрена.
Вскоре хлеб испекся. Мы нагрузили свой мешок, поблагодарили хозяйку, условились, что придем через день, и покинули одинокий хутор.
Возле леса остановились отдохнуть.
– Запомнили фамилии? – спросил я спутников.
– Пришкель из Восточных Милевичей, Павел Кирбай из рыбхоза. Ну и эта сволочь, Герман с Кацюбинским.
– Вот видите, ниточка наша удлинилась и раздвоилась. Начало положено. Теперь станем разыскивать Пришкеля и Павла. Если это настоящие патриоты – нить поведет дальше… Судя по рассказам Матрены, Пришкель и Павел Кирбай были связаны с пограничниками. А пограничники на плохих людей не надеялись!