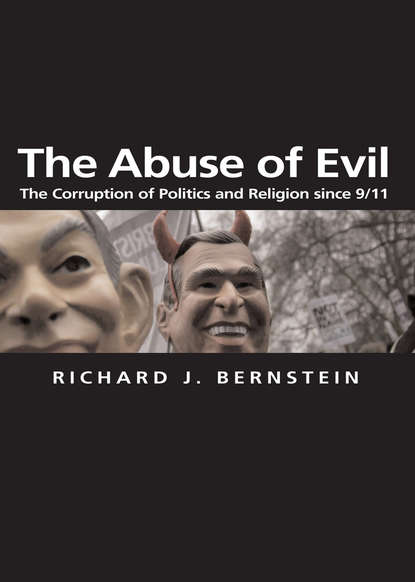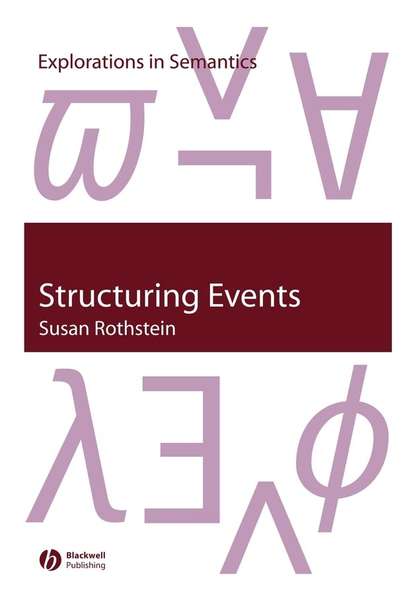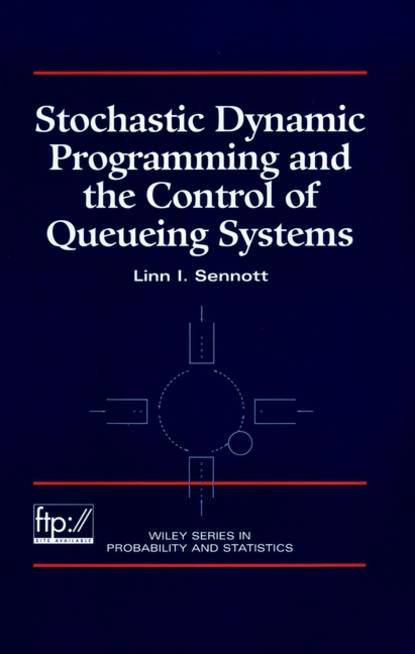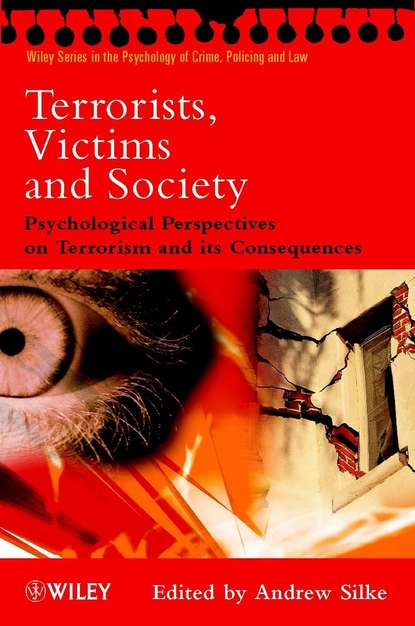- -
- 100%
- +
Идя из магазина домой, в пустую неухоженную квартиру, я выругал себя за то, что соврал насчет дикой своей занятости…
Давно это было, очень давно, уже после этого в ее жизни появился Вова-Солнце, но о нем в двух словах не скажешь, при случае вспомню то время подробнее, а пока – пока беру адресованную мне бутылку и смотрю на витрину с закуской. Рыжая Зина всё понимает без слов, зная вкусы постоянного клиента, взвешивает сыр и краковскую колбасу:
– На одного, или гости намечаются?
– На одного, – говорю я.
– Одному пить вообще-то не рекомендуется.
– Пить вообще не рекомендуется, – то ли соглашаюсь, то ли возражаю я и вдруг помимо желания делаю ей признание. – Я с сегодняшнего дня завязываю.
– А это? – указывает она взглядом на столичную.
– Это чтоб волю свою проверить. Легко бросать, когда под рукой нет бутылки. Я её поставлю на самое видное место и буду показывать ей фигу.
Рыжая Зина распахивает ресницы:
– Вы сильный человек.
– Я сильный пока только в своих желаниях. В желаниях многие – львы.
– А на деле – зайцы?
– Вот и проверим.
Четыре часа дня. Ну что в это время делать дома? Жрать колбасу? Испытывать силу воли, поглядывая на пол-литру? Да нет, чего испытывать-то. Сказал – завязал, значит, завязал. Сейчас о высоком хочется думать и говорить, потому – еду в Измайловский парк, туда, куда частенько просится душа. Остров, царские палаты, яблони, еще не в цвету, кольцевой пруд с горбатым мостиком. С мостика надо спуститься сразу вниз и идти вдоль берега. Тут любят выставляться «скандинавки», одинокие женщины, не потерявшие надежд на лучшую долю. Они лишь делают вид, что усердно занимаются дурацкой ходьбой с лыжными палками. Нет, у них другая задача – стать желанной приманкой для благородного хищника.
ОГстановка
Ну пусть хотя бы и не такого уж благородного, и пусть он приманку эту даже не заглотит, а так, заденет бочком, чуть притопит поплавок, чтоб сердечко, как тот самый поплавок, дрогнуло, и круги пробежали по глади души. Один, второй, третий мимо проходят – козлы, ничего-то они в жизни не понимают, но четвертый, пусть даже пятый-десятый заметит вдруг и накачанную её попку, и плоский животик, и румянец на щеках. «Женщина, что ж вы себя мучаете»… Она, конечно, не остановится, но при повторной встрече, пусть не в этот день, пусть хоть через неделю, уже улыбнется ему как старому знакомому, и если улыбка будет принята – о, это понятно сразу, принята она или нет, – вот тогда можно будет что-то ответить, для начала коротко, не останавливаясь, но ёмко, с юморком, мол, что, я вправду выгляжу измученно? – и плечики при этом расправить, и задницей, задницей как веером…
Я наживки не глотаю, я гляжу сквозь «скандинавок» и иду к старому черному пню. Если повезет, я найду здесь удивительного собеседника. Того, с кем как раз и можно говорить о высоком.
Ну вот, повезло.
Он сидит на корточках у воды и видит лишь колокольчики своих донок. Ему тоже немногим за шестьдесят, мы и комплекции одинаковой, только вместо моей бурной седины у него белая и нежная, как грудь скромной женщины, лысина. Она не загорает под весенним солнцем, поскольку спрятана под ермолку. Впрочем, ермолка звучит уже слишком по-русски, точнее будет называть при хозяине эту вязаную тюбетейку кипой.
– Шолом алейхем, старый еврей!
Не поворачивая головы, он косит на меня глазами и бубнит в ответ так тихо, что я лишь догадываюсь: есть там слово антисемит.
– Выпить хочешь? Или сейчас употребляешь только пейсаховку на изюме?
– Я совсем не пью. Ты же знаешь, я уже давно отказался от спиртного.
Знаю, давно, это правда. Еще в годы перестройки. Тогда он от многого отказался. Был человек коммунистом, причем, не рядовым, а членом бюро огромного оборонного завода, что на Яузе, носил прекрасную по простоте своей фамилию – Петров, звали его кто Ваней, кто Иваном Ивановичем, пил, как все коммунисты и Иваны, под пучок зеленого лука и плавленый сырок, травил анекдоты про евреев, и лысина его проступала не кичливая, а такая как у всех, спокойного, не раздражающего никого цвета, в меру обветренная и загорелая. Наши жёны работали в одном проектном институте, через них мы и познакомились, вместе на ягоды ездили, по грибы, праздники отмечали. Потом как-то во встречах наших случился перерыв, от осенних груздей до летних подберезовиков, и на мой вопрос, не поехать ли нам в лес с Петровыми, жена удивленно сказала:
«С какими Петровыми? Разве ты не знаешь? Он теперь Коган».
Оказывается, бывший член бюро громко ушел из партии, взял фамилию матери, хотел и имя заменить, стать Иохананом, но потом докопался, что у Ивана корни тоже с Сиона… Он рассказывал мне обо всем этом весело под лук и сырок – за грибами мы тогда все же поехали, и обосновывал свои действа весьма путно:
«Представляешь, сокращения начались, уволить меня могли, а я такой финт придумал. Теперь если что – получается, уже не сокращают, а выгоняют по идеологическим и национальным параграфам, так ведь? Не выгнали, испугались. Сработало!»
Мы хохотали и пили водку, и не могли себе представить, как глубоко можно погрузиться в роль, заиграться. Года через полтора Петрова-Когана все равно уволили, не помогла и кипа, занявшая постоянное место на этой небесталанной голове. После этого что-то в ней перемкнуло, в голове этой. Петров стал Коганом, в полном смысле этого слова. До такой степени, что решил уехать из России. Иврит Иван Иванович, слава богу, изучать не стал, Тору тоже не читал, но кое-чего по верхам нахватался, и доставал меня поздними вечерами идиотскими звонками. Он так громко кричал в трубку, что я отстранял её подальше от уха. Одно время он пытался доказывать мне, что Серебряный век измеряется не русским, а еврейским серебром.
– Кто были Татлин, Бруни, Лурье, Тейс – скажи, кто?
Я пробовал отвечать деликатно.
– Иоханан, – говорил я, и жена осуждающе качала головой и толкала меня кулачком в бок. – Иоханан, Серебряный век вообще-то относится к поэзии, понимаешь? Конечно, этим термином пробовали объединить весь процесс культурной жизни того периода, но когда при этом не называют ни одного поэта…
Надо отдать ему должное, Коган был целеустремлен, и уже следующей ночью докладывал:
– Даже название Серебряный век придумали или Оцуп, или Маковский, ты знал это? Они оба были поэты!
ипппппп
Сергей Маковский в эмиграции, во Франции, написал книгу «На Парнасе Серебряного века». Любопытную книгу – о Случевском, Блоке, Гиппиус… О них уже никто не расскажет так, как сделал это он. Правда, Ахматова заметила, что он там немало приукрасил и кое-что наврал…
– Иоханан Иохананович (кулачок жены в бок), возьмите на заметку, что корни Сергея Константиновича Маковского надо искать в Польше, его дед именно оттуда. А что касаемо Николая Авдеевича Оцупа – прочтите-ка две любые строки из него.
– На память? – тускло спросил Коган.
– Можете открыть любую его книгу, что под рукой, прочесть…
Любую. Это я, конечно, перегнул. У Оцупа одна книга вышла в двадцатых годах в издательстве «Цех поэтов», где он одно время работал, а вторая, «Океан времени», в начале девяностых, крохотным тиражом. Были и еще книги, но те увидели свет во Франции – там жил он в эмиграции со времен Гражданской войны.
ррррррррр
– Но он же поэт? – сказал после паузы Коган.
– Для тебя главное, что он еврей, вот в чем беда. Но я еще слышал краем уха, что первым назвал век Серебряным Бердяев Николай Александрович. У него отец русский офицер, у матери примесь французских кровей, но вот жена… У нее отчество Юдифовна, понимаешь? Ты поройся этом направлении.
Звонок этот был уже перед тем, как я надумал лечь спать, после него же взбудоражился настолько, что пошел на кухню, налил стопку. Лида вошла следом, сказала:
– Не надо тебе так.
Это касалось не водки. За водку она меня никогда не попрекала, да я в то время и не пил чтоб уж очень.
– А как надо?
Жена пожала плечами:
– Не знаю. Мне Инну жалко. Прекрасная женщина. А Иван просто болен.
– Это ты больна! А он дурак, просто дурак, понимаешь?
пппппппппппппппп
Потом мы увиделись на похоронах Лиды, и долгое-долгое время я ничего не слышал о нем, да и не хотел слышать. Не до Когана мне было. Случайно увиделся с ним лишь в прошлом сентябре. Я выбрал этот парк из-за зябликов. Прогуливался во многих, но голодной весной только здесь зяблики брали семечки с ладони. Бродил я этими аллеями весной, летом, издали, чтоб не мешать, следил за рыбаками. У меня и на балконе, и на даче уже который год зачехлены удилища и пылятся зимние ящики. Не доходят как-то до них руки. Правда, на даче есть старый спиннинг, еще с инерционной катушкой, и года два назад на ржавую блесну не знамо как я поймал на местном озере вполне себе порядочную щучку, на три килограмма с копейками…
Рыбаки располагались у среза воды, я видел только их спины. И по спине узнал Когана. У него длинная шея, растущая из узких покатых плеч – как у черепахи, тянущейся за листком. Зеленый широкий плащ выдувался горбом и усиливал сходство с панцирем.
В первый раз мы даже не поздоровались. Он оглянулся, мы обменялись кивками, у него звякнул колокольчик на донке и я поспешно ушел. Так было и во второй раз. Не о чем было говорить. Даже о клёве спрашивать незачем: садок с карасями был виден и так. Но я тут бывал часто, и слово за слово мы все же стали разговаривать. Я узнал, что с отъездом на землю обетованную у него дела затягивались, уж не знаю, почему, жена, дочь и сын работают, вроде бы неплохо зарабатывают, вот только детям уже под тридцать, а всё не обзаводятся своими семьями.
Я заметил, что Коган стал картавить – не выговаривать «р». Наверное, тоже – играл, играл, и на тебе, получай! Петров не грассировал, я это точно помню.
– Серебряным веком уже не интересуешься? – спросил я как-то.
– Нет. Есть интересы поважнее.
– Но еврейством все-таки не переболел?
У меня, как и раньше, не хватало такта, чтоб вести светские беседы.
– Что значит, переболел? Это кровь, это гены, это навсегда!
И поправил ермолку на лысой голове.
– Ну прости.
– За что? Что ты называешь меня евреем? Человек испытывает гордость, когда его называют по национальности, тут нет ничего зазорного. Только у тебя это звучит… Словно ты антисемит. О национальности всегда и всем надо говорить с должным уважением, без насмешек.
Меня вдруг прорвало на словах о должном уважении:
– Слушай, Иоханан, а ты обрезание делал?
Он не оскорбился, не рассмеялся, лишь губы изогнулись в скорбную подкову:
– Раньше надо было думать. Сейчас там обрезать уже нечего.
Вот такие диалоги проходят теперь между нами.
Сегодня, значит, я окликнул его, предложил выпить, шутя, конечно, предложил, но уж не знаю, что было бы, если бы он согласился. Оставался бы он Петровым, пришлось бы мне начинать трезвую жизнь не с сегодняшнего, а с завтрашнего дня.
Но он уже Коган. Он поправляет леску на донках, потом поднимается ко мне: пятясь, спиной, не отрывая взгляда от колокольчиков:
– Нам бы поговорить как-то, просьба у меня к тебе огромная будет.
– Присаживайся, – киваю я на черный пень поваленного два года назад ветром дерева.
– Нет, это… Накоротке не пойдет. Ты завтра сюда не подойдешь?
– С удочками?
Коган понимает мой намёк:
– С удочками не получится, я тоже их не возьму. Тема серьезная. Даже две темы.
На левой донке колокольчик тенькнул синичкой. Иоханан метнулся к нему, вытянул руку, чтоб, если клев продолжится, рвануть на себя леску, подсечь очередного карася. Так и застыл согбенно, словно нищий на паперти, просящий подаяния.
Я сел на пень. Душа рыбака на этот раз не позволила уйти, ей захотелось увидеть, что вода подаст этому нищему.
Кто-то положил мне ладонь на плечо. Скосил глаза. Знакомая ладонь. Ухоженные пальчики, перстень с крупным янтарём в серебре. Стоит копейки, хоть и старинная работа, девятнадцатый век. Самодеятельность. Лудильщик посуды гранил и паял сие украшение, чтоб подарить его любимой женщине – бабушке Людмилы.
– Какими судьбами? – спросил я, не оборачиваясь.
Людмила убрала руку:
– Если честно, заволновалась. В бухгалтерии сказали, ты зарплату получил, домой тебе позвонила – не отвечаешь, решила, загулял, вот и направилась в одно из злачных твоих мест…
– Парк – место культурного отдыха трудящихся, между прочим, а никакое не злачное.
– Ага, – сказала Людмила. – Как водка – напиток радости и общения. Ты что, вправду еще не пил?
– И не собираюсь. – Я встал и приподнял перед собой пузатый портфель. – Не до этого. Санин дал новую рукопись, у меня всего два дня на рецензию.
– Разве это тебя когда-то останавливало?
Было дело, Людмила выцарапывала меня из «обезьянника», и давала ментам на бутылку, чтоб они собрали по камере рассыпанные мною страницы романа. Роман, правда, не стоил даже бутылки, чушь собачья оказалась, а не роман, но не в нём ведь суть…
– Знаешь, я, кажется, завязал. Не улыбайся, я что, когда-нибудь обещал такое?
– Вводное слово «кажется» – это далеко не обещание, а неуверенное предположение. Ты же себя стилистиком считаешь. Точнее будь в формулировках. Ладно, я успокоилась и ухожу.
– Нет, пойдем вместе. А то я товарища отвлекаю от добычи пищи – это его единственный способ прокормить семью.
Иоханан услышал, конечно же. Колокольчик больше не ожил, а он вынул из кармана плаща-панциря пакет и пересыпал в него из садка красавцев карасей:
– Возьмите, пожарите, тут вода чистая, без запаха рыба. Нам она уже приелась. Так, для удовольствия сюда хожу.
– Рассчитываешь, что откажемся?
Он наконец улыбнулся:
– Рассчитываю, что завтра придешь. Правда, совет твой нужен.
– Ну правильно. Разве еврей сделает что-то бескорыстно?
Он повернулся к нам спиной. И мы с Людмилой, взяв таки карасей, пошли в сторону горбатого мостика, к метро.
– Ты иногда бываешь злым, – сказала она.
– Коган иногда бывает Петровым, – сказал я.
Людмила вздохнула:
– Хорошо, что у нас с тобой ничего не получилось.
– Ну почему? Что-то там иногда вроде получалось… Или мне казалось…
– С тобой, Алёша, бывает тяжело, очень тяжело. Ты и шутишь там, где не надо, и на темы такие… Как с тобой только жена жила.
– Она умела держать меня в руках.
– Господи, отдать бы тебя в хорошие руки…
За мостом, у кустарника, кучковались бомжеватые мужички. Я пил как-то с ними. Спустил всё, что было в карманах. У мужиков этих нет даже мелочи на пирожок с картошкой. Подарить корефанам бутылку, что ли?
Почувствовав, что я замедлил шаг и перехватив мой взгляд, Людмила взяла меня под руку:
– Пойдем ко мне, действительно карасей нажарим.
– А после того, как… – я локтем попробовал поиграть её грудью, но она без раздражения, однако твердо сказала:
– Нет. Легкий ужин – и ты идешь домой.
По большому счету, я это и хотел услышать.
Глава 3.
Автор новой рукописи, которой меня снабдил шеф – Продувалов Вячеслав Павлович. Когда-то наши с ним пути пересеклись в одном гуманитарном институте, где меня попросили прочесть лекцию о своеобразии языка Гоголя. Задача эта, конечно, неблагородна, ибо никто, даже уважаемый мною Виктор Борисович Шкловский, о своеобразии этом толком бы ничего не сказал. Все знают, как бьётся сердце, но попробуй объясни – как. Талант нельзя препарировать.
Перед той же аудиторией после меня выступал Продувалов – говорил что-то там о соцреализме. Да-да, это было время, когда студенты еще интересовались Гоголем, а реализм делился на политические категории.
Пауза
Продувалова я остался послушать. Он был из молодых и многообещающих литературоведов, печатался в толстых журналах, ездил на литературные семинары… И надо ж было такому случиться, что первая наша встреча завершилась для него, скажем так, гадко. После лекций нам накрыли стол, я принял свою умеренную дозу и раскланялся, и что произошло потом, узнал уже позже. Сторонник соцреализма в литературе прямо на столе с салатами и бутылками захотел поиметь студенточку, но в самый ответственный момент в кабинет ворвался её однокурсник и набил морду кандидату филологических наук Вячеславу Павловичу Продувалову. Дело почему-то не замяли, оно получило огласку, про оргвыводы не знаю, меня это мало интересовало, но статей этого автора в толстых журналах я уже не встречал. Впрочем, сами эти журналы тоже вскоре приказали долго жить…
Продувалов изменился. Был кучерявым Апполоном, высоким, плотным, громогласным, но за минувшие лет двадцать кучери сменил на полированную цвета слоновой кости лысину, заметно похудел, скопировал чеховскую бородку, а вот голос остался уверенным и твердым.
Я тоже, конечно, не бесследно для своей анатомии эти годы прожил, и меня он не сразу узнал. Да и с какой стати узнавать-то?
Мы сидим в кабинете издательства, таком же крохотном, как и кабинет Людмилы, только без стеллажей и папок. Единственная рукопись, которая находится здесь, лежит передо мной в папке с завязанными тесёмками и крупным названием: «Сашка, тот ещё негодяй!»
Нормальный заголовок, привлекательный. Во всяком случае, на книжных развалах лично я обратил бы на него внимание.
Ниже заголовка более мелким шрифтом выведено: «Неизвестные страницы из жизни А.С. Пушкина».
пауза
Многие редакторы рукописи вначале читают по диагонали, чтоб составить общее мнение и решить, есть ли смысл возиться с написанным. Для меня хватает трех страниц, причем, не подряд, а раскрытых наугад, чтоб понять, профессионал ли их писал. Тут дело не в дипломах и опыте, конечно. Профессионалом можно быть и в четырнадцать, есть тому примеры. Это не владение словом и слогом. Словом и слогом могут владеть многие, но для литературы этого недостаточно. Конечно, не все так думают.
Интересно, сколько лет Я. Княжичу?
Хотя, чего это я о нём…
Продувалов Вячеслав Павлович прекрасно знает, что рукопись я заполучил только вчера, но зачем-то очень возжелал увидеться. Вошел в кабинет так, словно он тут хозяин, правой пожал мне руку, а левой похлопал по плечу, как тренер игрока, забившего гол.
Едва я начал говорить, что успел посмотреть всего пару глав, как он перебил меня:
– Алексей, тут смотреть нечего. Ну, может, запятую где-то пропустил, так это дело корректоров. А так всё нормально, всё выверено, я думаю, книга нарасхват пойдет. Между прочим, когда только прошла информация, над чем я работаю, уже от издательств предложения посыпались. Но мне захотелось издаться у вас. У Игорёши и база хорошая, и гонорары он вовремя платит. Желательно бы, конечно, больше, но ныне, знаю, везде одинаково мало. Я, кстати, с Паниным неделю назад беседовал, когда свой труд принёс, он идеей загорелся, сказал, лучший редактор рукописью займется…
– Простите, Вячеслав Павлович, а Панин – это кто?
Продувалов округлил глаза и выпятил нижнюю губу:
– Юмор у тебя такой, что ли? Начальник издательства, естественно, твой руководитель.
– Начальник издательства у нас Игорь Игоревич Санин.
Гостя это не смутило:
– А, ну да, Санин.
Шеф, передавая мне рукопись, сказал: «Пролистал бегом, черт его знает, то ли хихикать, то ли руки вымыть… Как решишь, так и поступай».
Продувалов развернул стул так, чтоб можно было вытянуть ноги, и свел ладони замком на затылке:
– Я, Алексей, Пушкиным занимаюсь серьезно и долго, мне претит, что из него идола бронзового сделали, понимаешь? Двадцать пять вызовов на дуэли, пьяные потасовки, а баб он сколько перетрахал, а? Вот и решил показать его живчиком, таким, как все мы, грешные. Народу нравится, что у великих такие же слабости. Может, попробуют за перо взяться, сравниться с гениями и в творчестве, а?
Он рассмеялся. Я не мешал ему.
– Ты вообще, как с Пушкиным?
– Как народ, – осторожно сказал я. – Уважаю.
– Это ясно. Он наше всё, чего там. Но вот здесь, – Продувалов показал пальцем на папку, – собраны удивительные факты! Его классическое «Я вас любил», помнишь? Так вот, оказывается, в тот день, когда Александр Сергеевич сочинил это посвящение Анне Керн, он её поимел по полной программе! И написал об этом своему другу: мол, приезжала Анна, и я её с божьей помощью… Без всякой цензуры, понимаешь? Что сделал, то и написал. А до этого также забавлялся с её двоюродной сестрицей, Анечкой Олениной.
– И тоже кому-то письменно признался в этом?
– Нет, но сам факт предположить такое вполне допустим…
– Не вполне, Вячеслав Павлович, – сказал я. – Анну Керн выдали совсем юной за старого генерала, а она хотела счастья, потому искала его с другими, и Пушкин для нее стал одним из этих других, как Дельвиг, как Соболевский… Потом она взялась за ум, вышла замуж за юнкера на двадцать лет младше её уже по любви и жила с мужем крайне бедно, но довольна собой. И Пушкин поступил паскудно, написав так о ней, причем, Нащокину, гуляке и картёжнику. Хотя, в двадцать семь мы все любим потрепаться о женщинах. Но, думаю, если б он знал, что Нащокин начнет трезвонить об этом… В общем, не по-мужски поступил, как негодяй, вы правильно в подзаголовке отметили.
Продувалов заёрзал на стуле, зажевал тонкими губами:
– Я, видишь ли… Я в слово «негодяй» вкладывал иронический смысл, а вовсе не осуждающий. Ты как редактор должен это понять.
– Не дано, видно, Вячеслав Павлович, – сказал я. – Какая ирония – хвастаться, что с женщиной переспал? А с Анной Олениной, кстати, у Пушкина ничего не было. Там совершенно иная ситуация. Если хотите, я попробую доказать.
– Нет. – Продувалов обиженно подтянул ноги, положил ладони на край стола. – Есть, знаешь ли, твоё мнение, а есть моё, я его изложил в рукописи, и оспаривать свою правоту… Ну это нехорошо, это как-то по-школярски. Пусть уж читатель решает, прав я или нет. Главное, фактических ошибок, Алексей, в книге нет, а остальное дело вкуса и моральных убеждений каждого. Ведь нет же ошибок?
– Я не успел всё посмотреть…
– А чего смотреть? – Продувалов начал заводиться. – Ты, конечно, я так понял, Пушкина тоже не только по школьной программе учил, но я им занимался, понимаешь? Я в тему вошел, я знаю, о чем говорю…
– Я не всё успел посмотреть, Вячеслав Павлович, – прервал я гостя. – Но ошибочки есть. Одна, думаю, существенная.
Он напрягся:
– Разреши узнать?
– А как же. У вас Саша Пушкин в лицее читает друзьям «Войну богов»…
– Да, поэта Парни, которого он очень любил. Ты что, и с этим не согласен?
– …Читает вот эти строки: «Чтоб быть счастливым, надо скромно жить, не домогаясь почестей и славы»…
– Ну, правильно, Пушкин читает это друзьям. И что дальше? Лучший редактор издательства будет сейчас спрашивать у автора, где доказательства того, что Пушкин это читал?
Холодная презрительная улыбка легла на губы Продувалова.
– Пушкин не мог читать эти строки, Вячеслав Павлович. Вы приводите перевод «Войны богов» Эвариста Парни, сделанный Валентином Григорьевичем Дмитриевым, которого лично я имел счастье знать. Дмитриев умер четверть века назад.
Голос Продувалова тотчас осел и злость улетучилась с улыбки:
– Это… Правильно, это гол в мои ворота. А в чьем переводе он тогда мог читать француза?
Я пожал плечами:
– Может, Батюшкова, хотя, насколько мне известно, тот «Войну богов» не переводил. Но юному Пушкину скорее всего не нужен был переводчик. В лицее он уже сочинял на французском – «Мой портрет», «Стансы»… Он не только по девкам бегал, но и стихи писал, представьте себе.
В нашем разговоре впервые возникла пауза, и лично мне никоим образом не хотелось её нарушать. Это сделал он.
– Ещё что-то подобное успел накопать? Я адекватен, я соглашаюсь, если замечания верные. Слушай, что, если мы заменим подзаголовок? «Сашка – тот еще сукин сын», а? Ведь это Пушкин сам о себе так выразился.
– Выразился. Когда закончил «Бориса Годунова» и прочел его сам себе вслух. «Ай да Пушкин, ай да сукин сын» – это творческая самооценка, ни к женщинам, ни к дуэлям, ни к выпивкам отношения не имеющая.
Продувалов шумно вздохнул и старательно избегая смотреть на меня – уставил взгляд в свою папку – спросил:
– Что скажешь в заключение? Я над замечаниями готов поработать, в пределах разумного, естественно, но в целом – пойдёт у вас книга или нет? Или нести в другое издательство?
пауза
– Несите, Вячеслав Павлович. Там, может быть, и замечаний не будет. Ну негодяй Пушкин – и негодяй, они согласятся. А я буду находить тысячи придирок, чтоб рукопись у нас не издалась, честно вам признаюсь.
– Значит, хотите, чтоб Пушкин оставался из бронзы?
– Ну, не из говна, во всяком случае.
– А женщины – их у Пушкина не было?
– У Пушкина они были. В вашей рукописи их нет. Тут только бляди. Знаете, по чему определялось, что Александр Сергеевич называл Анну Оленину возлюбленной? По тому, что он целовал ей руку. Руку, а не голую ляшку.