В годину смут и перемен. Часть 3. Параллельная реальность
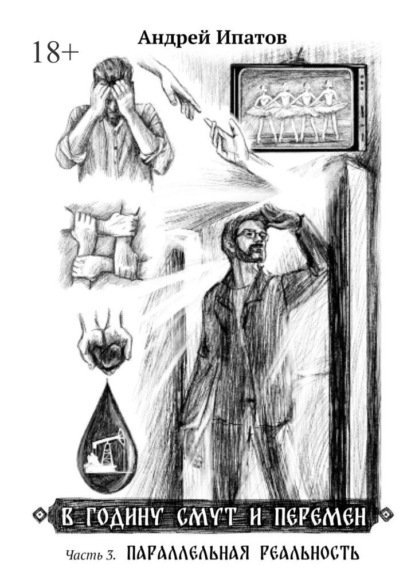
- -
- 100%
- +
Вечером, размышляя над встречей с эфой, Александр уверовал, что все же с честью прошел и этот свой надуманный тест. Ведь он не испугался, не убежал прочь, наоборот, он ее долго преследовал, а главное, научился видеть в страшной ядовитой твари ее природное великолепие, одно из чудес эволюции мира. Нет, в самом деле, он перестал их бояться, а потому – второй зачет!
Сейчас можно только посмеяться над тем сопливым парнем, над его вульгарной романтикой, которой он заменил реальные шаги к сближению с понравившейся ему девушкой. А ведь к тому моменту опыт этой самой плотской любви у него уже был, но душа-то искала чего-то другого, пусть и наивного, но идеально чистого и искренне доброго.
* * *Еще один проверочный тест для Шусараши с высотой случился уже при совсем иных обстоятельствах, в присутствии самой зазнобы Зои. Они вместе были в походе на Кавказе. Рядом с их палаточным лагерем находилась эффектная отвесная скала высотой метров в сорок, наверх к которой вела сначала тропа, а потом еле угадываемые снизу ступени в самом теле скалы. В общем, альпинисту или скалолазу взять ее было вполне по силам. Даже без страховки. Однако в их группе водников таковых не было. Зато Зойке приперло попробовать себя на этой стене – типа «я круче мужиков!».
Конечно, это снизу все просто казалось. Когда пройдешь, балансируя, две трети пути по осыпающейся тропе, то далее надо уже натурально лезть вертикально на гору. Лезть, цепляясь руками и ногами за выступы скального массива, – это уже большая разница. Это уже не тропа. К тому же перепад высоты здесь вполне приличный – на финише будет никак не менее высоты десяти- или даже двенадцатиэтажного дома! Только вот рисковать не имело никакого смысла – еще вчера они всей группой дружно взошли на пик, но по обходной безопасной дороге, занимавшей пути всего-то минут пятнадцать-двадцать.
Зойка долезла в лоб примерно до седьмого этажа, при этом все друзья снизу буквально умоляли ее срочно вернуться. Наконец она одумалась и спустилась. Довольная, хотя ободранные в кровь руки еще долго дрожали, а речь была эмоционально сбивчивая.
Чуть позже среди туристов состоялся такой разговор:
– Зойка, а что ты мне дашь, если я поднимусь наверх? – спросил один из парней по кликухе Мамонт. – Вот если ты мне пообещаешь поцелуй, то я тогда готов попробовать!
– Нет, у тебя тоже не получится. Там нужна специальная подготовка. Я это теперь точно знаю, поверь. И вообще штука опасная. Риск не оправдывает цели. А насчет моего поцелуя – подарю любому, кто из вас взойдет наверх по этому склону. Это я готова пообещать! Тем более что мой поцелуй при мне стопроцентно и останется.
Однако тот после ее подтверждающих слов уверенно вышел к подножию скалы. Парень звался Мамонт, потому как он и в самом деле был большой: килограммов за сто веса и ростом метр девяносто. Несмотря на некоторую тучность, храбрости и ловкости ему было не занимать. С некоторыми перерывами и обдумываниями пути он за четверть часа взошел вверх и радостно помахал всем с края обрыва. После чего, видимо, пошел на спуск уже по обходной дороге. «Вот он, настоящий герой! – почему-то радовалась больше всех Зойка. – Заслужил мой поцелуй, ничего не скажешь! А что, есть еще идиоты лезть?»
Шусараша видел, как карабкался Мамонт, и понял суть его правильной тактики. В принципе, он бы мог теперь повторить данный путь. Высоты он в последнее время стал меньше бояться. Нашел в себе какие-то внутренние установки, которые позволяли отвлечься от данной фобии. Но только делить поцелуи Зои с другим ухажером ему казалось противным.
Тем не менее Сашка и сам не заметил момента, как ноги понесли его к скале. Пульс и давление в нем зашкалили, злость на Зойку, Мамонта и самого себя – не передать словами! Единственное, чего он сейчас не боялся и абсолютно знал, что такого с ним не случится, – так это погибнуть вдруг.
Скорость подъема Шусараши была раза в два быстрее, чем у его предшественника. Отметившись поднятой рукой на вершине скалы, спустился он вниз все тем же путем. Это было сделано на автомате. Потому как если думать, куда и как ставить руки и переставлять ноги, ни в жизнь не спустишься. Проще опять забраться вверх. Когда к лагерю вышел Мамонт, Сашка тоже фактически уже сбегал от скалы последние метры по тропе. Их обоих друзья бурно приветствовали криками и хлопаньем в ладоши.
Мамонт, не имея еще представления о том, что без него Шусарашка тоже поднимался на скалу, подбежал к Зое раньше и показал ей рукой на свои губы, типа готов принять от нее расплату. Девушка, ничуть не смутившись, поцеловала его практически в губы, да еще с задержкой на две-три секунды, как будто это происходит на свадьбе и их постановочно фотографируют. Такой фривольный поцелуй, естественно, был в ажиотаже поддержан заинтригованной публикой.
Далее была очередь награды для Шусараши, но он даже не подошел к своей любимой, а остался стоять в стороне, как бы не понимая, что от него хотят.
– Ну, Шусарашка! Долго мне тебя ждать? Ты подойдешь или ты хочешь, чтобы я за тобой здесь гонялась?
– Не стоит! Мой подвиг был бесплатным! Если уж тебе так хочется поцеловаться, то повтори опять с Мамонтом. Мамонт! Я дарю тебе еще один Зойкин поцелуй!
Зойка засмеялась и тут же, подбежав к Мамонту, чмокнула его снова. Непринужденно, но уже не в губы, а в щеку, как дальнего родственника…
Позже в уединенном месте она спросила Шусарашу: «Почему ты так поступил? Побрезговал? Не понравилось, что я перед тобой Мамонта первого поцеловала?»
– Ну вот, видишь, ты у нас девочка умная, понятливая! Как сказал поэт: «Они перешли на „ты“, а что-то главное пропало…»
* * *Потом были в его тестовой программе и обратные проверочные тесты – простые, незамысловатые, но требующие от Зои определенных и, что важно, мгновенных решений, идущих от ее внутренней сути. Почти все они были с отрицательным для влюбленного парня результатом. Девушка не смогла ради его (якобы) дел оставить или перенести свои, ради его (якобы) лечения в походе пожертвовать посиделками у костра, ради его (в реальности) душевного спасения срочно прийти в час Х на запрошенную помощь. На открытость парня она отвечала насмешливой закрытостью, на доброту – издевками и лукавой черствостью. Наконец, на знаки преданности и признания в любви – изворотливым враньем и банальными увертками. Она хоть и восхищалась им как редким для их времени рыцарем, но тут же смеялась, говоря, что на самом деле всем дульсинеям нравятся брутальные ловеласы или даже откровенные хамы-хохмачи.
Но все равно это были лучшие и счастливые годы в жизни Шусараши. Ведь не зря же мысль великого Конфуция гласит: «Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – это когда тебя любят, настоящее счастье – это когда любишь ты!» Впрочем, понятие «счастье» – не обязательно сама любовь. Отсутствие несчастья – уже самое что ни на есть счастье. А так, конечно, бескорыстная отдача частички себя другому человеку или получение от него для самого такой частички, безусловно, и есть настоящее человеческое счастье!
Еще говорят, что у кошки целых девять жизней, так вот у человека их тоже может быть около того. Просто каждая человеческая жизнь – это и есть его главная любовь… Конечно, у людей любовь и счастье, в отличие от кошек, понятия относительные. Чем человек более творческая натура, тем более реальными выглядят его миражи. Да и понятие «любовь» – оно многогранно. Можно безмерно любить родителей, детей, животных, природу, а можно быть по-настоящему счастливым от любви к своей работе, от сделанных научных открытий, от спортивных достижений, от бессонных творческих минут и часов, от незабываемых путешествий или приключений. Но без того фокуса счастья, о котором было сказано выше, человек все равно останется обделенным судьбой.
В глубокой старости он может пересчитать все свои дни былого счастья, по-честному отфильтровать их (отмыть от шлама, как золотодобытчик ищет крупинки золота), оставив только те знаки, когда случалось настоящее счастье. Вот только тогда и прояснится, сколько же их в самом деле случилось за долгую жизнь, сколько «внутренних жизней» подарила человеку судьба. Если лоток окажется совершенно пустым, ваша жизнь, ваша судьба, ваш ангел-хранитель обделили вас, а вы, наверное, одновременно обманули и их надежды. Ведь для чего-то же вы родились, росли, трудились, плодились? Не просто же для того, чтобы стать винтиком в механизме меняющегося пространства-времени?
Шлагбаум на въезде в науку
(за 7—9 лет до даты «Ч»)
Неким рубежом и индикатором итогов обучения в советской стране считалось то, куда и кем бывшего студента распределят после окончания вуза. Разумеется, как и теперь, ранее одни места профессиональной деятельности считались престижными (например, оставление в очной аспирантуре вуза или устройство в уважаемый отраслевой или даже академический НИИ), другие же совершенно никак не котировались – болото: ни перспектив, ни зарплаты, ни творческих начал, ни самоудовлетворенности. Впрочем, у многих студентов были искаженные представления на этот счет. Кому-то было достаточно вернуться (или остаться) в город под крылышко своих родителей и при этом неважно каким родом деятельности заниматься (формальная цель получения диплома о высшем образовании ведь достигнута). Другим этот диплом нужен был лишь как трамплин в романтику странствий и трудностей, да, может, еще и к рублю подлиннее в придачу. Комиссией вуза (часто с участием в ней представителей от профильных производств) при распределении на работу в принципе учитывались условные рейтинги выпускников, заработанные по результатам семестровых учебных аттестаций. Первое, что обычно озвучивали в присутствии распределяемого студента, – это средний балл по учебе, наличие премий от студенческого научно-технического общества СНО (если таковые случались), но все же самый главный акцент касался совершенно других заслуг, а именно: что ты сделал на поле общественно-политической комсомольской деятельности.
Сейчас, когда родители платят за обучение в высшей школе приличные деньги (где-то это стоимость автомобиля, а где-то и целой московской квартиры!), нет никаких гарантий, что после окончания престижнейшего вуза удастся найти отпрыску достойную работу по его специальности. Во времена же СССР все выпускники университетов и институтов были просто обязаны не менее трех лет отработать по государственному распределению. Правда, и учеба тогда была априори бесплатной, в престижные вузы принимали не абы кого, а только после сдачи не всем посильных экзаменов. А потому получаемые после вуза блага однозначностью коррелировали с его престижностью.
В факультетском выпуске Шусараши большого ажиотажа относительно распределения не наблюдалось. Последние два-три года практически все студенты активно поездили по стране на производственные и преддипломные практики, где не только черпали информацию об особенностях выбранной ими (осознанно или по дурости) будущей профессии, но и заводили на местах связи с потенциальными начальниками, обговаривали условия будущей работы, перспективы заработка и готовность жилья для молодых специалистов.
Другая часть однокурсников тоже особенно не суетилась – ведь за них уже все решили родители, определили, куда и зачем пойдет работать ребенок, договорились, как организовать нужный вызов на конкретные ФИО от предприятия (иногда совсем не профильного, но зато по месту работы родственников или друзей родителей). Вообще, в те годы нефтегазовый комплекс в СССР развивался наиболее бурно и динамично. Так что даже последний по учебному рейтингу двойко-троечник имел возможность кое из чего выбирать. Спрос (заявки от предприятий) на нефтяников и газовиков кратно превышал запаздывающее предложение.
Казалось бы, еще совсем недавно Александр видел свою будущую работу молодым специалистом исключительно в полевом варианте на одном из крупных месторождений Западной Сибири в еще не обустроенном, только рождающемся молодежном городе. В плане распределения его интересовали не само место («пусть хоть в тундре, хоть в тайге»), не бытовые удобства («и койка в общаге-вагончике сойдет»), а некоторые косвенные сопутствующие факторы жития там: как все будет с точки зрения возможностей вылазок на природу, что там с рыбалкой и охотой, имеются ли пороги на местных речках, ну и разная прочая романтическая чепуха.
Однако знакомство и полуторагодичная научно-исследовательская деятельность под руководством профессора Жюля во многом изменили у Шусараши его взгляд на место приложения своих будущих, еще только формирующихся профессиональных навыков. Парень хотя еще и бредил многими прежними романтическими ценностями работы в поле, но уже с большей щепетильностью подходил к профессиональным факторам. Его теперь заботила и суть его будущей деятельности в профессии: будет ли он тупо по приказу сверху крутить задвижки и работать кувалдой на скважинах или все же ему доверят полноценную инженерную работу: делать расчеты, планировать геолого-технологические мероприятия, а значит, дадут возможность научиться на практике управлять разработкой пластов, чтобы оптимизировать выработку из них запасов нефти и газа.
К моменту похода на комиссию по распределению Александр имел в своем активе средний балл 4,75, две премии на институтском СНО (студенческом научном обществе), были даже одна опубликованная и одна принятая к публикации статьи в так называемых ВАКовских журналах. Казалось бы, теперь ему прямая дорога в аспирантуру, где его шеф Жюль по собственной инициативе предусмотрительно пробил для Сашки целевое место. Но ни сам Шусараша, ни тем более его профессор никак не полагали, что кандидат в аспирантуру без солидной поддержки парткома и комитета комсомола – это вообще никакой не кандидат… Пусть лучше пропадет выделенное лично ректором место в очной аспирантуре, но человек, никак не отмеченный за все пять лет обучения достижениями на комсомольском поприще, – это ноль без палочки.
Шусараша интуитивно этого поворота опасался (хотя в душе надеялся, что отсутствие нужного комсомола, как всегда, восполнит его верный спорт). Тем не менее загодя он пытался охладить пыл самоуверенного Жюля, но тот, видимо, еще живя годами своей молодости (а это оттепель 60-х), так и не познал в должной мере всего маразма наступившего в науке развитого социализма. Еще Жюль свято верил в свой непререкаемый авторитет признанного в стране ученого, заслуженного лауреата многих премий и пр.
Решение комиссии стало ушатом холодной воды даже не столько для самого парня, сколько для хорохорившегося Жюля, которого в тот день в итоге увезли из института на неотложке. Ко всему, хоть Александр и вышел на комиссию первым (как отличник и потенциальный краснодипломник) и поэтому имел возможность выбирать из самых лучших предложений, но по настойчивому указанию своего наставника от этой возможности красиво отказался, в результате чего комиссия его формально приписала на заурядное место на наиболее скучном и хиреющем предприятии средней полосы России.
Все же надо отдать должное профессору Жюлю – после нервного срыва и недельного бюллетеня он опять с новыми силами и идеями бросился на амбразуру бюрократии. Хотя в итоге Жюль так и не смог без визы парткома оставить Саню у себя на кафедре в аспирантуре, все же изменил место его распределения на крайне престижный столичный НИИ, входящий в головное отраслевое научно-производственное объединение. Жюль предварительно лично договорился с директором этого заведения о том, чтобы направляемый к ним молодой инженер, помимо положенной ему корпоративной деятельности, занимался по мере возможности и интересующей профессора темой.
Жюль был уверен, что через три года такой практики Александра можно будет либо определить в заочную аспирантуру, либо прикрепить к «керосинке» от уважаемого НИИ как целевого соискателя кандидатской степени. Сашу этот второй вариант устраивал даже больше первого – постоянно работать в контакте с бурлящим Жюлем ему с каждым месяцем становилось все утомительнее.
* * *Любопытен разговор парня в тот злополучный день с комиссией вуза по распределению:
– Алекандр, кафедра рекомендует вас для продолжения обучения в нашей аспирантуре и для занятия научной деятельностью. Безусловно, вы способный человек, хотя учились неровно, но в итоге многие предметы пересдали и, видимо, по итогам получите свой красный диплом. Похвально. Однако вы не можете не знать, что к кандидатам в аспирантуру, да и вообще при оставлении в должности стажеров на кафедрах нашего вуза предъявляется особое требование – это проявить себя на общественной работе. Причем не абы какой работе, а показать свои организационные, идейные и моральные качества, отвечая на уровне института или хотя бы факультета за какое-нибудь важное направление такой деятельности. Вот в этом году свои рекомендации партком дал только пяти нашим выпускникам: двое из них работали в комитете комсомола вуза, еще трое были членами комитетов ВЛКСМ факультетов. У вас же в деле по общественно-политической деятельности только выговоры, хотя и снятые. Да, из вашей характеристики мы видим, что вы много времени посвятили участию от института в различных спортивных мероприятиях. Это, конечно, похвально. Но эти призовые места, на наш взгляд, никак не покрывают вашей пассивности в комсомоле. Вы у нас далеко не олимпийский чемпион, чтобы партийная организация решилась поручиться за вас в нарушение своих же правил. Каждый наш аспирант в перспективе – это кандидат на преподавательскую работу, в перспективе это будущие доценты и профессора. А преподаватель – это не только, даже не столько ученый, сколько в первую очередь воспитатель нашей советской молодежи! Как же вы будете ее воспитывать, когда сами пять лет просидели серой мышкой, не отметившись ни в одном из десятков общественно-политических мероприятий вуза? Нет, комиссия считает, что тебе еще рано заниматься научной деятельностью, несмотря на определенный задел, имеющийся в совместной работе с уважаемым профессором. Необходимо сначала пройти хорошую производственную школу, заслужить уважение от партийной организации, проявить себя как передовик, возможно, даже заслужить право называться коммунистом. Вот тогда приходи к нам в аспирантуру, и мы с огромным удовольствием примем и будем рады тому, что это будет достойный выбор!
– Извините, конечно. Вам решать, достоин я или не достоин места в аспирантуре. Но мне кажется, что научная деятельность состоит в другом. Наука аполитична, и нет только советской науки, она всемирная. Ну, если только речь не идет об оружии. Я последние месяцы много читал зарубежные журналы. Судя по ним, наш отечественный нефтяной инжиниринг отстает лет на двадцать от западного, высокотехнологичного. Спрашивается: почему? Видимо, отчасти оттого, что у нас такие жесткие фильтры везде поставлены. Партбилета нет – тогда и шлагбаум в науку закрывается. Впрочем, это не мое теперь дело – поеду, как советуете, в тундру, к белым медведям и к белым воронам – таким, как я сам. Вы правы, что производственная практика всегда полезна, тут я полностью солидарен, и меня это ничуть не пугает и даже не расстраивает такая перспектива. Но вот с чем не могу согласиться с вами, так это про мой спорт. Вы о нем судите очень поверхностно, как вообще о многом, что вас окружает. Столько пота, сколько с меня за пять лет сошло на тренировках и соревнованиях за нашу «керосинку», никакие комитеты комсомола и близко на своих мероприятиях не поимели. Посмотрим лет через десять, какие из указанных комитетчиков в Менделеевы выйдут, но я думаю, это только when the pigs fly…
– Вот! Все-таки в корень наш партком смотрит! Гнильцо-то и вышло наружу! Это он еще нас учить будет, что есть наука и кто ее достоин! Думает, мы английский язык не знаем. Это ты еще скажи спасибо, что я правильно эту поговорку про дождичек в четверг понял, а то бы за pigs – свинью ты у меня тут fly – полетел бы! Иди-ка ты, парень, вон отсюда!
Но тут в аудиторию заглянул Жюль, и то, что до этого высказал Шусараша, по сравнению с профессорскими крылатыми выражениями уже не стало иметь никакого значения… Присутствовавшие в комиссии производственники сначала ошарашенно следили за начавшейся при них и все нарастающей словесной баталией, потом они деликатно пытались разнять профессора и председателя комиссии (он же один из проректоров), буквально за грудки схвативших друг друга и мотавших свои тела из стороны в сторону. Жюль был постарше, но настырнее. Однако в какой-то момент он схватился за сердце и начал буквально сползать на пол.
После его падения комиссия и с ними Сашка переключились на экстренную эвакуацию к медикам. Потрепанный оппонент тоже вынужден был в полуобморочном состоянии «выйти покурить». На следующий день, узнав, что Жюль забюллетенил, он тоже оформил себе медицинскую справку, опасаясь, что вину за болезнь профессора (не дай бог, у того инфаркт!) возложат на него.
В итоге битва слона и носорога закончилась вничью, через пару недель ректор лично их примирил… Вот, однако, какие страсти в интеллигентных кругах могли кипеть в те годы условного застоя! А какие еще эмоции кипели тогда на чисто научных семинарах, на защитах некоторых диссертаций! «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя…»
* * *Далее в жизни Александра была преимущественно проектная камеральная работа в центральной московской научно-производственной организации. Это там однажды в их рабочей комнате появилась кареглазая застенчивая Иришка, там в столовой за обедами зародилась их дружба, которая могла перерасти, но так и не переросла во что-то большее. Опасаясь, что ненароком перейдет со своей подопечной стремительно приближавшуюся красную черту, Шусараша в самый пик этой дружбы натурально бежал в другое подразделение института, где было много командировок по всем нефтегазовым регионам СССР. В ответ же на его побег обиженная Иришка по-женски отомстила – скоропалительно вышла замуж.
Практически весь свой срок в статусе молодого специалиста Шусараша промотался по стране: пустыни Туркмении сменялись тундрой Ямала, а Васюганские болота чередовались с утесами рек Лены и Енисея. Это были, пожалуй, одни из самых счастливых и быстро пролетевших из его лет жизни. Саня много путешествовал по стране (причем за казенный счет!), в каждой своей командировке набирался профессионального и жизненного опыта, более опытные коллеги начали считаться с его мнением по рабочим вопросам, начальники тоже прислушивались к его предложениям по проектам, в какой-то момент ему наконец начали доверять и самостоятельные работы.
Вершиной Сашкиного профессионального роста стали звонки-вызовы в центральный НИИ от периферийных нефтегазодобывающих предприятий: «В следующую командировку пришлите обязательно нам того Санька, что приезжал в прошлый раз, – только его, других нам не надо!»
Зарплата в его институте, правда, была смешная. За вычетом подоходного налога да еще за бездетность она еле-еле дотягивала чистыми до ста рублей. Друзья подсмеивались: «Как же твой тезис про то, что западло работать за зарплату, унижающую чувство собственного достоинства?» – «Это все верно, мужики. Но здесь есть одно исключение: зарплата не имеет значения, когда находишь работу, на которой ты удовлетворяешь свое научное любопытство за государственный счет!» Впрочем, и с оплатой своего труда после перевода в новое институтское подразделение Шусараша лукавил. За счет постоянных командировок, а с ними полевых начислений, за счет премий по проектам, в которых он участвовал, фактически на руки денег выходило в два раза более.
Единственное, с кем у Александра в НИИ кардинально не сложились отношения, – так это опять с парткомом института и лично с его секретарем Ваниным. Камнем преткновения становились овощные базы, стройки, колхозы и прочие места трудового воспитания советских инженеров. Вместо того чтобы смиренно с другими ИТРами помогать городу и колхозам, оттягиваясь на природе с мужиками за водкой, Шусараша начинал калькулировать трудозатраты и простои, из чего получалось, что их так называемая помощь не только непродуктивна в организационном плане, но и разорительна в масштабах отраслевого НИИ, да и всей страны. Эти вопросы он регулярно поднимал на любой партийно-комсомольской говорильне в уже ставшем ему родном научно-производственном объединении и вообще сравнивал порядки в стране с китайской культурной революцией, что, естественно, бесило ответственных за идеологию чиновников.
Проверенный механизм воздействия «вызов строптивца на партком» Ванину ничего не дал – вместо порки пришлось взять на рассмотрение от наглеца увесистый, заранее им подготовленный отчет со скандальными цифрами о непроизводительных потерях, в титуле адресованный в партийные органы района и города. В ответ на высказанные Шусараше идеологические обвинения он взял да и озвучил публично прямо из своего отчета (возникшего как черт из табакерки) ряд шокирующих цифр. Так, например, продуктивной работой их бригада на городской стройке за весь двухнедельный срок местной командировки была занята лишь 5,5 часов (а остальное время – ожидания, простои, переделки вчерашнего, инструктажи, планерки и пр.). Ко всему некоторые члены парткома явно поддержали эти сомнительные выводы и настояли вписать в протокол крамольное: «поставить соответствующий вопрос в вышестоящем партийном органе». Парторг после такого заседания вынужден был со своим замом, закрывшись в кабинете, снимать стресс, зарекшись вообще этого чумного парня привлекать к непрофильным трудовым повинностям.

