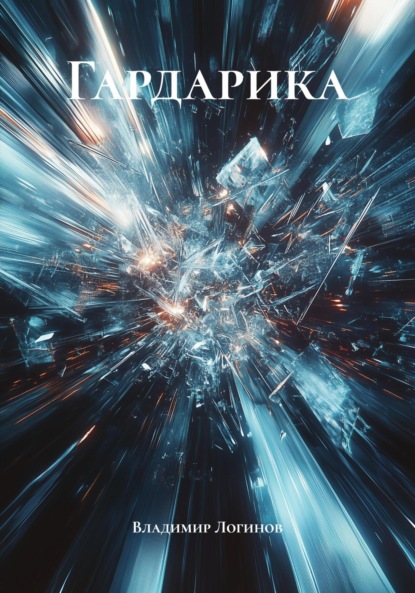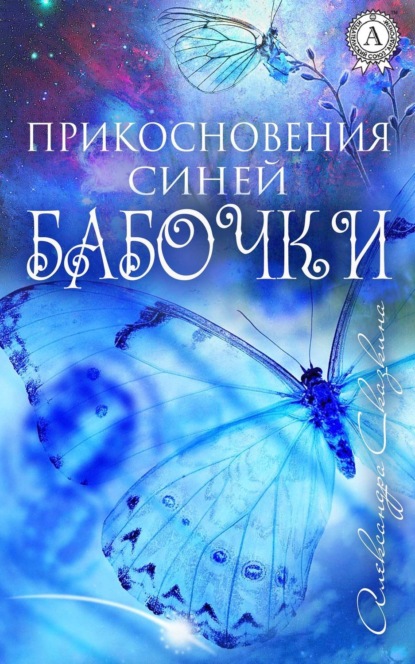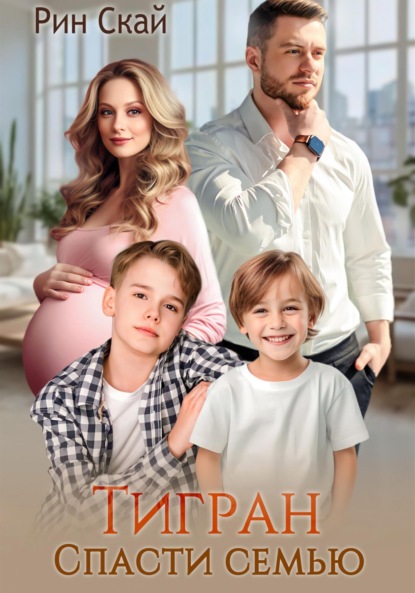- -
- 100%
- +
– Готт Один мит унс! (С нами Бог Один!) Кто со мной!
Люди сразу всё поняли, и общественная поляна в едином порыве единогласно выдохнула:
– Я-я-а-а-а!!!
Глава 2. ГАРДАРИКА
Нам земли чужие не заменят свободы!
Несётся мой драккар по бурным волнам!
Туда, где живут другие народы,
Где властвуют боги чуждые нам!
На огромных просторах от берегов Варяжского моря до Уральского камня и дальше раскинулся бескрайний океан лесов. Среди мрачных, поседевших от времени и заросших мхами, елей высились богатырские лиственницы в три, а то и больше, обхвата. Чёрные, еловые леса, в которых, пожалуй, водились только лешие и всякая нечистая сила, местами оживляли своими медно-охристыми стволами и зелеными кронами сосновые леса. Но то всё-таки молодые леса, с трудом отвоевавшие у старых место под живительным солнцем. Пожилые же сосны и ели, были чудовищной толщины, сучьями-руками сцепившиеся друг с другом намертво, да так, что умершее и засохшее дерево рухнуть на землю уже никак не могло. Так и стояли такие монстры, роняя кору-кожу и мелкие ветки-пальцы не на лесную траву, а на какую-то мшистую и заплесневелую подстилку. Иногда зверюга-ветер буреломом налетал неожиданно при грозе и валил великанов, а они, падая, выворачивали растопыренные во все стороны корни вместе с мшистой лесной почвой. И казались эти вывороченные корни, корявыми, иссохшими руками подземных чудищ, которые жадно тянутся к одинокому, заблудившемуся путнику.
Путник мог бы свободно пройти под упавшим гигантом, да только сучья-руки хищно тянулись к нему, будто неведомый лесной житель, сказочный тролль, непременно желал схватить свою жертву и медленно, но верно высосать из него все соки. В этих лесах даже бродяга-ветер не мог добраться вниз и обычно шумел кронами деревьев где-то там высоко вверху. Внизу же стояла удушливая, гробовая тишина, пахло грибной прелью, древесной гнилью. В постоянном мраке грибы флуоресцировали, издавая мерзкий, гнилостный запах. Места такие всегда являются обиталищем сов и их крики, и хохот навевают жуткое состояние у заблудившегося путника, будто это лесные духи и нечистая сила издеваются над беднягой. А из чахлого подлеска выскакивают, вдруг, какие-то крысы, величиной не менее кабана, с красными горящими глазами, источающими ненависть, и пробираются куда-то меж корнями по своим, скорей недобрым, делам.
Обычный дневной свет перетекает в сумерки, а солнечные лучи смотрятся туманными косыми столбами, которые не достигают лесной почвы. Ночью в эти леса боятся сунуться даже дикие звери, и только ночные духи мрачно плетут невидимую паутину и пожирают затхлый воздух вместе с комарами, которые больше смахивают на нетопырей. В эти огромные, жуткие леса люди не ходили, боялись колдунов, ведьм, вурдалаков и леших. Дикого зверья тоже боялись, потому как сохатый подденет на рога, или хозяин, медведь, вмиг облапает. Леший же так заморочит, что и не выберешься отсюда во веки.
Мелких рек и ручьёв в этих страшных лесах можно и не заметить из-за плотности, как самого леса, так и всевозможного дикороса. Но большие реки, питаясь этими ручьями и родниками, смело рассекали уже эти лесные массивы, впадая в крупные озёра и моря. Таковы реки Волхов, Мста, Свирь, Великая, Северная Двина, Западная Двина. А тут, кроме малых, уже и большие озёра – Чудское, Ильмень-озеро, Ладо, Онега. А уж вот и Белое море, и Варяжское, где бесчинствуют морские разбойники, беспощадные викинги.
По берегам этих рек жили люди. В суровых краях, в холодном, негостеприимном климате и люди были суровыми. Однако очень уж понравилась, нетронутая никем, сказочная, девственная красота здешней природы людям. Назывались они ильменскими славянами, а рядом с ними, только южнее, жили кривичи, что означает кровные и дреговичи от слова дрягва (болото).
В страшные, населённые неведомыми духами и чудищами, леса, люди и не совались. Возле рек жить было легче, рыбой прокормиться можно, и навестить друг друга проще. Воду любили и обожествляли. Заведовала реками, озёрами, ручьями, родниками славянская богиня добрая Макошь. Это у неё люди просили здоровья и пропитания. Боже упаси, если кто выбросит какой-либо мусор в реку, или как-то осквернит воду. Такого ждала кара, его сторонились. Ну, а если плюнул в воду, так сам себя казнит, внушит себе, что заболел, занедужел, так и в сам-деле хворать начинает. Просит потом у богини Мокоши прощения, кланяется низко, бывает, что и через силу, через немоготу.
А в реках, даже в малых ручьях, водились осетры и лососи, та же сёмга, чего уж говорить про щук, лещей и окуней. Но добывали славяне и лесного зверя, который шёл на водопой: того же сохатого, медведя, волка, кабана, да и носили на себе шкуры этого зверья. Из хорошо выделанных кож шили одежду с оторочкой из пушного зверя, который частенько наведывался в их курятники. Поставил силки, и вот он – соболь, куница, норка, лиса, горностай. Давно уже завели славяне и свой, домашний скот: корову-кормилицу, коня, помощника во всех хозяйственных делах и боевого товарища, овец для шерсти, и, уж конечно, птицу – гусей, уток и кур. А чтобы были луга для сена на зиму, и пашни для льна, ячменя, ржи, овса и гречихи, вырубали славяне вдоль рек строевые леса, которые первым делом шли на избы. В шалаше или кибитке из шкур в суровые зимы долго не протянешь. Но главное, люди свои поселения, даже хоть бы и из десятка семей состоявшие, окружали городьбой. Огорожа эта строилась вокруг поселения из мощных лиственничных столбов, вкапывавшихся в землю глубоко и вертикально, на века. Боялись не дикого зверя, а нечистой силы из леса, да и свой скот уберечь легче от любой напасти. Вот и стояли вдоль рек огороженные деревни и города в большом количестве. И назывались эти обширные лесные края по-нормански Гардарикой, что означает страна городов.
А название это дали варяго-русы, что первыми начали селиться на побережьях морей и озёр, ещё до Сотворения мира. Захватнические, военные их настроения, соседи славяне сразу остудили, дав достойный отпор. И варяги стали друзьями. Варяг и означает друг, товарищ.
В то время, когда князь Буривой привёл славянские племена на берега северных и западных рек Северо-восточной равнины и заложил первый город, названный Славянском, на Ильмень-озере, древнегерманское племя русов, по сути тех же славян, уже освоило Скандинавию, смешавшись с остатками готских племён. Столица готов город Упсала, стала столицей русов. Но скудная земля готов не жаловала русов. Леса, хоть и не полностью, уже были вырублены и пошли на корабли, лесной зверь был истреблён, пашни давали скудный урожай зерновых. Не от хорошей жизни новое население русо-готов занялось морским разбоем. Драккары их заходили даже в Средиземное море. Прозвали морских разбойников викингами. Викинги не только грабили европейские прибрежные города, но и, по возможности, занимались торговлей. Отколовшаяся же часть большого племени русов прошла сушей через территорию будущей Польши и Прибалтики, осела по берегам Финского залива и в районе озера Нево /Ладо/, занимаясь охотой и рыболовством.
А куда же подевалась основная масса готов? Когда в конце второго века новой эры возник так называемый пассионарный взрыв, и началось великое переселение народов, Великий Рим находился в самом расцвете своего могущества, и не разглядел начала своего конца в подвижках далеких от него варварских народных масс. Могучий костёр культурного огня Рима медленно затухал ещё два с половиной века. В начале же третьего века король готов Беринг в поисках лучшей доли и высадил основное ядро своего народа на Готисканди – северном побережье Польши. Затем вдоль Вислы готы прошли в её верховья и через Карпаты ушли на юг, к Чёрному морю. Во время своего прохождения они и потревожили славянские племена. Правда, дулебы заставили готов несколько изменить свой маршрут, не пропустив их через свои земли, но с запада на славян давили другие германские племена. С третьего по пятый век, почти двести лет шла славяно-готская война, в результате которой славяне вытеснили готов со своей исконной территории.
Надо сказать, что с другой стороны германцев порядочно потрепал могущественный вождь готов Вандал. Видимо Вандал был великим полководцем, коли, тайфуном прошёлся по всем территориям германских племён, вторгся в Галлию и Испанию, наголову разгромив римские легионы, а ведь это была по тому времени первоклассная европейская армия. Потом Вандал через Гибралтар вышел на побережье Северной Африки и основал там свою столицу на развалинах Карфагена, рассеяв остатки римских легионов. Мало того, Вандал двинулся на Рим, разгромил римские войска и подверг столицу мира нещадному разграблению.
Князь Буривой приходился воинственному вождю вандалов внуком по материнской линии, и, видимо, унаследовал от деда организаторские способности, потому и увёл значительную массу славян от беспокойных соседей на северо-восток, к северным рекам, через скифские земли невров, сколотов и андрофагов. Со временем славяне ассимилировались со скифами-земледельцами, научившись, кстати, от них, возделывать злаковые культуры именно в этой суровой климатической зоне.
На севере, в районе озера Нево (Ладожское), славяне столкнулись с остатками русов, имевших, как уже говорилось, германские корни, и тоже слились с ними. Скандинавские русы (викинги), часто навещали своих родственников в углу Финского залива и на озере Нево, где и происходили торговые и прочие контакты со славянами, уграми и чудью. Вот эти-то, прочие контакты – это смешанные языческие браки, и уже многие славяне стали тоже называть себя русами, а язык родителей постепенно смешивался со славянским языком.
Подобная метаморфоза происходила со многими народами в те далёкие времена. Например, та же Болгария. В начале седьмого века булгарский хан Аспарух, не желая подчиниться и войти в хазарскую федерацию, увёл свою большую тюркоязычную орду из Прикубанья за Дунай (Дуна) и основал там своё государство Задунскую Булгарию. Но уже через сто лет всё многочисленное население нового государства забыло тюркский язык и говорило исключительно на славянском. От тюркской, скотоводческой орды осталось только одно название – Болгария. Родной брат Аспаруха, хан Батбай подчинился хазарам, но уже его внук Мансур увёл орду деда на Волгу, где создал своё государство со столицей, городом Булгаром /Казань/ и волжские болгары сохранили свой родной, тюркский язык и культуру, подчинив племена буртасов, которые особенности своего языка утратили и полностью перешли на язык болгар.
Русо-варяги привезли ильменским славянам совершенно новую технологию обработки металлов. Нельзя сказать, что славяне не умели работать с металлом. Они, как и скифы, искусством обработки металлов владели, но одно дело выплавить рыхлую чушку из болотной руды, и выковать потом из неё подковы, лемех для сохи, простой топор, лопату или цепь. И совсем другое дело выковать боевой меч или секиру, что должны с одного маха разрубить металлический броневой лист, шлем, и при этом не сломаться, не затупиться тут же.
Славянские мечи, как и скифские, гнулись и быстро тупились, бронь разрубить не могли. Скифы были отличными лучниками, а для наконечников стрел металл особым образом закалялся и пробивал бронь на близком расстоянии (5-6 саженей), но оставался хрупким. В боевых схватках и скифы, и славяне больше использовали традиционное оружие: копья, палицы, шестопёры, топоры. Выбить из седла, оглушить и обратить в бегство – вот главная задача для сражающихся сторон.
От варяго-русов славяне переняли особый метод ковки металла – слоёное тесто – это и был легендарный булат. Ковался этот булат из стальных, разных по качеству металла, полос, много раз свивался в одну многослойную полосу. Для изготовления булата, нужны были великое терпение, различные присадки, тонкости закалки и мастерства. Мечи стали разрубать бронь, не тупились, не гнулись, не ломались, и обязательно пружинили, а звон был на особинку – боевой, грозный. Он зажигал, прибавлял азарта, такое оружие вдохновляло на подвиг. Оружейные кузнецы ценились так высоко, что даже князь снимал перед такими шапку, и просил часто совета по тому или иному вопросу: как в бытовом, так и, в военном смысле. За меч заказчик платил столько золота, сколько этот меч весил. Обычно эти мастера жили и работали-то обособленно, за высоким забором и на широком подворье, и только в больших городах. В городках малых и деревнях тоже жили свои кузнецы, и тоже пребывали в почёте, но до оружейных мастеров им было, как до неба.
До полного изготовления боевого оружия уходило от шести до десяти лет. Конечно, мастер нарубал сразу несколько десятков заготовок разного размера, а уж потом, годами, доводил до нужной кондиции, и получалось в итоге высококлассное оружие, которое берегли и передавали по наследству. Победитель на поле брани первым делом забирал у побежденного противника боевое оружие в качестве дорогого трофея. Главным богом для всех кузнецов считался славянский бог Сварог, аналогичный греческому Гефесту, и это у него мастера-ковали просили помощи, и ему первому приносили жертву – обязательно козла. Что интересно: купцы того далёкого времени брали кредит, как в банке, именно у оружейного мастера. И уж, конечно, в случае разорения, рассчитывались своим имуществом, своими детьми и жёнами. В этом случае, разорившиеся торговцы попадали в кабалу, в зависимость к оружейнику, работали на него, погашая долг, долго выплачивали штрафную виру…
Славяне знали водный путь на юг, но именно варяги проложили примитивную, но действенную систему каналов через болотистую местность верховьев рек Ловати и Западной Двины к излучине Днепра. Каналы эти грязевые – по ним драккары викингов скользили, как по маслу, воины и купцы тянули их при помощи канатов даже с товаром. Вот и получился короткий путь «из варяг в греки», и не надо было тратить время на долгий и опасный путь вокруг всей Европы, чтобы попасть в Византию, которая очень уж притягивала викингов своим богатством и роскошью.
По берегам водного пути через земли кривичей, полочан, дреговичей, радимичей, викинги постоянно встречали огороженные мощными, в три косых сажени (7 м.) заборами городки и поселения славян, но грабить их было бы себе дороже. Штурмовать деревянную стену гораздо проще, чем каменную: воткнул копья, да и лезь по ним через неё, не надо штурмовых лестниц. Но тогда больше бы их, викингов, по этому, короткому пути не пропустили. А до далёкой роскошной Византии так хотелось быстрей добраться. Заморские гости жадно протягивали к богатой стране свои загребущие руки. Византия притягивала, она манила чем-то загадочным, чем-то таинственным романтичных и наивных норманнов…
Глава 3. ПО ВОЛЕ ГОСТОМЫСЛА
Господин Великий Новгород древнее Киева, хотя бы уж потому, что не надо забывать про Славянск, который князь Буривой заложил в начале седьмого века на берегу Волхова, при впадении его в Ильмень-озеро. Старый Славянск сгорел позже, в междоусобных стычках после кончины князя Буривого. А уж внук Буривого, князь Гостомысл, заложил детинец и построил город на головёшках старого, и назвали тогда его Новым городом.
На месте же Киева, когда уже давно был построен Славянск и другие города ильменских славян, располагалось всего-то старое скифское поселение или городище из двух-трёх десятков полуразвалившихся хижин, крытых дёрном и поросших бурьяном. Надо отдать должное вкусу вождей скифского племени сколотов: место для своего городища они выбрали прекрасное во всех отношениях.
Когда пришло в эти великолепные места славянское племя полян из-за Карпат, то их князь Кий устроил свою постоянную резиденцию как раз на месте этого скифского городища. Устраиваться полянский князь стал основательно: сразу начал возводить городьбу по периметру будущего города не из дерева, которого здесь было маловато, а из камня. Высокое правобережье Борисфена (Днепр) могло предоставить строителям достаточно известкового плитняка. Городские стены получались белоснежными, особенно, если смотреть издалека, например, со стороны левого берега.
Полянам не надо было отвоёвывать участки земли у лесов и болот, как ильменским славянам, кривичам и дреговичам. Здесь уже издревле существовали поля из доброго чернозёма, много лет возделываемых земледельцами сколотами, да и сосново-дубового леса ещё было предостаточно в округе для изб и хозяйственных нужд новым поселенцам.
*****
Тёплый летний день заканчивался, незаметно уступая очередь тихому вечеру, который, не спеша, окутывал столицу ильменских славян Великий Новгород красноватой мглой.
В открытое оконце светёлки второго этажа княжьего терема вкрадчиво вполз запах цветущего кипрея, что разросся возле высокого забора. С улицы доносилось мычание коров и блеяние овец, возвращающегося с приречного заливного луга, городского стада. Перебивая кипрейный аромат, запахло стадным, скотиньим потом, молоком и свежим навозом. Хлопотливые хозяйки, зазывая своих бурёнок ласковыми именами, торопились управиться с дойкой до темноты. А то ещё надо было полить огурцы и капусту тёплой водой, нагревшейся за день в деревянных кадках, накормить возвращавшихся с сенокоса мужиков, не забыть положить веничек полевых цветов на полочку в коровьей стайке для скотьего бога Велеса, да мало ли дел у женской половины вечером.
С княжеского подворья донёсся уговорчивый гогот стада гусей, словно они принялись обсуждать, так ли приветливо их встретили дворовые девки. Старый Гостомысл откинул голову на подушку из гусиного пуха, кое-как поменял положение своего высохшего тела в массивном, дубовом кресле, и загляделся на красноватые косые столбы света, протянувшиеся из двух маленьких окон от заходившего за рекой солнышка. Они – эти живые лучи, будто пальцы бога Хорса ласково перебирали, щупали разнообразное, боевое оружие, развешенное на противоположной стене. Вот ярко вспыхнули рубины, малиново засветились гранаты, зелёным загадочным отблеском сверкнули изумруды на ножнах и рукоятях мечей, торжественно блеснуло золото забрал и бармиц шеломов, напомнив старому вождю боевую, беспокойную молодость. «То добрый знак, – пронеслась мысль. – День будет вёдро. С сенокосом хоша бы смерды управились. А бог Хорс, видно по сему, желает утвердить моё решение». Мысли эти успокаивали старого вождя.
Вождь ждал прихода волхвов, за которыми послали ещё с утра, но путь неблизкий, когда ещё прибредут с капища в священной роще. В светлицу тихо вошёл проповедник, грек Паламидий, которого пригласила, давно еще из далекой Византии, средняя дочь, любимица Умила. Грек по привычке глянул в красный угол, где должна была быть икона Спаса, да только её не было, перекрестил старика и себя, ласковым голосом произнес:
– Не прогонишь, вождь?
Гостомысл указал двумя перстами на широкую, застланную пёстрым персидским ковром, лавку возле себя, вяло подумал: «Тоже вот о своём боге печётся». В дверь просунулась головка отрока Родьки:
– Пришли волхвы-то! – бодро произнёс мальчишка. – Кликать, али нет, батюшко?
– Покорми хоша их Родька! – приказал Гостомысл.
– А оне отнекались! Молока токмо попили, да по мёду и всё тута!
– Ну, зови егда ни то!
В светлицу вошли два старца в длинных, почти до пят, белых рубахах, подпоясанных грубой верёвкой. Один был с седой бородой чуть ли не до колен, с такой же седой, редкой гривой, рассыпавшейся по сухим плечам. Морщинистое, обветренное лицо его выглядело как кора старого дуба. Второго, старцем, пожалуй, назвать было трудно. В густой, русой шевелюре его отсутствовали седые пряди. Худ он был неимоверно, но, горящие каким-то безумием глаза, выдавали в нём неукротимую силу духа.
Вошедшие не стали садиться на предложенную скамью, остались стоять, опершись на посохи. Уставившись на хозяина проницательным взором, молчали.
В светлицу вошли ещё два человека среднего возраста одетые в кожу и бархат. Это были давнишние друзья и дружинники князя, бояре Мякиш и Добролюб. Низко поклонившись вождю, бояре сели на скамью рядом с греком.
– Я уже ведаю, зачем ты нас призвал, вождь! – глухо, с дребезжанием в голосе, заговорил длиннобородый. – В невозвратный путь собрался ты, и мать Заря подхватит тебя поутру под локотья. Реки давай, што хотел без утайки, што скопил на сердце своём! Все едино нам ведомы мысли твои, но пущай тебя послушают свидетели энти, и волю твою исполнят, яко свою!
Второй волхв, безучастный к диалогу Гостомысла со своим старшим товарищем, смотрел теперь в окно на пламенеющий закат, и безумные глаза его показались новгородскому вождю страшными. Гостомысл, загипнотизированный этими глазами, кое-как отодрал свой взор от его лица и спросил невпопад:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.