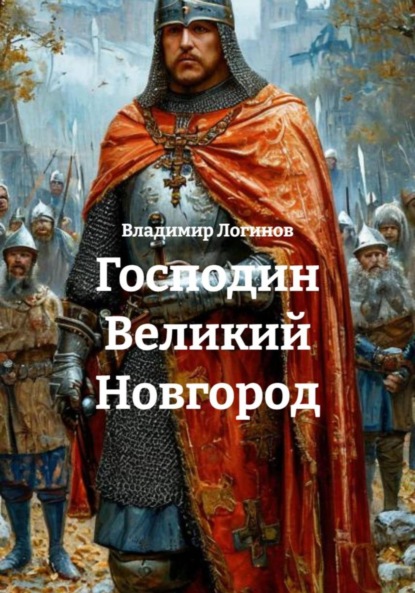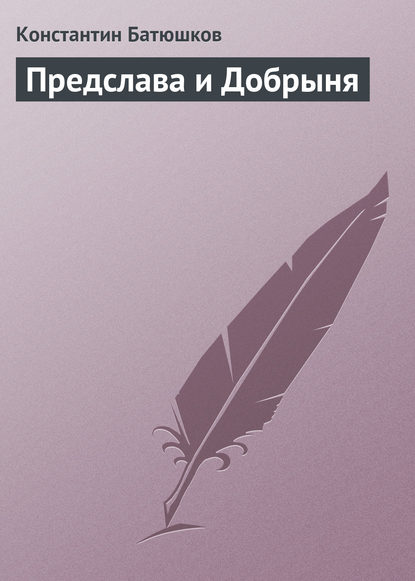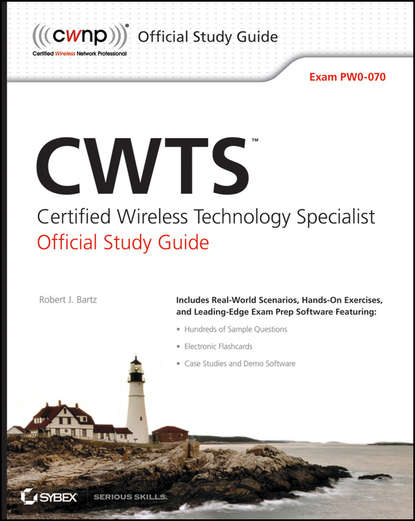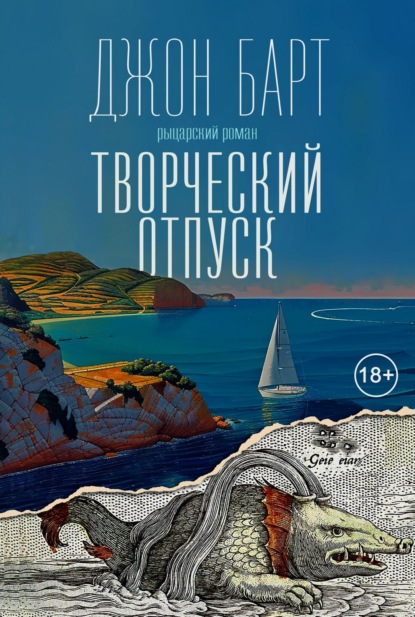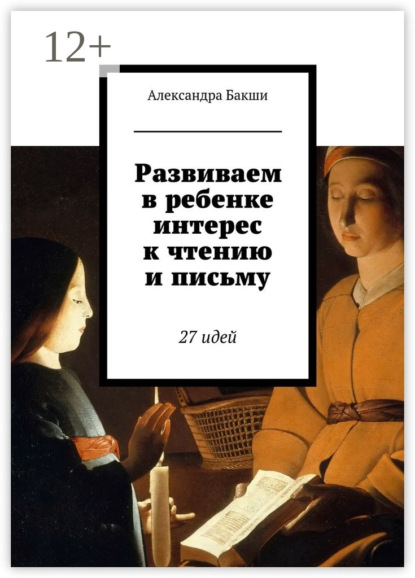- -
- 100%
- +

Часть первая: ОТ БАЛТИКИ ДО БЕЛОГО МОРЯ
Глава 1. СЫНОВЬЯ ПОХЬЯЛЫ
Степан Колода, ладожский торговец пушной рухлядью, член Совета Старейшин в Великом Новгороде принимал в своём доме гостя, который приехал в Ладогу по торговым делам. Звали гостя Микко Пелто, происхождение он имел из народа емь, но род его давно, ещё с деда Юхана, прижился среди карелов, освоился среди них, да и пустил корни. Микко, или по-русски Михаил, занимался тем, что скупал у карельских охотников шкурки пушного зверья и оптом перепродавал пушнину Степану Колоде. Расплачивался с охотниками Микко чаще всего скобяными изделиями, дорогими луками и наконечниками для стрел, ножами, иногда топорами, льняными тканями, готовой одеждой, иногда сапогами, да много чем.
Карельские охотники заказывали Микко Пелто разные товары, которые он приобретал и в Ладоге, и в Великом Новгороде на деньги, полученные от оптовика Колоды. А уж, если привозил Микко три-четыре мешка ржаной муки, так за такой ценный товар карельские охотники выкладывали торговцу целую связку бобровых и норковых шкур. От таких торговых отношений всем было хорошо: и карельским охотникам, и Степану Колоде, который с большой прибылью сбывал дорогой меховой товар германским купцам Ганзейского Союза, ну и, конечно, было неплохо и самому Микко Пелто, который на комиссионные от этих торговых операций содержал свою семью.
Старинный торговый город Ладога, который появился здесь ещё до князя Рюрика, окружён крепостной стеной из дикого камня, где жили не только новгородские торговцы с семьями, но и кое-кто из ганзейских купцов. В Ладоге был гарнизон из пяти сотен местных дружинников, снаружи, за крепостными стенами, было понастроено немало домов людей посадских, рыбаков и охотников как из славян, так и из народа водь, ижора, карела. Жили в Ладоге и иноземные торговцы из немцев, датчан, шведов и норвежцев, да и из южан было немало торговых гостей, потому как Ладога это не простой город, а город-порт и сюда, через Неву, из стран Балтики, особенно из городов Ганзейского союза, свозились разнообразные товары, которые потом растекались по всем русским княжествам. Были и товары в диковинку – это книги в кожаных переплётах на бумаге, где описаны жития святых угодников, а также хроники времён Римской империи, покупали их русские монахи, владеющие латынью, переводили на славянский язык, переписывали и создавали в монастырях новые книги. А ещё привозили заморские гости цветные стёкла, которые пользовались большим спросом у богатых горожан и многие терема в Великом Новгороде посверкивали разноцветьем окон.
Дом у хозяйственного торговца Степана Колоды в Ладоге большой, заметный, стоял на берегу Волхова, недалеко от церкви Успения Богородицы и церкви Георгия Победоносца. В Ладоге было ещё пять церквей, но на десять тысяч населения, и семи храмов не хватало, особенно в церковные праздники. Городской совет постановил строить ещё два храма, но нужен был камень, который ещё надо наломать в Карельской земле, да привезти, потому всё делалось неспешно.
Дом Колоды в ряду других, соседских строений выделялся тем, что был выстроен на высоком фундаменте из дикого камня с огромным подвалом, в котором домочадцы Степана хранили разную всячину. Сам же дом был построен из морёной листвянки из брёвен в полтора обхвата с узкими окнами-бойницами, по моде того времени, а шатровая крыша из толстых сосновых жердей покрыта красной, заморской черепицей. Такой дом мог держать осаду несколько месяцев, тем более, что в углу обширного подвала был выкопан колодец с водой. Поджечь такой дом было просто невозможно: морёные лиственничные брёвна больше походили на камень, которые уже не брал топор. Сруб такого дома вымачивался в реке не менее пяти лет и он приобретал необычайную твёрдость, после чего собирался на каменном фундаменте, каждый бревенчатый ряд перекладывался мокрым мохом, который затвердевал вместе с брёвнами.
Построить такой неприступный дом мог только очень богатый человек – вот молодой Степан с отцом Иваном Колодой и сварганили себе, по сути, малую деревянную крепость, поджечь которую, как уже говорилось, было далеко непросто. Мало того, так отец с сыном окружили огромное своё подворье, с конюшней, коровником, птичником, солодовней и баней, тыном из заострённых поверху дубовых брёвен, да завели свору злющих собак, которые носились по обширному двору с огородом и признавали только своих.
Внутри дом состоял из четырёх больших комнат: люди сначала входили в огромную кухню с гигантской печью с прямоточной трубой, выведенной через крышу, смежная комната служила гостиной, третья комната была для трёх дочерей, а четвёртая, светлица – для жены Авдотьи, которая при частых отъездах мужа кое-как справлялась с огромным хозяйством. Степан, уезжая по торговым делам, оставлял жене сколько-то денег и та нанимала косарей на заготовку сена для четырёх коров и пяти лошадей, нанимала дровосеков для заготовки дров и это кроме трёх постоянных, наёмных работников в доме, которые жили в конюшне.
Хорошо, что дочери помогали матери с малолетства: доили коров, делали творог, сыр и масло, ставили тесто и пекли хлеб, да мало ли работы в таком хозяйстве. Кроме домового хозяйства у Степана, коли, он занимался крупными торговыми операциями, были ещё и две морские струги: одномачтовая лодья и даже одна морская кнарра шведской постройки. За кораблями у общего городского причала следил свой смотритель, ну, а уж в навигацию, с мая по сентябрь, Степан нанимал на каждый корабль по полтора десятка гребцов и кормчего, или шкипера по-европейски, оплату которым производил в конце навигации после прибыльной торговли за морем, или в Новгороде, смотря где лучше можно было сбыть товар.
У Степана с Авдотьей третьим, наконец, появился сын, которого назвали Петром в честь деда, который ещё молодым парнем служил в дружине самого Александра Ярославича Невского. Сын у Степана рос бойким, своенравным, на улице обидного слова своим сверстникам не прощал, чуть что – сразу в морду, дома на всё имел своё мнение, заимел привычку спорить, в том числе и со старшими. С одной стороны, отец Степан в душе поведение сына одобрял, время лихое, торговому человеку надо иметь очень даже крутой характер, да ещё хорошо владеть оружием и уж обязательно знать иностранные языки, хотя бы один, немецкий.
Степану нравился бойкий, независимый нрав Петра, которому в июне этого года стукнет семнадцать лет и ему уже подыскивали невесту, но с другой стороны ведь и послушание родителям никто не отменял, а сын к торговым делам проявлял полное равнодушие, зато с удовольствием бегал в городскую дружину, где отроков Ладоги с детства обучали владению копьём, мечом, моргенштерном, обучали стрельбе из лука, конской выездке. А ещё настоятель Георгиевской церкви Антоний обучал Петра русской грамоте, греческому и латинскому языкам, за что отец Степан от щедрот своих ежегодно выделял священнику по десять аршин чёрного сукна на рясу. Сам Степан, будучи с торговыми делами часто в германских и шведских городах, за двадцать лет освоил немецкий и шведский языки и зимами, когда за толстыми стенами дома выла вьюга, упорно вдалбливал приобретённые знания в голову своего наследника. Что удивительно: сын не отлынивал, учился прилежно, даже с охотой, а ведь освоение грамоты и заморских языков требовало большой усидчивости.
Всех подросших сыновей в русских семьях положено было отделять, чтобы строил свой дом, создавал свою, новую семью. Вот и Степан Колода, заручившись решением городской общины, где и сам числился, землю рядом со своим домом получил в вечное пользование, да и повелел сыну поставить под углы будущего дома шесть крупных камней и срубить первый венец, остальное сделают наёмные плотники. Хотя и готовился Пётр создавать свою семью, а невесту себе ещё не присмотрел, как-то не получалось, хотя на вечорки иногда ходил, время для этого находил, хороводы с молодёжью своего конца водил, да вот никто ему из местных девчат не приглянулся. Отец же, будучи постоянно в разъездах, тоже невесту ещё сыну не выбрал, а время неумолимо шло, сыну уже вот-вот семнадцать, а он всё ещё холостой.
В кухне большого дома Степана Колоды вдоль стен располагались широкие скамьи, застеленные коврами и на них спали, кому охота поближе к теплу печи. Микко Пелто, когда приезжал к Степану, любил выспаться и прогреть кости на горячей печи. Вот и в этот приезд намеревался понежиться, проведя ночь на огромной лежанке в доме своего торгового партнёра. А пока он со Степаном и сыном его Петром сидели за огромным столом и после ужина чаёвничали. Стол тяжёлый, неподъёмный, доски у столешницы толщиной в ладонь, ноги у стола, что медвежьи лапы. Хозяин, подливая гостю горячего китайского чая в фаянсовую германскую пиалу из большого, бронзового кумгана, выспрашивал у него что творится в землях племён емь, карелов, веспов и эстов. Микко охотно рассказывал, а Пётр, изредка прихлёбывая свой чай, внимательно прислушивался к новостям, молодому парню всё было в диковинку.
Издавна Карельский перешеек и обширные земли выше, богато насыщенные лесами и озёрами, кормил два основных здесь племени: восход солнца встречали карелы, а заход светила провожало племя емь, одни, кроме рыбного корма в своих озёрах, ловили рыбу и морского зверя ещё и в Белом море, а другие, кроме опять же своих озёр, добывали ту же рыбу в двух длинных заливах: в Финском и Ботническом.
Всё бы хорошо, да вот пушного зверя для торговли с новгородцами охотники с той и другой стороны добывали в лесах, где граница между племенами довольно зыбкая, а потому трения и споры между двумя народами возникали частенько. Заканчивались эти трения, как правило, миром, но вот пришли шведы с запада и уж постарались эти хитрые пришельцы из-за моря разжечь вражду между вождями и ярлами племён Похьялы на постоянной основе. Они часто выступали ловкими, изворотливыми арбитрами в спорах сторон за территории и охотничьи угодья, в свою пользу, конечно, собирая дань и штрафные виры как с той, так и с другой стороны. Но на этой, другой стороне, шведы столкнулись с экономическим интересом Господина Великого Новгорода.
Про несправедливую систему налогов, штрафов и разных вычетов, что установили шведские бароны в землях Похьялы и рассказал Степану и его сыну Петру гость с севера Микко Пелто.
–– Нечистая сила принесла этих шведов на ваши земли, Михаил! – в сердцах высказался Степан. – Мы же с вами, с соседями нашими, хорошо жили и будем жить.
–– Я тебе так скажу Теппана, – заговорил Микко, часто выговаривая русские имена на своём языке, – эти шведы те ещё хитрецы и ведут себя в наших землях как Лемминкяйнен.
–– А это ещё кто такой? – удивился Степан.
–– Лемминкяйнен – это богатырь, певец и весельчак, – тут же принялся за объяснения Микко, – но и хитрец, да ещё любитель женщин. Жил вот такой в древние времена.
–– Ты ведь из народа емь, Михаил, сколь нам ведомо? – заметил Степан, подливая в пиалу горячего напитка гостю.
–– Корни-то мои из народа емь, Теппана, – это верно, но родился и живу я среди карел, а делами торговыми связан с вами и пропитался уже русским духом. Крестился, живу в Православной вере, да и не только я один, многие из народа емь и карелов христиане. Шведы нам не родня, в том числе и по вере, ты же знаешь, что они католики и Швеция платит Папе Римскому десятину от собираемых налогов.
–– Дядя Микко! – вклинился в разговор Пётр. – Ты ведь много чего ведаешь, расскажи о народах полуночных.
–– Цыц, малец! – оборвал Степан сына.
–– Погоди, Теппана! – поднял ладонь руки Микко. – Парень у тебя любознательный – это хорошо, древние времена своего народа и соседей своих ведать каждому юноше надо, ум от того знанья только возрастает, уваженья к соседям прибавляет.
–– Ну ты уж прости, Михаил! – замялся Степан. – Я ведь это к тому, чтоб младой не лез в разговор старших.
Микко улыбчиво посмотрел на хозяина дома и повёл свой рассказ:
–– Вот, Пекка, – начал гость, взглянув на Петра, – в древние времена в стране Похьяла, её ещё карелы называют Калевала, а финны – Суоми, верховодила старая ведьма Лоухи. Люди жили бедно, потому что мало работали, и вот народились в стране Похьяла три могучих богатыря: Ильмаринен, Вяйнямейнен и этот Лемминкяйнен. Как-то кузнец Ильмаринен выковал чудесную волшебную мельницу Сампо, которая дала людям много благ, сделала их богатыми, но этой мельницей завладела злобная ведьма Лоухи.
–– Погоди, дядя Микко! – вклинился Пётр, – куда же люди-то глядели, а богатыри-то на что? Как могли мельницу проворонить?
–– Ты, Пекка, слушай, да мотай на ус, который как я смотрю начал у тебя расти, – усмехнулся Микко.
–– Как посмел перебивать старших, Петра! – нахмурил мохнатые брови отец Степан.
–– Ладно, Теппана, – успокоительно заговорил Микко. – Видишь, парень твой интерес поимел к старине сынов Похьялы. Ну так вот, Пекка! – повернулся он к Петру. – Богатырь Вяйнямейнен, по-видимому, понял главное: люди Похьялы, разбогатев, совсем перестали трудиться, золото и серебро, другие богатства, пошли им во зло, зато это очень уж нравилось вредной старухе Лоухи. А, может, и не нравилось, лет, веков-то, много с того времени прошло, кто знает, как оно на самом деле было. Богатырь Вяйнямейнен, поняв, что богатство только во зло людям, объяснил это своим друзьям и вот три богатыря пошли на лодке через море в страну Похьяла за этой самой мельницей Сампо. Лодку в море остановила большая щука, богатыри эту рыбу выловили и съели, а из её костей Вяйнямейнен изготовил кантеле, прекрасный музыкальный инструмент. Наконец, богатыри пришли в Калевалу или Похьялу и предложили ведьме Лоухи поделить волшебную мельницу Сампо.
–– Чего это? – удивился Пётр. – зачем же делить мельницу? Глупо как-то.
–– А вот также рассудила и старуха Лоухи, Пекка, – продолжил Микко. – она быстро собрала армию из людей Калевалы, но богатырь Вяйнямейнен заиграл на своём кантеле и усыпил чудесной музыкой всех людей Похьялы и, что удивительно, саму старуху Лоухи. Богатыри забрали волшебную мельницу, да и отправились в обратный путь за море. И ведь ушли бы богатыри с этой мельницей, да дурень Лемминкяйнен от избытка чувств запел и разбудил журавля, который в свою очередь поднял на ноги старую ведьму Лоухи.
–– Ха-ха-ха! – развеселился хозяин дома. – Экая дурость!
–– Ну так вот, – не обращая внимания продолжил гость, – ведьма Лоухи, проснувшись и сообразив, что произошло, превратилась в хищную птицу и погналась за богатырями, да ещё спрятала солнце и луну. Догнала и темноте завязалась жестокая битва, ведьме Лоухи удалось схватить чудесную Сампо, но удержать мельницу у неё не хватило сил, Сампо упала на скалы возле моря и разбилась, а из осколков мельницы произошли все богатства моря и суши.
–– Ну вот, – проворчал Степан, – ни себе, ни людям.
–– Из мелких осколков разбившейся мельницы Сампо, – продолжил Микко, – богатырь Вяйнямейнен создал ещё более прекрасный инструмент, с помощью которого богатырь вернул от вредной ведьмы Лоухи солнце, луну и обогатил народ Похьялы. Хозяйка Севера ведьма Лоухи затаила злобу на всех.
–– Красиво, – мечтательно произнёс Пётр, – я, прям-таки, заслушался.
–– Эти предания, эти руны очень древние, Пекка, – заметил гость. – В этих рунах душа народа Похьялы, парень.
–– Расскажи ещё что-нибудь, дядя Микко.
Гость отхлебнул из пиалы горячего напитка, поставил её на стол. Взглянув на пытливого юношу, снова повёл свой рассказ:
–– Ну вот могу сказать, что богатырь Вяйнямейнен являлся сыном дочери Ветра, а вот тот же Ильмаринен, которому всё не везло с созданием семьи, наконец, взял, да и выковал себе жену из золота и серебра. Такой прекрасной жене люди стали завидовать и Вяйнямейнен посоветовал Ильмаринену бросить жену в огонь, чтобы уничтожить в мире зависть. По сути, Вяйнямейнен запрещал иметь людям золото и серебро как источник зла.
–– Но ведь здесь кроется противоречие, Михаил, – бросил реплику Степан. – Этот могучий Вяйнямейнен вроде бы желает народу Похьялы благоденствия, но запрещает быть богатыми.
–– Слушай дальше Теппана и ты Пекка, – продолжал Микко. – Кузнец Ильмаринен отправляется в народ и привозит сестру своей первой жены. Женится на ней, а семейная жизнь у них не складывается и тогда Ильмаринен превращает её в чайку.
–– Ну, что ж, – равнодушно заметил Степан, – так бывает в нашей жизни. Жаль только, что наши мужья не могут превратить своих жён, дур тех ещё, в чаек, этих надоедливых птиц, ха-ха, стало бы в разы больше.
–– А вот в одной из рун, – рассказывал Микко, – был такой богатырь Куллерво. Пребывал он в рабстве у каких-то там богатых хозяев, но восстал, убил своих хозяев, освободился, женился на прекрасной девушке, а потом узнал, что она его сестра, ну и совершил самоубийство.
–– Ну и дурак! – бросил Степан. – Натворил ведь грехов немеряно. Надо было сначала выяснить всю подноготную своей невесты. Хотя, – коротко подумав, заметил Степан, – и так тоже в жизни бывает. Похоже, Михаил, этот ваш Вяйнямейнен много чего напутал в жизни народа Похьялы.
–– Тут так получилось, Теппана, – разъяснил Микко, – В одной руне говорится, что некая Марьятта родила необыкновенного сына, который возмужав, сумел мудро прогнать из Похьялы богатыря Вяйнямейнена.
–– Чепуха какая-то! – раздражённо заявил Степан.
–– Так я ж вам и говорю, что это предания, легенды, седая древность.
–– Тогда сказители всё напутали! – стоял на своём Степан. – Может, и не так всё было.
–– Кстати, Теппана, – беспристрастно добавил гость. – Дева Севера полюбила кузнеца Ильмаринена и сподвигла его на создание чудесной мельницы Сампо. Не путайте прекрасную Деву Севера с Хозяйкой Севера, старой хрычовкой Лоухи, которая нагоняет на людей холод, снег и лёд.
–– По-моему, путаницы много в ваших рунах, – проворчал Степан.
Гость с севера проницательно посмотрел на своих слушателей, отхлебнул уже остывшего чая и поставил пиалку на стол.
–– Конечно, из меня плохой рассказчик, Теппана, – с определённой долей сожаления в голосе произнёс Микко, – но я знаю одно – местные рыбаки в море не выйдут, не поклонившись волнам, и, не выпросив удачи у Вяйнямейнена, а любой кузнец, перед тем как приступить к изготовлению простого наконечника для стрелы, просит прощения у Ильмаринена, ну, а уж любой парень обязательно обращается к Лемминкяйнену, чтобы помог оболтать понравившуюся ему девушку…
Степан при последних словах гостя от души рассмеялся.
–– Молодец, этот ваш Лемминкяйнен! – заметил он. – Вот видишь, пользу от него ваши парни имеют, учит герой древних рун, как девок обалтывать, ха-ха-ха. Ну, да ладно, пошли спать, завтра спозарань едем до Господина Великого Новгорода. Тебе Микко, товар скобяной закупать целый воз, а мне к «Золотым поясам», в Совет Старейшин, насчёт морского, торгового каравана выяснить: каков будет, какая охрана, вопросов много, а на дворе уж весна.
–– А мне, что повелишь, батюшка? – уставился на отца Пётр.
–– Со мной поедешь! – посуровел отец. – К настоящему делу привыкать надо! Нечего тут прохлаждаться…
*****
Утром Степан Колода поднялся рано и первым делом велел дворовым накормить и напоить лошадей для дальней дороги в Новгород, да, чтобы не забыли и лошадей гостя с севера. Дворовые приказ сурового хозяина исполнили, после чего в каждую бричку запрягли по паре накормленных коней. Сунули в каждую бричку по мешку овса для лошадок, а старшая дочь Степана, Анна положила в дорогу для путников мешок с пирогами, начинёнными сарацинским пшеном (рисом). Хозяин с гостем Микко и сыном Петром закусили просяной кашей, по случаю поста без мяса и масла, выпили по кружке чая, сели на передок первой брички, да и поехали по наезженной дороге вдоль Волхова на юг в сторону Великого Новгорода.
Утреннее, апрельское солнце чистым розовым блюдом как-то неохотно вылезало из-за синей полоски горизонта, но день обещался быть ясным. Стаявшие за последние две недели обильные снега наполнили Волхов так, что река местами выливалась на прибрежные луга, кусты верболозы в бело-жёлтых барашках цветов и одинокие берёзы, кроны которых уже накрыла бледно-зелёная кисея распускающихся листьев; некоторые деревья стояли в воде. По поверхности воды мутноватые речные струи несли пучки прошлогодней соломы, ветки сушняка, почерневшие берёзовые листья, изредка проплывали какие-то рваные тряпки, высохшие, но успевшие уже намокнуть, лепёшки коровьего навоза. Весь этот прошлогодний мусор река уносила в огромное Ладожское озеро.
Путники сидели на облучке передней брички, вторая же повозка катила сама по себе, кони её просто следовали за первой. Ездоки на первой повозке были одеты в дорожные армяки, на всех троих добротные сапоги, а у Степана под серым армяком поблескивала охристым цветом шёлковая рубаха до колен, подпоясанная широким парчовым поясом, с которого свешивался кошель с деньгами и внушительный, шведский кинжал-скрамасакс в серебряных ножнах. На всякий случай под облучком лежали два дротика с широкими стальными лезвиями. Степан и гость Микко, хоть и занимались торговыми делами, но были ещё и неплохими воинами, да и юноша Пётр уже отлично владел многими видами оружия.
Вообще-то дорожных грабителей здесь не встречалось, потому что дорога оживлённая: и туда, и обратно катили целые караваны, гружёных чем-нибудь, телег, шли гурты овец и коров на продажу, скакали одинокие и в группе всадники. Эта шумная дорога в Новгород затихала только к ночи, когда путники устраивались на ночёвку. Для этого почти на равных промежутках по пути было три гостевых приюта, каждый, особенно зимой, вмещал до пятидесяти путников. Но, надо сказать, что весной и летом многие проезжие ночевали и под открытым небом: вода, дрова рядом, разводи костёр, отпускай коней на пастьбу, да и ночуй возле огня.
Пустые брички Степана и Микко катили быстро, обгоняя торговые караваны своих и ганзейских купцов. Через каждые пятнадцать поприщ Степан давал лошадям короткий отдых, подкармливал овсом и давал немного воды. Лошади по ровной дороге почти постоянно бежали рысью и, при ясной, тёплой погоде с боковым ветерком, к вечеру прошли половину пути. Солнце уже коснулось своим нижним краем синей кромки горизонта, когда завиднелась гостевая изба, возле которой уже стояли чьи-то гружёные телеги и поодаль паслись кони.
Изба стояла на опушке небольшого, хвойно-лиственного леса, рядом протекал родник, который не замерзал даже и зимой, с лихвой снабжая чистой водой заезжих гостей и хозяина избы. Степан подогнал свои телеги ближе к роднику, где чернело, обложенное камнем костровище с железным таганом, распряг лошадей и пустил их щипать молодую, весеннюю травку. Пётр понял, что отец с Микко решили ночевать на поляне у костра и даже обрадовался; ночевать в духоте избы как-то и не хотелось.
Гостевая изба представляла собой длинный дом из толстых сосновых брёвен с двумя входами по торцам и двумя печками. С одной стороны, треть избы занимал смотритель с семьёй, а большая часть предназначалась для путников. Смотритель имел при избе большое подворье с коровником, конюшнями, клунями и баней, а за проезжей дорогой, вплоть до Волхова, распростёрлось широкое поле, на части которого смотритель сеял овёс, рожь и горох. Там же в поле паслись его коровы, кони и овцы.
Пётр привычно собрал в лесу добрую охапку валежника, развёл костёр и, набрав в роднике два походных котелка воды, подвесил их на железную, прокопчёную перекладину тагана. После чего ещё раз сходил в лес, нарвал там букетик брусничника и бросил его в один из котелков. В это время отец с Микко расстелили кошму возле костра и заварили пшённую кашу, и вовремя, – солнце зашло, но было ещё светло. Путники, при треске сучьев в костре, молча поели горячей каши с коровьим маслом, несмотря на пост, и принялись чаёвничать. Каждый зачерпывал берестяной кружкой лесной напиток из котелка и задумчиво кайфовал.
На позеленевшем, вечернем небе уже появились первые звёзды, но возле костра было тепло, стояла тишина и полное безветрие. И вот в этой тишине, вдруг, раздался недовольный, скрипучий голос:
–– Хоша бы угостили чаем-то старую женщину, олухи дорожные!
Путники тупо уставились на непрошенного гостя, держа в руках кружки с горячим чаем. Напротив них, за костерком с горкой раскалённых углей, сидела старуха в каких-то серых лохмотьях. Голова её была повязана такой же серой косынкой, седые космы волос из-под косынки небрежно рассыпались по сухоньким плечам, горбатый нос на морщинистом лице почти уткнулся в выступающий острый подбородок, из безгубого, словно синеватый шрам, рта торчал коричневый, будто ржавый гвоздь, кривой зуб, зато глаза – удивительно живые, весело поглядывали на обомлевшую троицу.
–– Ну, чего буркала-то свои вылупили, как козлы на новые ворота! – пренебрежительно бросила старуха.
Наконец, Пётр, как-то машинально протянул старухе свою кружку с чаем. Та костлявой рукой цепко ухватила берестяную кружку и сразу отхлебнула полкружки горячего напитка. Покрасневшими глазами она посверлила троицу и заговорила: