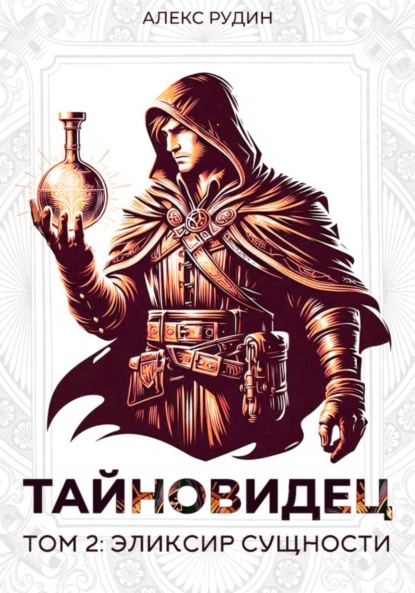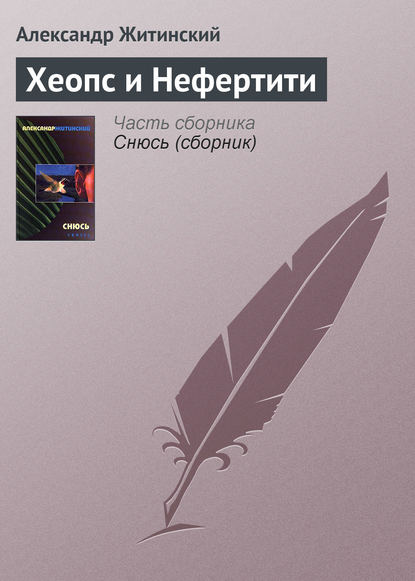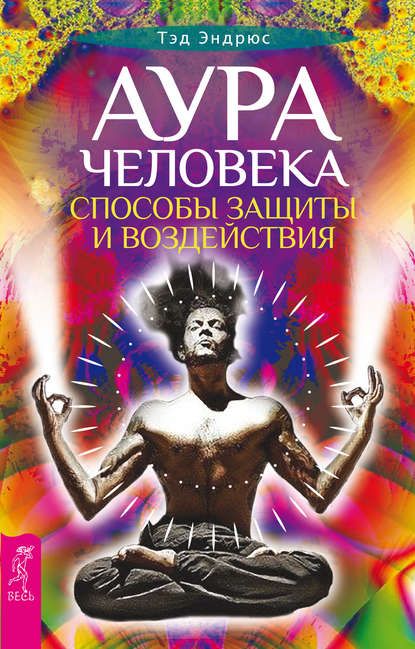На мягких лапах

- -
- 100%
- +

История галопом мчится в будущее, стуча
золотыми подковами по черепам дураков…
Часть первая: МИР СТРАННЫХ ЛЮДЕЙГлава 1. Я ТЕБЯ ЗНАЮ, ГОСПОДИН ТРАПЕЗУНДСКИЙ!
Сергей Мурлыка, шагая по давно изношенному тротуару улицы, поймал себя на мысли, что в этом месте города он раньше не бывал и улица эта ему совершенно незнакома. Как тридцатилетний мужик июньским утром оказался здесь непонятно, и куда направляется тоже неясно? Мурлыка опомнился и остановился. Солнце, в чистом без единого облачка небе, поднялось уже высоко, десятый час утра. Кому нужно было на работу, или по неотложным делам, уже ушли и уехали, на улице были только редкие пенсионеры, неспешно идущие по магазинам, да молодые мамашки с детьми в колясках, которые заворачивали в ближайший сквер с цветущей сиренью, клумбами с разноцветьем петуний и жаркими герберами. До ноздрей Сергея из ближайшего сквера протянулся благоухающий аромат цветущего жасмина, а в кроне липы неподалёку расшумелась стайка воробьёв, собравшаяся на свой ежегодный симпозиум по дележу гнездований.
«Куда прусь-то? – проползла вялая мысль в мозгу Мурлыки». Парень оглянулся, спрашивать кого-либо из пенсионеров или мамашек с колясками ему было неудобно, город-то его, он тут родился и вырос, но вот почему оказался именно в этой, незнакомой части городской застройки, где он никогда и не был – вот вопрос? Мурлыка в задумчивости вынул мятую пачку сигарет из верхнего кармана синей ветровки, закурил и начал припоминать. Вроде бы всё было как обычно: возле одного из городских бутиков Сергей, как опытный рыбак, промышлял ротозеев, в основном, из молодых женщин, которые всегда желают купить весь мир, любой предмет, всё на что упадёт их взгляд. Главное, именно такие клиентки имели возможность купить всё, что их душе угодно, у них были и электронные карточки и просто бумажные деньги. Мурлыка вычислял таких женщин по глазам, они у них по-особому светятся, и обчистить их нетрудно, тем более, что парень в своём деле был виртуозом и носил в уголовном мире очень уж точное погоняло – Фартовый. Но и фамилия Мурлыка в криминальной среде тоже многим казалась уголовной кличкой, тем более, что Сергей, уже карманник со стажем, часто приговаривал: «К объекту надо подходить на мягких лапах» и, конечно, сам виртуозно использовал эти кошачьи особенности.
А теперь вот Сергей Мурлыка стоял в незнакомом месте, курил и размышлял. Больше всего опытного вора-карманника настораживало то обстоятельство, что в этом году подобный случай произошёл с ним уже в третий раз. «К врачам что ли идти? – пронеслась мысль. – А к кому конкретно, к какому специалисту? К не ври патологу что ли?» В первом случае, ещё зимой, Сергей оказался на вокзале, хотя никуда не собирался ехать, во втором случае, уже в апреле, он вообще оказался среди пассажиров-дачников пригородной электрички и вот теперь третий случай. Поневоле призадумаешься – с чего бы это, кому он дорогу перешёл, кто его сглазил? По его работе недоброжелатели, конечно, были, но едва ли они его запоминали, операцию по изъятию денег и других ценностей у жертвы он производил мгновенно, проходя мимо, и старался не обращать на себя внимания «клиента», в этом и заключалась специфика профессии вора-карманника.
«Что за проклятье? – раздражённо подумал Сергей. – Были же другие дни и их немало, хотя бы и вчерашний день, всё прошло штатно, как обычно. Пожалуй, четвёртый раз так вот просто ему не сойдёт, кто-то, невидимый, пошлёт его, Фартового, вообще неизвестно куда, на тот свет, чертенят пасти. В церковь что ли идти, к попу на исповедь? Так ведь поп скажет – брось своё нечестивое занятие, покайся и жизнь наладится, всё будет нормально. А ведь он, Сергей, больше ничего в жизни и не умеет. Хотя можно пойти в грузчики, тут умения никакого не надо: взял это, перенёс туда».
Сергей посмотрел туда, откуда пришёл, увидел на жёлто-грязноватом от смога горизонте, над крышами домов, городскую телевышку и даже половину колеса обозрения, там, в далёком парке, и до парня, наконец, дошло, что здесь пригород и надо двигаться в обратную сторону, но это же далеко, надо поискать здесь общественный транспорт. Парень вяло побрёл по улице в обратную сторону. «Чёрт возьми! – пришла опять мысль. – Скажи кому, так ведь не поверят, особенно «смотрящий», мало того, Сергей Мурлыка уважение потеряет в уголовном мире, и прощай его знаменитое погоняло Фартовый, скорей прилепят ему кликуху Проклятый, или ещё того хуже – Меченый, а то и совсем уж никуда – козёл Кошкоедов».
Ну, а тот, кто послал карманника Мурлыку не так далеко, совсем и не интересовался, где воришка окажется. Просто так уж получилось, что вор Мурлыка, случайно, трижды попадался ему на глаза, и этот некто чувствовал, что сейчас произойдёт мелкое правонарушение, ему становилось противно и он мысленно посылал вора куда подальше. Как ни странно, он видел, что посланный мгновенно исчезал, но не придавал этому физическому явлению какого-либо значения, и даже не задумывался, почему это происходит. А ведь это происходило неоднократно и человек этот стал гением желания не по своей воле.
Этого странного гения желания звали Артур и фамилия у него в России была редкостная и какая-то не совсем приятная – Иродов, особенно, если вспомнить как матери иной раз кричат своим расшалившимся детям: «Вы что творите, ироды?» Но этот наш Иродов, с отличием закончив исторический факультет Московского университета, человеком был ещё молодым, своей семьи не имел, до учёбы в высшем учебном заведении жил с родителями на Урале, историю полюбил с детства, изучал ей целенаправлен и имел уже несколько разработанных тем, а теперь вот, после учёбы, прикидывал, куда устроиться на работу, а ещё молодой историк как-то вяло раздумывал, какую бы выбрать тему для кандидатской диссертации. Любое направление в сложной исторической науке ему казалось важным, но, почему-то, выбрав, наконец, тему, он быстро терял к ней интерес и это его напрягало.
Вообще-то Артур Иродов вначале поступил на физический факультет университета, увлёкся квантовыми технологиями, но как это часто бывает с молодыми людьми, на втором курсе переориентировался на историю и теперь вот оказался на перепутье дорог в смысле выбора рабочего места и темы для диссертации. Время неумолимо шло, а парень всё не мог определиться. Отец, железнодорожный специалист помалкивал, ни на чём не настаивал, понимающе посматривал на сына, улыбался себе в густые усы, выбор жизненного пути вещь ответственная, чего уж тут.
Артур приехал в отчий дом ещё осенью, а теперь уж весна. Парень, чаще бесцельно, бродил по городу, бездумно посматривал на прохожих, иногда, из любопытства, заходил в некоторые частные учреждения, пытливо знакомился с условиями работы. Ничего-то его не устраивало, так бывает со многими молодыми выпускниками отечественных вузов, пока Артур не встретил человека, который и стал триггером в его судьбе. Николай Гулов, так звали человека. Артур познакомился с ним давно, ещё когда учился на физическом факультете университета, Гулов был тогда на курс старше, нашлись общие интересы, само собой, завязалась дружба, а потом Артур Иродов перешёл на исторический факультет, но связь с Николаем не терял. Всё же Гулов учёбу закончил раньше и уехал по месту своей работы, а вот куда уехал, он Артуру не успел сказать по какой-то причине. Хотя причина тут простая – историк Иродов в это время уехал на практику, его, знакомые археологи, пригласили на раскопки в Среднюю Азию, в ажиотаже сборов Артур куда-то сунул свой мобильник, а потом и вообще забыл о нём и нашёлся он, давно разрежённый, на дне объёмистой, дорожной сумки уже, когда хозяин вернулся домой…
*****
Чаще всего конец мая начало июня на Южном Урале бывает сухим, дожди пойдут ближе к июлю, когда поспевает садовая земляника, и осадки, естественно, урожай портят, а заодним и настроение городским садоводам. Известно ведь, никогда ещё погода в России не смогла в полной мере угодить многочисленным любителям выращивать сельскохозяйственную продукцию на своих приусадебных участках, ну эти любители и костерят погоду на все лады, достаётся и тому, кто эту погоду производит.
Чистое и безветренное июньское утро, а ещё запахи цветущего жасмина и сирени окутали Артура медленно идущего по улице в сторону одного из филиалов Южно-Уральского университета, где ему предложили какое-то там место лаборанта. Проходя мимо летнего кафе на открытом воздухе, Артур, вдруг, услышал насмешливо-шутливый возглас:
–– Эй, чувак! Не проходи мимо!
Четыре столика с большими зонтами над ними располагались за живой изгородью подстриженных кустиков жимолости. Голос показался Артуру знакомым, он заглянул через декоративную стенку, за ближайшим столиком сидел его старый знакомый, физик Николай Гулов. Артур тут же завернул в это летнее кафе и, раскрыв руки как будто хотел поймать кого-то, радостно возопил:
–– Вот те на! Николаша! Как ты здесь оказался? Чего ты здесь делаешь? Надо же не ожидал, что встречу тебя именно в моём городе.
Друзья обнялись, похлопав ладонями друг друга по спинам.
–– А вот я был твёрдо уверен, что рано или поздно встречу тебя в этом городе, – произнёс Гулов, усаживая Артура за столик. – Я здесь работаю, друг мой, у меня лаборатория от машиностроительного комбината. Помнишь наш разговор на последнем курсе, я тогда проходил практику в этом городе, на этом комбинате, я ж тебе об этой практике тогда ещё сообщил, ну, да ладно. Так вот генеральный директор этого комбината, или концерна, я не вникал, Вениамин Петрович Маневич, предложил мне лабораторию и хорошую зарплату. И дело тут не в зарплате, мой друг, главное, условия для работы прекрасные.
–– А чего ж мне не сказал, что намереваешься работать в моём родном городе? – бросил Артур.
–– Так ведь ты же уехал так неожиданно с экспедицией куда-то в пески Средней Азии, – начал оправдываться Гулов, – и мобильник твой молчал, а потом я свой мобильник выбросил, приобрёл более современный, да видно и ты симку в своём телефоне сменил, ну и, конечно, работа здесь меня затянула с головой и я вообще перестал кого-либо беспокоить. Как-то глупо всё это получилось, Артур, но я предчувствовал, что мы именно в этом городе встретимся.
Пухлая, миловидная официантка принесла друзьям по чашке кофе и по порции мороженного. Артур как-то машинально попробовал мороженное и после холодного глотнул горячего напитка.
–– Я ведь уже где-то около полугода здесь отираюсь, – заговорил Иродов. – Живу с родителями, работу вот подыскиваю, но преподавать в школе, Коля, у меня нет никакого желания. С детьми ведь надо уметь работать, подход к ним искать, на мягких лапах к каждому, ерунда какая-то. Я считаю, коли, человек пришёл за знаниями, так внимай, что тебе в голову вдалбливают, а, коли, норов свой, зубы показываешь учителю, так сиди дома и показывай эти зубы своим родителям…
–– Учителем нужно быть толковым, или никаким! – бросил Гулов.
–– В школьном, среднем образовании, Коля, можно обойтись и не очень хорошими учителями, – по привычке вступил в полемику Иродов. – Ученик пробелы в образовании восполнит самостоятельно, а вот в медицине плохих медиков не должно быть, но почему-то всегда советуют: «Ищите хорошего доктора!». А так выходит вокруг все плохие? Плохих в медицине держать нельзя, гнать в шею всяких проходимцев, чтобы не совершали непоправимых ошибок, не измывались над больными…
–– Ну хватит, Артур! – перебил Гулов. – Значит пока никуда не устроился?
–– Нет! – последовал короткий ответ.
–– У меня будешь работать! – твёрдо и бесповоротно заявил собеседник.
–– Да я ж не физик! – возразил Артур.
–– Знаю, знаю! Но должен тебе сообщить, друг мой, – специфика моего проекта такова, – заговорщицки понизил голос Гулов, – что как раз и требуется хороший историк.
–– Хм, интересно, – буркнул Иродов. И что же это за проект такой?
–– А о нём пока никто не знает и знать не должен! Проект курирует сам директор завода, Маневич, он же и хозяин заведения, финансирование идёт с его личного счёта, но даже он, несмотря на своё высшее техническое образование, ничего не понял из моих объяснений, – улыбнувшись, заговорил Гулов. – Ну разве только общефизическое направление и некоторые принципы передвижения ядерной или сохранение и распространение электромагнитной энергии во времени.
–– Во, куда хватил!? – поднял брови Артур. – Квантовый мир, квантовые технологии! Но для этого нужен ускоритель, магнитные поля, в простой лаборатории ничего этого быть не может. И потом, неужели энергия ядерного взрыва может управлять временем?
–– Может! – коротко бросил Гулов и, увлёкшись, заговорил подробнее. – Временем может управлять энергия любого взрыва, и даже не обязательно ядерного, просто для космоса ядерные процессы закономерны, они происходят там постоянно. Но это для больших, объёмных экспериментов, которыми занимается Создатель, а у нас с тобой будут небольшие, даже малозаметные, но привлекать чьё-либо внимание не нужно, даже вредно, хотя и придётся.
–– Поясни свою мысль, – заметил Иродов.
–– Один знакомый археолог, – размеренно заговорил Гулов, – принёс мне ещё год назад вещь, назначение которой абсолютно непонятна его коллегам. Вещь небольшая, квадратной формы, как большие наручные часы, вроде наручного компаса без экрана с литым браслетом, всё из золота, вернее из композита. Мне почему-то показалось, что это не женское украшение, а какой-то древний прибор и вскоре я убедился в этом, может, потому, что каждый день копался с ним, чистил, шоркал и он, представь себе, вдруг, ожил, сам вступил со мной в контакт!
–– Этим меня не удивишь, Коля, – заметил Артур, – когда мы рылись в песках, раскапывая древнюю столицу Хорезма…
–– Да погоди, Артур! – остановил друга Гулов. – Однажды вечером, сотрудники уже ушли домой, а я опять взялся за находку археологов, вынул из сейфа, развернул тряпицу и, казалось бы, на чисто литой поверхности этого древнего прибора, вдруг, засветился экран дисплея. Прибор возьми, да и сообщи мне, что он является микроаккуммулятором энергии огромной ёмкости, который подзаряжается от любого вида земной энергии, например, энергии планеты или солнца. Ещё более странно, мой друг, что на экранчике прибора высветилось предупреждение на современном русском языке, что он выдаёт по воле экспериментатора разряд гигантской мощности, которого достаточно для мгновенного расщепления материального объекта на атомы, передвижения пучка этих атомов в рассчитанную точку времени-пространства и собирание там этого пучка обратно в материальный объект по цифровой программе, за ноль три десятых миллисекунды времени, то-есть, практически мгновенно.
–– Это он тебе сообщил? – не веря, удивился Иродов.
–– Ну, да! – подтвердил физик.
–– А где его нашли? Место, географическая точка! – допытывался историк.
–– В районе Аральского моря! – был ответ. – Южнее его.
–– Хм, пожалуй, это будет недалеко от раскопок моей экспедиции, в смысле, в которую я был включён, как практикант. Наверняка эта вещь была не одна, – рассудил Артур. – Может, ещё что-нибудь там было?
–– Было, друг мой! – заулыбался Гулов и вынул из нагрудного кармана ветровки небольшой овальной формы предмет чёрного цвета.
–– Что это? – сразу заинтересовался Иродов.
–– Ага! Интересно! Это тоже древний прибор, который создаёт небольшое силовое поле вокруг хозяина этой вещи. Видишь на корпусе вот этот жёлтый знак, перечёркнутый красной линией, а рядом две кнопки – красная и белая. Археологов это насторожило, а ну, да взорвётся, мне и вручили. Корпус прибора похож на эбонитовый, но, скорей всего, тоже композит. С этим прибором я быстро разобрался.
–– Да погоди! Что там ещё было и сколько времени захоронению? – нетерпеливо спросил Иродов.
Гулов с улыбкой взглянул на взволнованного друга, но объяснил:
–– Там было несколько окаменевших останков скелета человека большого роста, примерно, метров двух и даже больше. Мои друзья, археологи, применили радиоуглеродную методику определения времени останков, оказалось что кости пролежали в земле около ДВУХ МИЛЛИОНОВ лет. Я же провёл кое-какие опыты с прибором, просканировал его и убедился, что корпус и цельнолитой браслет вовсе не из золота. Это какой-то композитный материал очень похожий на золото, хотя оно в сплаве, конечно, присутствует, но, как ты знаешь, золото плавится при температуре плюс тысяча сто градусов, а этот выдерживает плюсовую температуру до шести тысяч градусов по Цельсию.
–– Ты что проводил испытания прибора и работал с температурами? – вытаращился на физика Иродов.
–– Да нет, он сам выложил мне свои характеристики, – спокойно пояснил Гулов.
–– Фантастика! – не поверил Артур. – Это же температура поверхности солнца, никакой материал не выдержит такого нагрева, расплавится и перейдёт в газообразное состояние.
–– Да ты погоди, друг мой Иродов! – Гулов легонько хлопнул собеседника по плечу. – Фу, чёрт возьми, фамилия у тебя какая-то подозрительная. И где только твой дед или прадед её приобрели? В древней Иудее царь был Ирод, который преследовал Святое семейство, так что, выходит ты его потомок?
–– Да нет, конечно! – заговорил Артур. – Я чистокровный русак. Ты же знаешь, что в России привыкли иродами называть людей, которые ведут себя слишком круто, неадекватно. Отец мне рассказывал, что наш предок, якобы, служил у царя Алексея Романова в качестве сотника в войске, зуботычины раздавал по любому поводу налево и направо – вот его иродом и прозвали, отсюда и фамилия. А вообще царь Ирод, там в Иудее, был совсем не такой вредный как его нам преподносят некоторые авторы исторических монографий. Он был монархом прогрессивным, – это я тебе как историк говорю, провёл несколько полезных для Иудеи того времени реформ, поднял экономику государства на небывалую высоту, люди во время его правления жили довольно неплохо и налоги были достаточно щадящими.
–– Как это он смог? – кинулся в полемику физик, уж забыв про основную тему разговора. – Иудея в то время находилась же под патронажем римлян, а они же выкачивали из своих провинций всё, что можно и невозможно.
–– Да погоди ты! Вот смог! – увлёкшись, продолжил Артур. – Иудея пользовалась в то время некоторой автономией. Римлянам энергичная позиция царя Ирода была только на руку: сильная экономика – богатое общество, а значит больше налогов для того же Рима. Древняя империя обложила всех своих соседей данью, подмяла под себя все ближние народы и племена. Люди вообще делятся на две категории: созидающих и отнимающих у созидателей. Ты вот обрати внимание на детей в возрасте трёх-четырёх лет: сразу видно как один отнимает у другого понравившуюся ему игрушку. Заметь – не просит, а отнимает, ну и кто из него вырастет? Правильно – агрессор, или, может быть, по Льву Гумилёву – пассионарий? И вообще, чего это мы отвлеклись-то? Показал бы древнюю находку.
–– Ну ладно! – согласился Гулов, вспомнив, наконец, для чего ему понадобился Иродов. – Я этот прибор никому не показывал, даже своим сотрудникам, но тебе покажу. Давай ближе к делу, я завтра закажу тебе пропуск на завод, паспорт не забудь взять с собой, мои люди тебя встретят возле проходной и проводят в лабораторию, иначе тебе её не найти, завод же огромный, там кроме производственных цехов инфраструктуры всякой полно, целый день будешь блудить и нужного объекта не найдёшь.
–– Не зря же поговорка: язык до Киева доведёт, – рассудил Артур, – кто-нибудь подскажет.
–– До Киева доведёт, а до моей лаборатории – нет, потому как она обозначена под номером и всё тут, а зданий на заводе много.
–– Хорошо! Сам же сказал, что провожатый у меня будет, вот только никак в толк не возьму, в каком качестве я тебе-то нужен?
Гулов внимательно посмотрел на друга и пояснил:
–– Помнишь, ты мне ещё в университете развил целую теорию о том, что будущее человечества можно увидеть в далёком прошлом, потому что человечество развивается скачкообразно, идёт, в основном, по кругу, но спирально и у него вполне закономерны падения и взлёты.
–– А я и сейчас от этой гипотезы не отказываюсь, – буркнул Артур. – Это ещё Лев Гумилёв доказал в своей теории пассионарности. Да вон стоит хотя бы посмотреть на ночное небо, где сверкают мириады звёзд, все они из далёкого прошлого, свет от них идёт до нас тысячелетиями, миллионами и миллиардами лет.
–– Хорошо! Вот и будем эту твою теорию претворять в жизнь, – спокойно бросил Гулов. – Я согласен с тобой, и с академиком Львом Гумилёвым, что человечество развивается скачкообразно, но долгий разрыв в развитии из-за планетарных катаклизмов заставляет человечество начинать свой жизненный путь с нуля, или, как любят выражаться некоторые головы, с чистого листа.
–– Предполагаю, что подобный древний прибор, созданный прежними высокоразвитыми цивилизациями, не один на нашей планете, – заметил историк. – Ты вот скажи мне, что ещё обнаружили твои знакомые археологи в том месте? Ну хоть какие-то постройки, остатки их, могли быть там?
–– Там были какие-то явно обработанные базальтовые блоки со сглаженными от времени углами, похоже на фундаменты циклопического сооружения, – добавил Гулов. – Но это, якобы, всё, что сохранилось.
Физик взялся за своё мороженное, запивая его горячим кофе. Наконец, взглянул на оторопевшего собеседника.
–– Ну чего ты на меня зенки свои таращишь, Иродов?
–– Небось, затаращишь, коли, фантазий от тебя всяких наслушаешься, – бросил Артур.
–– Твои же фантазии…
–– Мои говоришь, – задумчиво произнёс Артур. – Тогда послушай! – встрепенулся он. – Вот в прошлом году, когда приехал в родной город, решил я сходить в наши леса за белыми грибами, пообщаться с природой. Лето заканчивалось, начало сентября, погода установилась такая, что этим грибам прям раздолье – вот я и пошёл в сторону Александровской сопки, там этих белых встречается много. Места те мне давно знакомы: с одной стороны железная дорога, Транссибирская магистраль, а с другой стороны город, вытянувшийся на двадцать километров вдоль реки и водохранилища. Промежуток от железки до города километра три-четыре, занят горными шишками, скалами и уральской тайгой. Железная дорога вьётся вокруг этих шишек, но Александровская сопка выше их всех. Так вот за два километра до этой сопки есть место, которое смело можно назвать аномальной зоной: стрелка компаса там мечется как угорелая, муравейники в этом месте от полутора до двух метров высотой, насекомые большие, огромной высоты лиственницы и папоротники. Странно то, что именно в этом знакомом, казалось бы, месте можно, ни с того ни с сего, заблудиться, двинуться совсем не в ту сторону. Происходит это не каждый раз, но часто.
–– Хм, интересно, интересно! – бросил Гулов.
–– Ну вот, – продолжил Артур, – в ясную погоду ничего необычного здесь не происходит, да и участок небольшой, метров двести-триста в диаметре., прошёл, да и всё. Но вот именно в этом месте, где я оказался в тот раз, вдруг, очень быстро чистое синее небо заполонили серые тучи и пошёл накрапывать дождь. Я повернулся в обратную сторону, то-есть, пошёл домой, и до садов, откуда я начал свой путь, идти всего-то пятнадцать минут. Дорога грунтовая, хорошо наезженная КАМАЗами, слева, за небольшой прослойкой леса, шумит железная дорога и автомобильное, асфальтированное шоссе, ну невозможно заблудиться-то, а я в знакомом мне месте заблудился – вот можно ли поверить?
–– Я верю, – заметил Гулов, – и могу объяснить…
–– Погоди, слушай дальше, Коля, – оборвал друга Артур, – выводы потом сделаешь. Иду я по этой грунтовой, лесной дороге, знаю точно, что она ведёт в сторону садов и городского микрорайона, где мой дом. Дождь продолжает накрапывать, небо серое, лес вокруг один и тот же, никаких ориентиров, кроме этой дороги нет. Странно, что дорога эта стала заворачивать то в одну сторону, то в другую, да и по времени я должен быть давно уж возле садов. Хорошо, что дорога эта, грунтовая, вывела меня на железнодорожных рабочих в оранжевых жилетках, которые были заняты какой-то работой на «железке». Я их спросил правильно ли я иду к станции Уржумка и коллективным садам. Оказалось, что шагать мне надо в обратном направлении, ну я и пошёл уже по шпалам, то-есть железная дорога выводила меня точно к садам и дому. Я засёк время по своим наручным часам, знаю, что идти мне не более пятнадцати минут и даже меньше, но почему-то путь оказался очень долгим. Ты не поверишь, больше двух с половиной часов!
–– Да вот я-то как раз и поверю, – заметил Гулов.
–– Мне показалось, что иду я по этим шпалам давно, – продолжил Иродов, – вечно, с самого рождения и конца этому движению не будет. Тучи над головой стали рассеиваться, показались голубые просветы чистого неба, выглянуло солнце и было оно уже далеко не утренним, а полдневным, но вот и сады. Я посмотрел на часы и оказалось, что иду я по «железке» уже около трёх часов и за это время можно было пройти весь город, то-есть около двадцати километров. Странно, я поймал себя на мысли, почему пятнадцать минут пути превратились в три часа, ведь путь-то по «железке» прямой и мне давно известный? Но и это ещё не всё, друг мой! Я машинально, не соображая, нащупал в седловине между большим и указательным пальцами под кожей шарик и как он попал туда непонятно. Главное, я точно знал, что ещё до встречи со странными железнодорожниками, которые указали мне верный путь, никакого шарика между пальцами у меня не было. Вот возьми и проверь!