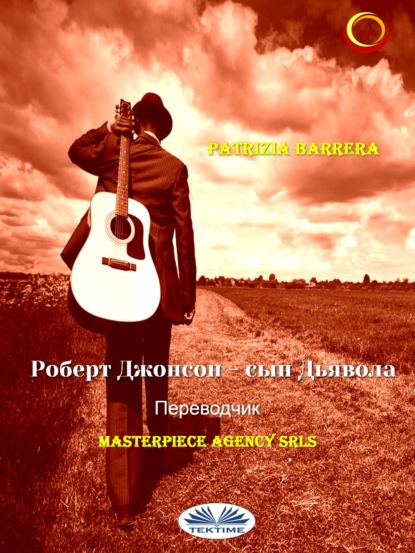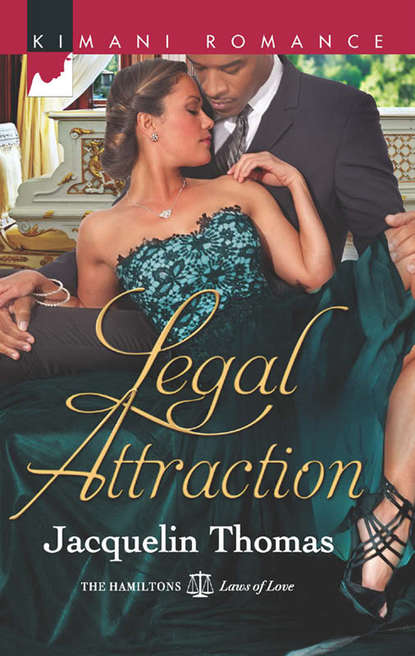На мягких лапах

- -
- 100%
- +
Проходимец Георгий, имея располагающий к себе характер, быстро сошёлся с единоверцами в диаспоре, ближе всего прилип к братьям Альбертус-Далмацким, которые были в каком-то там родстве с императорским домом Палеологов, а потому на особом счету у английской королевской семьи. Братья много рассказывали Георгию о России, о том, что московские государи охотно берут на службу зарубежных специалистов, а уж греков-то как единоверцев привечают особо. Георгий, наслушавшись этих россказней, загорелся желанием поехать в Россию, принялся срочно учить русский язык у заезжих торговцев из Архангельска. Но за два месяца выучить трудный русский язык едва ли возможно, однако греку Георгию в этом деле помогала хорошая память и способности к языкам. А тут случай: английский торговый корабль пошёл в Россию и Георгий 8-го августа тысяча шестьсот двадцать седьмого года прибыл в город Архангельск на этом корабле.
Архангельским таможенным чиновникам Георгий, усердно крестясь и кланяясь, объявил, что он грек из Трапезунда-города, христианин Православной веры, приехал служить верою и правдою государю московскому Михаилу Романову. Таможенникам такие клиенты попадались уже не впервой, а потому они, не долго думая, отправили Георгия с обозом в Москву, пусть обозная охрана сдаст этого зарубежного пришельца в Посольский приказ, у тамошних дьяков бороды длинней, ума больше, мол, определят, куда надо. Посольские чиновники, тоже долго раздумывать не стали, Георгия записали Юрием, мол, на Руси, что Георгий, что Юрий – одно и то же, и стал по бумагам бывший пират и крутой проходимец Георгий, Юрием, Ивановым сыном, из Трапезонда-города. Определили работнички Посольского приказа новоиспечённого Юрия Иванова рядовым в греческую роту Большого Московского полка. Теперь уже Юрий получил подъёмные на покупку соответствующего оружия, одежды, кой-какие деньги на обустройство, и началась у него служба русскому царю.
Сама по себе служба простая: с утра, после заутрени, общее ротное построение, после чего каши поели и строевые занятия с оружием и без него, а потом обед, после которого занимайся чем хочешь. Георгий, теперь уж по московским бумагам Юрий, времени зря не терял – познакомился с девушкой из стрелецкой семьи, накупил подарков невесте и родне невесты, деньги-то у него были, ещё те: испанские реалы, да и не только они, но и голландские гульдены и талеры, да и из награбленных с алжирскими пиратами. Вполне официально Юрий Иванов-Трапезундский женился с записью, как положено, в церковной книге. Служивым, но семейным человеком стал Юрий, как и многие стрельцы в Москве. Пять лет так прошло, уже и тройка девчонок у Трапезундского народилась, а тут спокойная жизнь кончилась, подоспела и грянула польско-русская война 1632-34 годов.
Спокойная и размеренная жизнь у Юрия Трапезундского сменилась на лихую, во всех отношениях ему знакомую, жизнь полную военных опасностей. Для него, человека бывалого, военные действия, где бы они не происходили, дело привычное, он быстро в этом деле проявил себя и был назначен в своей роте командиром отделения, десятником. Московский полк, где служил наш герой отправился на войну с поляками, в армию воеводы Фёдора Сухотина, которая как раз в это время занимались осадой города Дорогобужа. Здесь Трапезундский сразу показал, что он не новичок в боевых схватках, имеет кой-какой военный опыт, за что и получил звание десятника в своей роте.
Хоть и показал себя Юрий-Георгий под Дорогобужем с хорошей стороны и войсковое начальство это заметило, а всё ж судьба опять преподнесла ему кукиш, высшие силы испытывали его на прочность: на очередной, боевой вылазке Юрий попал в плен к полякам. Другого бы замордовали, а этот быстро вывернулся, тут же использовал беспроигрышную методику в своей жизни – враньё. Наплёл, напел польским полевым офицерам, что он занимает высокий пост в русской армии – является помощником воеводы Фёдора Сухотина, военным советником и толмачом, потому что он, якобы, итальянец родом, наёмник, да ещё и католик. Польские офицеры уши развесили, проходимцу поверили, да и отправили Трапезундского в Варшаву, пусть, мол, там с ним разбираются.
В Варшаве за Юрия принялись высокие военные чины, сенаторы польского сейма, важные лица дотошно допрашивали тридцатилетнего грека, выясняли некоторые подробности, да только не на того напали, в искусстве вранья Юрию не было равных. Мало того привлечённому для допроса толмачу, Юрий по-итальянски повторил то же, что и сенаторам, крестился, призывал в свидетели Деву Марию – вот и здесь ему поверили. Сенаторы друг на друга смотрели выпученными глазами, в таком деле и самый умный чего доброго «сядет в лужу», наделает ошибок, уж очень всё правдоподобно. Пришлось поверить пленному, Юрию дали богатое платье, доложили сыну короля Сигизмунда Ш принцу Владиславу 1У Вазе, а тот и заинтересовался важным, вроде бы, человеком из Московии.
Юрия пригласили во дворец, где его приняли чуть ли не как посла иностранной державы. Принц Владислав 1У Ваза уделил проходимцу больше часа своего времени, разговаривал с Юрием на русском языке, который он изучал специально, собираясь ещё в Смутное время на русский престол. В разговоре, как бы для проверки, кинул фразу по-латыни, однако Юрий фразу понял и залился соловьём по-итальянски, чем привёл принца в восторг. В разговоре принц упомянул Нидерланды, а краснобай Юрий, подхватив нить разговора, тут же наплёл принцу, что голландцы до того разбогатели на продаже солёной селёдки, что на улицах городов по деньгам ходят, мол, за медными монетами даже нагибаться им лень.
–– Так вроде бы они тюльпаны разводят, – неуверенно заговорил принц Ваза, – на цветах богатеют, за одну луковицу цветка, якобы, можно дом каменный купить.
Юрий неуверенность принца заметил и тут же развил целую теорию обогащения голландцев:
–– Тюльпаны – это их будущее, Ваше Высочество, – несло Юрия, – а пока они на селёдке жируют. Страна у них низменная, камня своего нет, а из привозного, купленного камня не только дома многоэтажные, но даже улицы все камнем вымощены. Да чего там улицы, мельницы ветряные, что зерно из других стран привезённое перемалывают, и те из камня. Погоди, они весь мир купят и продадут каким-нибудь азиатам.
–– Но ведь Нидерланды есть провинция Испании, – заметил принц, – и метрополия берёт с голландцев немалый налог.
–– Это точно! – подхватил хитрый пройдоха. – Берёт с Нидерландов налог канцелярия испанского короля Филиппа 1У, Ваше Высочество, исправно берёт, да только казна голландцев от того не оскудела и эти толстосумы на испанцев плюют.
–– Как это плюют? Ведь и те и другие католики, – насторожился принц.
–– Это мы с Вами католики, Ваше Высочество! – гнул своё Юрий. – Испанцы есть католики, а голландцы скорей протестанты, в Испании я был и не могу утверждать, что испанцы богатеют благодаря своей самой богатой провинции под названием Нидерланды…
После высшего приёма пройдохи Юрия Трапезундского в королевском дворце, в комиссариате иностранных дел Польши Юрию предложили либо постоянное житьё в стране, либо отправиться на родину, в Италию за счёт польской казны. У Юрия-Георгия хватило нахальства прожить в Польше на государственных харчах целый год, после чего, получив немалые проездные деньги он отправился, якобы, в Италию, а сам по дороге приказал возчику повернуть в сторону Германии и через неделю прибыл в Нидерланды, Пока Юрий добирался до голландских городов польский король Сигизмунд Ш отдал Богу душу и на престол в Польше взгромоздился его сын, сорокалетний принц Владислав 1У Ваза. Юрий об этом узнал в дороге и заявился в Роттердаме не куда-нибудь, а прямо к мэру города, где и передал наилучшие пожелания от польского короля Владислава 1У Вазы, чем и расположил к себе высокого чиновника.
Мэр Роттердама Якоб ван дер Гроос был приятно удивлён, ну как же, его знает сам польский король, и секретарь мэра тут же услужливо написал Юрию верительную грамоту, а этот Якоб своей подписью и печатью грамотку ту заверил. С таким документом можно было смело ехать обратно, хоть в Польшу, хоть в Россию, что Юрий и сделал, нисколько не сомневаясь, что русские посольские чиновники и в этот раз ему поверят. А в России, в Посольском приказе, тем временем на Юрия Трапезундского уже и уголовное дело завели, положив в основу предательство и измену присяге, а тут явился сам виновник, да и давай опять плести паутину своих россказней о том как он из плена польского бежал в Голландию, и вот, мол, даже документ имеется от мэра Роттердама, мол, можете справиться, аще не верите. Ну что ж, опять пришлось поверить, из бумаги ведь слов не выкинешь. Пройдоху Юрия восстановили в правах, присвоили звание поручика иностранного воинского подразделения, да и отправили на Тульско-Белгородскую защитную линию.
На Южный фронт Юрий явился гоголем, в греческой роте вёл себя как начальник и ротный Григорий Мустафин помалкивал. Правда и сам Юрий показал себя достойно: воевал храбро, грамотно, отчаянный оказался офицер, примером служил для остальных служивых. Очередной крымский хан Гирей, посчитав, что основные силы московитов застряли под Смоленском, против поляков, а потому поспешил бросить свою конницу на орловском направлении, рассчитывая прорваться через Орёл на Калугу и далее на Москву, да только конфуз из этого вышел.
Ошибся крымчак Гирей: Большой московский полк, вооружённый огневым зельем, пищалями и пушками, воевал с крымскими татарами вполне успешно и крупного прорыва, глубокого рейда у крымчаков и в этот раз не получилось. Греческая рота стояла у городка Ливны и надо же было тому случиться, что удар конного байрака юзбаши Муртазы, племянника крымского хана, пришёлся как раз по грекам. Но рота, благодаря дружному пушечному и пищальному бою, выстояла, а командовал в этой схватке, что вполне закономерно, бывалый и опытный Юрий Трапезундский. Пушечный и плотный пищальный залп скосил чуть ли не половину наступавшего плотным строем татарского байрака, а после дружного огневого залпа Юрий Трапезундский с абордажной саблей в руке первым бросился в контратаку на крымчаков, увлёкая за собой всю греческую роту. Произошло то, что и должно было произойти: боевая, греческая рота при поддержке пушкарей опрокинула втрое превосходящего, но растерявшегося противника и даже захватил личное знамя Муртазы, да и сам знатный мурза был ранен и пленён.
Конечно, воеводе Сухотину тут же и донесли о подвиге поручика Юрия Иванова-Трапезундского из иноземной роты и он посчитал своим долгом поощрить грека, прислал дорогой кафтан с собольей оторочкой по воротнику и подолу, а ещё хорошую саблю в дорогих, золочёных ножнах. В общем, набег крымчаков провалился и вскоре Большой Московский полк перебросили на Смоленское направление. Стрельцы полка под руководством немецких военных инженеров окопались по фронту и вели с поляками вялую перестрелку из пищалей и лёгких пушек фальконетов. Юрий в своей роте, после того как его отметил и наградил дорогим кафтаном воевода Сухотин, считал себя чуть ли не ближайшим помощником командира полка, а потому в роте вёл себя заносчиво, посматривал на подчинённых свысока. Наступил тысяча шестьсот тридцать четвёртый год и война с поляками бестолково закончилась, каждая сторона осталась при своём, зря только порох пожгли, да людей положили.
Большой Московский полк воевода Фёдор Сухотин вернул домой, к месту постоянной дислокации, в Москву. Потекла обычная стрелецкая служба, Юрия Трапезундского за заслуги в войне с крымчаками и поляками российские власти повысили в звании до ротмистра и доверили ему иноземную роту. И вот наступил уже тысяча шестьсот тридцать седьмой год. В роте своенравный грек развернулся во всю ширь своего вздорного характера: повёл себя в воинском подразделении как мелкий деспот, завёл любимчиков, а недовольным раздавал зуботычины, писал на некоторых подчинённых доносы, например, написал донос на дворян Алибеевых-Македонских, что, якобы, те и не дворяне вовсе, а так, самозванцы.
И вообще, в греческой роте стали даже люди пропадать. Опять началось следствие по делу об измене Юрия Иванова-Трапезундского во время войны с поляками. Дело это затянулось надолго, всё было запутано, ничего непонятно, подьячие утонули в бумагах и спорах, наконец, сошлись во мнении, что надо всё-таки наказать нахала. Проходимца, в конечном итоге, несмотря на его прежние заслуги, лишили всех званий, разжаловали в рядовые и отправили в ссылку, в Сибирь, рядовым казаком. И это уже был сорок третий год семнадцатого века, Россия прирастала новыми землями на востоке, благодаря энергии неукротимого духа первопроходцев, а за ними шли и проходимцы, для которых личная корысть превыше любопытства первооткрывателя, – вот и наш герой, Юрий Трапезундский, в силу своего неуёмного характера, и в Сибири не пропал, а даже и быстро возвысился, что и неудивительно…
Глава 3. СЛУЖБА ГОСУДАРЮ ПРОВЕРЯЕТСЯ СИБИРЬЮ
Юрий Трапезундский начал своё путешествие в ссылку ещё по снегу, в марте, когда ещё зимние холода, несмотря на овчинный полушубок, пробирали до костей. Прибыв в суровую Сибирь, Юрий попал на царёву службу в молодой сибирский город Томск, что расположился на берегу одноимённой реки. Приехал Юрий в томскую крепость уже в конце мая, когда и снег-то давно сошёл и по берегам сибирской реки буйствовала белая кипень черёмухи, одуванчиками желтели обочины грунтовых дорог, ромашковые поляны с пасущимися коровами и овцами горожан мирно поглядывали из елово-берёзовых перелесков на редко проезжающих путников. Губернатором этого обширного края был в то время боярин Осип Щербатов из старинного рода князей Щербатовых.
Пристав, что привёз томскому губернатору большую партию крупы из Центральной России и несколько ссыльных, рассказал подноготную о каждом ссыльном. Князя Щербатова очень уж заинтересовала богатая приключениями биография нового ссыльного, бывшего командира греческой роты Большого Московского полка, ротмистра Юрия Иванова-Трапезундского. Он прикинул в уме и так, и эдак, и посчитал, что лучшего подручного ему не найти. Побеседовал с бывшим ротмистром, да и поставил московского пройдоху начальником отряда заготовителей, то-есть, практически главным сборщиком ясака с местного населения, сибирских охотников за пушным зверем, по сути, запустил хитрого лиса в курятник.
–– Ты учти, Юрий, – наставлял Щербатов своего нового сотрудника, – отсюда до Москвы как до Бога. Вот ты сколь сюды ехал? Почитай полтора месяца и это на конях, а ежли пешком? О-о-о…, – взвыл он, – год на это у тебя бы ушёл, да и то – это примерно, а, скорей всего, больше. Так что я в этих краях хозяин, я же и судья, и миловать, аль наказать кого-либо один я решаю. Так что мотай на ус, казак: будешь со мной в дружбе, будешь как сыр в масле, а ежли что не так, то от тебя даже пепла не сыщут, да и искать-то никто не будет.
–– Да я, батюшка, только дружбы и ищу, – тут же подольстился Юрий.
–– Вот и хорошо, казак, – улыбнулся в широкую бороду губернатор. – Будешь сбирать ясак у здешних инородцев для казны государевой. Знаю, воровать ведь будешь?
Трапезундский сразу смекнул – губернатор ищет ловкого подручного, который не языком чешет, а дела тайные проворачивает и тут надо не прогадать, свой интерес соблюсти.
–– Ну, не без этого, аще честно, батюшко! – заговорил Трапезундский. – Но на копейку украду, тако на рупь прибыли в твою казну доставлю, мне-то за работу эту скандальную тоже ведь что-то иметь надо.
Губернатор одобрительно посмотрел на подчинённого, ему понравилось, что тот сразу честно заговорил о личном кармане, о компенсации.
–– Пушное золото, казак, – начал разъяснять Щербатов, – мы отправляем санным путём ближе к весне, пока ещё лёд крепкий на реках, а насчет заработка своего есть другой путь – это надо ехать на юг вдоль Оби, в верховья до Барнаула, где пасут своих овечек джунгары и кыргызы, – вот там, казак, и проходит Великий Шёлковый путь, где китайские торговцы везут разные товары в Москву и дальше, в Европу – ткани шёлковые, хлопчатые, чай, сахар, пряности разные, да много чего. Так вот за наш товар, пушнину, они заплатят золотом и серебром – вот и мотай на ус, парень, как можно заработать, но, чтоб ущерба государевой казне не было.
–– Всё понял, батюшка! – повеселел хитрец Трапезундский, почуявший золотую жилу. – Буду стараться сколь сил есть.
–– Да уж вижу! – посуровел губернатор. – Иди, старайся, а кто будет мешать государеву казну наполнять, мне докладывай, мы того живо в бараний рог свернём, в порошок сотрём. Вопросы есть?
–– Есть, батюшка, Осип Иванович!
–– Задавай, растолкую покуда глупостей не натворил.
–– Да вот интересуюсь, а ежли ясачные люди сверх положенного что-то принесут? Какая у них корысть?
–– Хороший вопрос! – усмехнулся Щербатов. – Они «огненную воду» любят – вот тут и торгуйся с ними, свою выгоду ищи.
–– Водку-самогонку ещё сделать надо, – рассудил Трапезундский, – а это зерно и сахар, да и самому-то этим делом заниматься некогда будет, коли я в разъездах по ясачным делам, значит человека к этому делу надо будет приставить, а ему платить надо, накладно получается.
–– Чего ж тут накладного-то? – удивился губернатор. – За чекушку самогонки тебе здешний охотник соболя или норку сам вручит, а китайский торговец за этого же соболя, там, в Барнауле, тебе два, а то и три кувшина первоклассной водки даст, каждый кувшин по ведру, да окромя водки три-четыре серебренных полтин предложит – вот и соображай, деньги брать или водку, а надо вывернуться: и то, и другое взять. Меховой рухляди здешний народец тебе за водку больше принесёт нежели за деньгу, а пушнину ты уж за твёрдую деньгу продашь, но это ту, что неучтена будет.
–– Пожалуй, надо брать и то, и другое, – как-то неопределённо заметил Трапезундский.
–– Начнёшь работать, разберёшься, казак, – растолковывал Щербатов. – Только учти, к народу здешнему надо на мягких лапах, нахрапом с людей много не возьмёшь, зубы быстро обломаешь. Здесь крепостных нет, здесь вольна Сибирь, каждый сам себе хозяин, а просторы таки, что уйдёт человек в тайгу и поминай как звали, больше не увидишь, а он себе за сотни километров отсюда новое место обитания обустроит, да и будет жить себе припеваючи и на любую власть он плюёт, потому как твёрдо знает, что при таких просторах не достать его, руки коротки.
Задумался Трапезундский, но не о гигантских сибирских просторах. Самое трудное для него определиться, сколько же платить надо самому губернатору. Набравшись наглости, спросил прямо:
–– Тебе-то, батюшко, сколь с доходов левых платить?
Губернатор не заставил долго ждать, посверлил пройдоху тяжёлым взглядом, ответил жёстко:
–– Две трети! – сказал как отрубил.
–– Хм! Однако… – буркнул Трапезундский.
–– Да ты не хмыкай, казак, – с усмешкой бросил Щербатый. – Я ведь вижу, что ты ворон тот ещё. Когда начнёшь работать, сам увидишь, что дна в этом деле нету, а кто тебя прикрывать будет как не я. Сам знаешь – люди завистливы, на пакости всяки способны. Иди, казак, работай и будь в надёже, я любому рот-от заткну, тут все мою силу чуют…
*****
Недалеко от крепости река Томь впадает в большую сибирскую реку Обь, а уж сколько в неё впадает рек и таёжных речушек дальше, так и без счёту. За три месяца короткого сибирского лета Юрий Иванович со своей командой прошёл на баркасе от Томской крепости по Оби до впадения в неё самого большого притока реки Иртыш, дальше к северу сборщик ясака уж не пошёл, иначе пришлось бы зимовать, где-нибудь на берегу реки среди местных охотников хантов. По пути вдоль реки Трапезундский встречался с ближними и дальними князьками лесных народов хантов и манси, заключал с ними договоры на ясак для государства Российского, угощал князьков и старшин водкой, объяснял, растолковывал местным людям, что теперь не ханы Синей орды, не джунгары степные, здесь хозяева и вообще никто другой, а могучая Россия и она всех защитит. Вообще-то, многие главы здешних родов и так хорошо знали кому они ясак свой, налог подушный, платят.
И Юрий Иванович знал, что зимой, когда лёд на реке встанет, в Томск на оленьих упряжках прикатят все, кому нужен чай, сахар, мука, пшено и ткани, и особенно водка, охотники местные привезут мехов дорогих столько, что большой губернаторский сарай будет заполнен доверху. Но это ближние, местные, а к дальним охотникам и добытчикам пушнины надо было ехать многие вёрсты на восток и север самому, с ночёвками у родников, с кострами. Трапезундский в этих походах местных царьков и предводителей родов спаивал водкой, действовал лестью и уговорами, а где и прямо указывал старшинам на разорение от близкого на юге Джунгарского ханства, пугал их бесчинствами. Предводители лесных народов, выпив «огненной воды», водки, от такого бойкого тойона (начальника) из Томска-города откупались большими партиями дорогих мехов, которые в конечном итоге оказывались в Европе, принося в царскую казну России немалый доход.
Обычно в начале марта всё пушное добро везли в Тобольск, сдавать его по описи представителю Сибирского приказа. И ведь понятно, что не всё добро увозил в Тобольск Юрий Иванович Трапезундский. Часть этого мехового богатства, с ведома томского губернатора, боярина Осипа Щербатова, томскими счетоводами не учитывалась, потому что утаивалась, и внушительную часть эту, да можно сказать половину, пройдоха Трапезундский вёз по зимнику аж до Кузнецкого острога и даже южнее, да и сбагривал это пушное золото китайским и джунгарским торговцам за очень хорошие деньги и водку, да кой-чего из приобретённого товара у заграничных торговцев опытный проходимец Юрий-Георгий умудрялся утаивать даже от подручных губернатора Осипа Щербатова.
Нечего ему, Щербатову, знать, что в хозяйстве Юрия Трапезундского творится, много будет знать – последние зубы выпадут. А скопилось на подворье у Юрия Ивановича, да и в сундуках с замками хитрыми, много чего дорогого кроме золотых китайских тугриков и серебряных московских рублей. Пришлось даже свою винокурню устроить, водки много требовалось и вовсе не для граждан Томской крепости, а для дальних хантов-охотников, для таёжных жителей, енисейских кыргызов и тунгусов, этих главных добытчиков меховой рухляди, которые везли и несли дорогое таёжное добро на подворье Юрия Трапезундского и зимой, и даже летом. Кстати, водку и горожане покупали, но большая её часть, всё-таки шла лесным жителям, так выгоднее.
Вообще-то в городе потребителей алкогольной продукции было маловато. Казакам пьянствовать некогда, они всё время в разъездах, многие несли государеву службу по охране границы, другие, сопровождали и охраняли от грабителей хлебные и пушные караваны, третьи, малыми отрядами и артелями помогали собирать ясак с дальних народов, что жили по Оби, Чулыму, Енисею и его притокам. Были среди казаков и семейные, у которых своё хозяйство, а потому коротким, но жарким летом надо торопиться заготовить корма для своего скота, дрова для печек в долгие сибирские зимы. А ещё томским казакам надо содержать крепостную Троицкую церковь, Бога, всё-таки, не забывали новые сибирские жители. Настоятель, старый отец Серафим, как-то столкнувшись с Юрием Трапезундским на улице, выговорил ему укоризну:
–– Кончай спаивать инородцев, сын мой! – заявил отец Серафим, привычно перекрестив высокомерного пройдоху. – Грех ведь!
Ловкачу Трапезундскому за словом в карман лезть не надо, а потому он, покорно согнув шею, и, притворно опустив голову, сиротливо заговорил:
–– Да я, батюшка, насильно никому водку в рот не сую и даже не предлагаю, сами просят, а я человек по натуре добрый и отказать никому не в силах.
–– Не лукавствуй, сын мой, не греши, – строго увещевал настоятель. – Инородцы шкурами, пушниной с тобой рассчитываются за водку ту, а потом под заборами городскими валяются, да ладно летом, а зимой ведь замёрзнуть недолго. Я же со старостой церковным хожу вечером, да пьяных инородцев из сугробов снежных вынимаю, да в церковь тащу отогреться, дабы не околели совсем рабы Божьи.
–– Да они ж язычники, отец Серафим! Им наш Бог до фени.
–– Не бери грех на душу, сын мой! Божьи твари они, да и многие из них в вере православной пребывают. Они же что дети, к твоему угощеньицу сатанинскому быстро привыкают, подумай, какой из пьяницы, работник, какой для семьи своей он добытчик?
Голос у Трапезундского моментально окреп, он жёстко бросил:
–– Ты бы, отец святой, занимался церковными делами, беседовал бы со святыми угодниками, да не лез в дела наши, мирские.
Только Юрий Иванович не на того напал, настоятель тоже из сибиряков, характер крепкий, собой понукать не даст.
–– А я здесь и поставлен Тобольской епархией, сын мой, – твёрдо произнёс священник, – дабы следить за всеми за вами грешниками и не дать упасть ни одному из вас, хоша бы и тому же инородцу, да указать вам на заблуждения ваши, а инородцу осветить путь истинной.
–– Ты меня хоть раз пьяным видел, отец Серафим? – окрысился Трапезундский.
–– То, что ты не лакаешь зелье это сатанинское похвально, сын мой, – заметил настоятель. – Но ты служишь золотому тельцу и зелье сатанинское тебе в этом помочь оказывает, корысть тебя, жадность обуяла, мамону свою всё набиваешь, кормишь её, в этом грех твой и заблуждение вижу. Егда прозреешь-то, грешник? Протри буркала-то, блеском злата охмурённые, глянь на мир очами светлыми, по-иному и мир, и людей узришь.