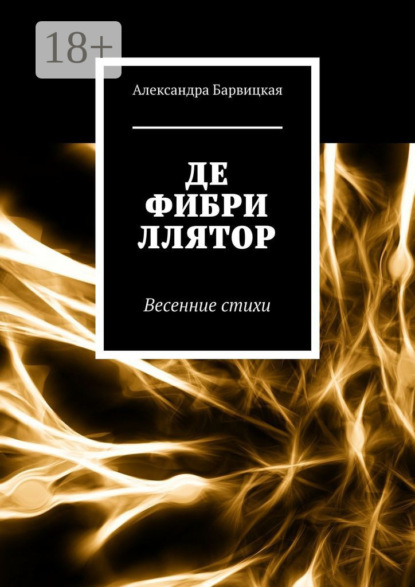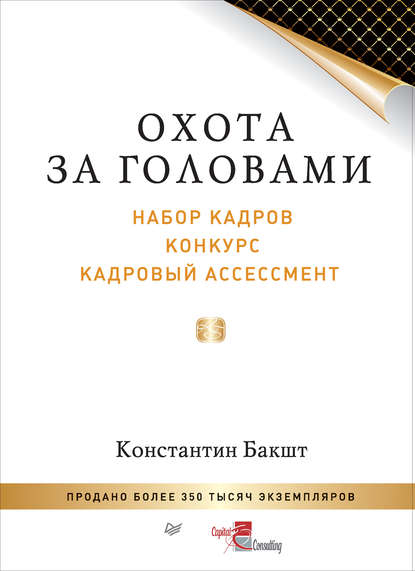Остерегайся своих желаний
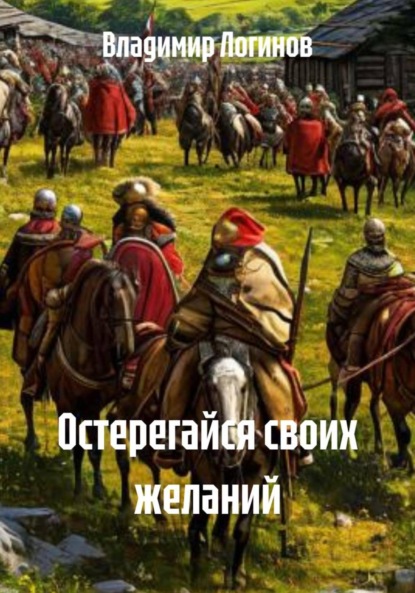
- -
- 100%
- +

Как будто спичкой чиркнули в бараке,
Сверкнула жизнь – без дыма, без огня:
Его любили только злобные собаки,
В кармане часто не было рубля.
Ю. Колесников
Глава 1. ОТЦЫ И ДЕТИ
Иван Петрович Дикий ожидал приезда дочери. Московский поезд приходил утром, и, чтобы не маяться нудным ожиданием в квартире, он вышел во двор своей пятиэтажки, где и воздух чище, люди ходят, синички с воробьями шныряют в поисках чего-нибудь съестного. Одним словом – жизнь, не то, что дома, где без женской руки всё находится в каком-то затхлом, застойном состоянии и это несмотря на то, что чистоту в своей двухкомнатной квартире Иван Петрович соблюдал, привычный порядок ежедневно наводил.
Он присел на одну из обшарпанных дворовых скамеек, медленно обвёл двор каким-то равнодушным взглядом. Уже начало июня, а сирень ещё только зацвела, то-есть чуть ли не на месяц позже. Уральская погода опять показала свой норов: весны, можно сказать, и не было – сразу лето. Март на Южном Урале вообще зимний месяц, а апрель с маем в этом году находились в каком-то застойном состоянии: серое небо, серый снег, а от того и жизнь казалась серой.
Погода на Урале своеобразная: когда циклоны идут со стороны Балтики – это нормально. Они, не спеша, поочерёдно проходят Москву, Поволжье и на Урале сыплют занудными осадками не более двух суток, а, обдав горную страну холодом, уходят в Сибирь и наступает двух-трёхдневный тёплый период с солнышком. Такая цикличность привычна для людей, животных, насекомых и растительного мира. Но часто бывает и так: перестроится погода, и циклоны идут один за другим со стороны севера, с Карского моря, на юг, вдоль Уральского хребта. Естественно сыплют дожди, холодно и такая погода, как правило, длится около месяца, а то и больше. Тут уж о хорошей, бодрой весне говорить не приходится, бывает и лето такое же. Самая лучшая погода весной, само собой и летом, складывается на Урале, когда циклоны, видимо по указке Создателя, спокойно и лениво идут вдоль северного побережья России, по южным оконечностям северных морей. Цепь этих, не спеша ползущих циклонов, непреодолимым барьером защищает уральскую местность от холодов. Погода – чудо. Тепло приходит уже в апреле с юга, вегетация растительного мира начинается как обычно, по классическому порядку и всё бурно лезет из земли, торопится распуститься, быстро зеленеет, теплу радуется.
В этом году, видимо, на Южном Урале погодные условия сложились по самому наихудшему варианту: циклоны вдоль хребта ползли с севера и вовсе не думали менять направление. Но вот, вдруг, привычная циклоническая деятельность по какой-то причине нарушилась, задул южный ветер и при резком потеплении интенсивное таяние снега, наконец, началось в конце мая. Наступивший июнь, вобрав в себя весенние отголоски, поспешил показать силу уральского лета. Тополя с берёзами и черёмухой, будто очнувшись, заторопились, сразу оделись в зелёную вуаль. Предлетье сократилось до одной недели. Небо заголубело, и яростное солнце, хоть и с запозданием, мигом высушило всё вокруг, а с появлением зелени и долгожданного тепла стало и на душе веселей, с лиц прохожих исчезла хмурость, появились улыбки, особенно у женщин.
Собаки Ивана Петровича не любили. Где бы не встретился ему какой-нибудь пёс, будь то с хозяином или просто приблудный, так обязательно облает. То ли чувствовали животины, что инженер не от мира сего, а, может, просто здоровались, по-своему, по-собачьи, кто знает. Иван Петрович, в отличие от некоторых своих соседей по дому, был убеждён, что собаку в квартире держать не стоит, место пса во дворе частного дома. Возможно, собачий народец это чувствовал, а потому и осуждал инженера своим гавканьем.
Стая воробьёв устроила в позеленевшей кроне большого клёна свой ежегодный весенний симпозиум, звонко гомоня на весь двор, видимо делили места гнездований. Голуби тоже не теряли времени, громко ворковали, ухаживая за молчаливыми голубками. Начались школьные каникулы, и ребятня с весёлыми возгласами гоняла по двору мяч, а молодые мамаши, пользуясь хорошей погодой, выкатили из подъездов свои коляски с детьми.
Вот только хорошая погода инженера Дикого не радовала. Иван Петрович, глядя на всю эту дворовую суету пустыми глазами, погрузился в ворох своих мрачных мыслей и воспоминаний. Уже год как он был на пенсии, но заслуженным такой отдых не считал, адаптироваться к пенсионной жизни не мог, да и не хотел, обижался на своих руководителей за то, что не дали ещё поработать, хотя был в силе и всё ещё обладал ясным умом и цепкой памятью. На заводе был на хорошем счету, чего, казалось бы, вытолкали-то? Его, ведущего инженера-рационализатора, опытного специалиста с почти сорокалетним стажем, сократили, даже толком и не поговорив с ним. Получилось как-то глупо: кругом во всём многообразии кипит жизнь, а он стал каким-то сторонним наблюдателем. Чувствовал Иван Петрович себя на обочине жизни, отработанным материалом, никому не нужным, на душе было пакостно, а потому всё его раздражало.
Дома он старался занять себя работой, всякой бытовой мелочёвкой. Вроде бы отвлекало от мрачных мыслей, но как-то слабо. Мало того, коли, уж появилось много свободного времени, Иван Петрович разработал проектную документацию по использованию малогабаритных вакуумных камер для гальванического покрытия изделий. Этот метод давал огромную экономию дорогостоящих материалов, таких как кадмий, кобальт, серебро и палладий. Надо бы внедрить в производство, но на родном заводе отмахнулись, мол, без разрешения профильного министерства нельзя. Иван посылал запросы в Москву, в министерство, в различные инстанции и комитеты, но чиновники отмалчивались. Иногда из столицы приходили какие-то маловразумительные отписки, мол, не представляется возможным. «Не представляется им! – злился он. – Какой только «уникум» придумал такую издевательскую формулировку?»
Инженер Дикий принадлежал к категории серого большинства. Такие люди, как правило, в элиту общества пробиваться не стремятся, хотя дорастают иногда до постов директоров заводов и даже крупных компаний. Характер у них не пробивной, не авантюрный; наука, производство, творчество для них важнее, чем какие-то там властные полномочия, карьера. В элиту довольно часто попадают по воле случая, ну а уж попав в ряды властных структур даже, казалось бы, серый человек, вдруг, становится личностью, его сознание изменяется, из каких-то глубин всплывают волевые начала, характер перестраивается, быстро приобретая командные качества. А если не перестроился, быстро сдулся, то такого мигом отодвинут, засунут куда-нибудь мелким помощником, элиту ведь тоже надо обслуживать.
Давно подмечено, что серые, ничем непримечательные люди, особенно на периферии, став чиновниками, преображаются: быстро наедают толстые физиономии, отращивают брюхо для солидности, приобретают дорогое авто за государственный, естественно, счёт и, прикрывшись модным костюмом, напускают на себя важный вид. Но к истинной элите они не имеют никакого отношения – ума у них нет, зато гонору и самомнения хоть отбавляй. Иван Петрович был убеждён, что элитный человек, особенно тот, что при власти, уважает, прежде всего, простого трудягу и общество в целом, а уж только потом себя – это государственник, таких мало. Но чаще бывает наоборот и тогда страна вступает в период обскурации, находится в застое, пока не сменится властная элита, у которой несколько иное мировоззрение, базирующееся на общечеловеческих ценностях и понимания огромного значения именно серого большинства в строительстве мощного, независимого государства.
Кто-кто, а уж новоиспечённый пенсионер Дикий отлично понимал, что это большинство только на поверхностный взгляд, в общей массе, кажется серым. Каждый в отдельности – это в какой-то степени личность. Постоянно занятые в материальном производстве, в науке, в искусстве, все эти люди являются становым хребтом любой страны, только вот интеллект их используется недостаточно, что явно указывает на слабость государственных механизмов.
Иван Петрович человеком был обычным, стандартным даже по характеру, и внешне выглядел каким-то полустёртым медяком, но так только казалось на первый взгляд стороннему человеку. В юности он мечтал быть врачом, но жизнь вещь сложная, противоречивая, мечты чаще всего не сбываются и вместо медицинского института молодой человек поступил в политехнический. Профессию машиностроителя полюбил, учился с охотой. Уже работая на заводе, молодой специалист получил к тридцати годам квартиру, да вот как-то поздновато женился. Не зря видно народная поговорка гласит, что сопливых вовремя целуют. Большое расхождение в возрасте между мужчиной и женщиной чаще всего имеет какие-нибудь негативные последствия.
Жена Алла была моложе мужа на десять лет и долго не желала иметь детей, всё ей хотелось пожить для себя, но Иван всё-таки настоял, и, наконец, появилась дочь. Постоянно занятый на производстве он всё-таки для дочки время находил: читал ей детские книжки, покупал кукол и кукольную мебель, а в выходные обязательно водил ребёнка на разные выставки, в краеведческий музей, в парк, на детские спектакли в театр. Мелкие, казалось бы, события детских лет хорошо укореняются в памяти ребёнка, а потому кто был в это время ближе, тот и становился роднее. Для Светланы отец был ближе. Мать чаще командовала, распоряжалась, а отец просто брал дочь за руку, да и вёл гулять во двор на качели или в тот же парк на детские аттракционы.
Иван, поглядывая иной раз на жену, ловил себя на мысли: почему эффектная красавица выбрала именно его, ничем не примечательного парня? Опасался: как бы чего не вышло, а оно возьми, да и случись. Дочь выросла, поступила на строительный факультет архитектурного института, а мать, избавившись от мнимой опеки над ребёнком, и не потерявшая ещё красоту, в сорок с небольшим лет, вдруг, взбрыкнула: сбежала из дома, оставив мужу извинительную записку. Доброхоты тут же охотно сообщили Ивану, что Алла сумела обольстить, якобы, заезжего столичного певца, стандартного орателя пошлых шлягеров, да и уехала с ним. Ну, прямо как в дешёвом классическом водевиле. Иван Петрович её понимал: надоела ей вся эта серая однообразная рутина жизни в промышленном городе, да, видимо, и он сам. Понимал, а всё же неприятный осадок на душе остался, и время от времени свербил, чесался и покалывал словно репей, попавший невзначай за пазуху. Виноватым себя считал, маялся от мысли, что от хорошего мужа жёны не сбегают, так ведь, не без оснований, люди говорят. Подкаблучником Иван не был, но жене её капризы прощал. Известно ведь, красивые женщины силу свою чувствуют, а мужья им не противоречат, потому что любят, а ребёнок-то в семье всё видит, запоминает…
После исчезновения жены Иван Петрович, с детства привыкший к самостоятельности, жил один, новую хозяйку в свой дом не искал, к женщинам относился с подозрением, в каждой видел, почему-то, корыстную душу, в искренние чувства с их стороны не верил. Ещё, когда в страну пришёл рынок Алла постоянно надоедала молодому ещё мужу, чтобы он бросил свою малодоходную работу на заводе, да, по примеру многих занялся предпринимательством. Иван отмалчивался, понимал, что это дело требует от человека особых качеств характера, здесь нужен тот ещё талант. Надо быть изворотливым, наглым, надо, как шахматисту просчитывать каждый свой ход, вовремя принимать решение, уметь с улыбкой обманывать людей. Он таким даром не обладал. А работу свою он любил, вкладывал в неё душу, часто задерживался на заводе, да вот недооценили. Ну, что ж поделаешь – рынок. Вспомнили управленцы про рентабельность, экономить стали на всём: на воде, на электроэнергии, на материалах, но особенно на людях…
Когда дочь позвонила и сообщила что приедет, Иван Петрович обрадовался и надел костюм с галстуком. Всё-таки единственная родная душа, надо встретить достойно. Одно вот только его коробило: дочь не по специальности работает, хотя строек в Москве много. Опять же доброхоты донесли ему, что дочь зарабатывает хорошую деньгу в модельном бизнесе, да ещё в каком – рекламирует нижнее бельё, да не как-нибудь, а на себе. Отец за голову схватился – вот ведь судьба…
*****
На скамейку молча и осторожно уселся юноша в футболке и затёртых джинсах. Это был соседский мальчишка, который жил с матерью в квартире напротив. Инженер Дикий часто помогал парню по физике и математике. И, вообще, взял негласное шефство над малолетним соседом, коли, уж у самого жены нет, дочь далеко, да и взрослая, а он уже восьмой год один. Мать у мальчишки с утра до вечера на работе, присмотреть за парнем некому, родной отец вообще неизвестно где пропал, его никто и не помнил. Таких однобоких семей в России немало, а Иван Петрович малолетнего соседа полюбил, как-то по-отцовски прикипел к нему, да и пацан доверчиво тянулся к доброму, отзывчивому, всёзнающему инженеру.
–– А, это ты, Лёша? – заметил, очнувшись от тяжёлых мыслей, Иван Петрович. – Ну, с окончанием школы тебя!
–– Спасибо, дядь Вань! – охотно откликнулся сосед.
–– А теперь что? Определился с профессией? – поинтересовался инженер.
–– В политех буду поступать! – ответил тот.
–– По моим стопам, стало быть? – поддержал разговор Иван Петрович. – Сейчас ведь молодые всё бизнесменами хотят быть.
–– Не хочу я в торгаши! – заявил парень. – Там людей обманывать надо. Они, торгаши, вон перегрызлись все меж собой, всё чего-то поделить не могут.
–– Да, Лёша! – тепло улыбнулся инженер. – Я с тобой согласен. Профессию по душе надо выбирать, чтобы потом не жалеть. Бизнесмен из тебя, пожалуй, не получится, доверчивый ты, а в бизнесе акулой надо быть. Учись парень, потом будет что вспомнить. Учти, студенческие годы, как бы тяжко не было в бытовом смысле, самые прекрасные. В студенческой среде весело, энергии хоть отбавляй, настоящая демократия…
–– Вообще-то я в армию нацелился, Иван Петрович! – посерьёзнел парень. – Мне же осенью восемнадцать стукнет.
–– Хм! – насупил брови инженер. – Толку от вас одногодичников! Боевая техника в армии сейчас сложная, за год едва ли освоишь. А авиация, а флот? О-о-о! Взять хоть современный танк: там ведь наводчик за пультом сидит, в ствол пушки снаряды автоматически подаются. Из трёх типов снарядов нужно выбирать тот, что необходим в данное мгновение, а определяет расстояние до цели, её тип, защиту, автоматика. Электроникой напичкан танк. Кроме композитной брони машина имеет противоракетную защиту, электромагнитную, да много чего. Скоро боевые машины вообще без экипажей в бой пойдут, оператор будет управлять целым батальоном танков из бункера, из командного пункта, где-нибудь в далёком тылу. Хорошо, если вас, призывников, хоть стрелять научат. Ну, наводчиками, скорей всего, контрактники служат, а ты, механиком-водителем будешь. Гусеничный трактор в школе освоил, права получил, в анкете это указал…. Пожалуй, определённый смысл в призыве молодёжи в современную армию всё же есть. Окунётесь в армейскую жизнь, поймёте, что такое дисциплина, пропитаетесь службой в коллективе, почувствуете мощь государства.
–– Дядя Вань! – вдруг, сменил тему парень. – Вот мы по истории знаем Русь только с девятого века. Рюрик там, Олег Вещий, княгиня Ольга, а что было, например, в первых веках новой эры на этой большой территории, что занимает сейчас Россия? Ведь жили же люди? Почему полная темнота, ничего неизвестно?
Иван Петрович от неожиданности аж согнулся, а, выпрямившись, внимательно посмотрел на мальчишку. Помолчав и собравшись с мыслями, заговорил, тщательно подбирая слова:
–– Любознательный ты парень, молодец! Это хорошо, Лёша, что ты можешь задавать дельные вопросы, только не каждому их можно задать! Думай, сопоставляй, анализируй! Всегда надо добираться до корня – это правильно. Ещё Цицерон говорил, что, мол, тот, кто не интересуется историей своего народа, тот так и будет пребывать в младенчестве. Так что чти и изучай историю, Алексей. В жизни такой подход пригодится, но и осложнит её, зато духовно ты будешь богаче многих, и никакой материальный достаток у других не сравнится с твоим широчайшим мироощущением, ты всегда будешь выше. С высоты этого мироощущения ты будешь снисходительно посматривать на тех, кто в слепоте своей гоняется за длинным рублём, за материальными миражами.
Инженер дружески, по-отцовски, обнял молоденького соседа и продолжил:
–– А по существу вопроса могу сказать следующее: ты ведь знаешь, что царь Пётр в начале восемнадцатого века круто изменил жизнь россиян. Огрел Россию хлыстом преобразований и реформ. Создал академию наук, пригласил иностранных учёных, немцев в основном. Представь себе, из двадцати четырёх академиков русских было всего трое. По распоряжению царя Петра в академию свезли множество старинных документов и иностранцы, изучая наши летописи, много чего узнали о нашей истории. Им не понравилось, что славянские племена, являясь, по сути, конфедеративным государством в те времена, в военно-экономическом отношении были равны Великому Риму и противостояли ему.
–– Государством? В первых веках? – недоверчиво протянул парень.
–– А что такого? – кинулся в разъяснения Иван Петрович. – Известно, что уже в то время была выборная должность великого князя! Существовал военно-политический союз племён, была и экономическая составляющая: торговля, а это деньги, ткани, кожаные, стальные и ювелирные изделия, пушнина, да много чего. Потому и говорю – конфедеративное государство. По договору племена обязаны были поставлять в общую дружину великого князя отряды воинов для отражения неприятеля, а торговые связи сами по себе скрепляли племена. Культура общая: песни, обряды, верования. Кроме того – один язык.
–– А это откуда известно? – пытал инженера дотошный сосед.
–– Язык – это форма мышления, мой друг! Письменные источники откопали наши археологи! – пояснил Иван Петрович. – Наш язык самый древний в мире, потому и сложный, соответственно и письменность появилась раньше, чем у других народов. Согласно дошедшим до нас летописям славяно-скифской цивилизации уже семь с половиной тысяч лет.
–– Странно, у скифов – письменность? – задумчиво произнёс Алексей.
–– А чего тут странного? – добавил инженер. – Скифы и славяне – это одно и то же! Славян называли варварами высокомерные римляне, мой юный друг, а скифами – древние греки ещё со времён Гомера. Между прочим, античные греки установили с этими славянами или скифами довольно плотные торговые связи. Хотя вот арии, более древний народ, являлись прародителями не только славяно-скифов, а и, вообще, всех европейских народов, в том числе тех же греков, и мудрые эллины это знали. Генетически мы, русские, являемся прямыми потомками ариев, это уже доказано нашими археологами, хотя бы уже через древний Аркаим, что расположен в нашей области.
А насчёт письменности, так эта, так называемая кириллица, была у славян задолго до появления на территории Руси Кирилла и Мефодия и называлась она глаголица, от слова глаголить, говорить. Просто эти проповедники Православия изменили древний алфавит на современный. Они создали единую азбуку для обучения славянских детей, чтобы те могли легче осваивать грамоту, читать Библию и нести слово Божие в народ. У той же княгини Ольги уже была библиотека из книг, переведённых с греческого на древнерусский язык. Так что письменность была у славяно-скифов ещё до новой эры. Кстати у них была ещё одна письменность – руническая, которой пользовались грамотные волхвы. Остатки этой загадочной письменности дошли до нас через индийские Веды, которые являются общими для наших народов. Индийцы считают, что их предки пришли с севера около четырёх тысяч лет назад.
–– Неужели!
–– Абсолютно точно!
–– Здорово! – воскликнул юноша. – А русские когда появились?
–– Примерно в это же время, которым ты интересуешься, то-есть в первом веке нашей эры! – пояснил Иван Петрович. – Римляне на протяжении трёх веков воевали с германскими племенами, теснили их к северу и востоку. Одно из древнегерманских племён пришло в район реки Волхов. Это были росы, рыжие, стало быть. Именно из этого племени избирались великие князья, потому что оно было высокоорганизованным, крепко спаянным, воинственным. Вообще-то это тоже славянское племя, просто под давлением обстоятельств пришло с территории Германии, которая ещё долго не была государством. Постепенно имя росы, перешло на всех скифо-славян. Ещё в десятом веке византийцы в своих документах писали – славяно-русы.
–– И откуда ты, дядь Вань, всё знаешь по истории? Ты же технарь! – удивлённо заметил юноша. Выросший в однобокой семье без отцовской опеки, рядом с Иваном Петровичем, мальчишка путался и часто обращался к инженеру доверительно, на ты. Сосед и был парню вместо отца.
О-о, Лёша! – инженер опять обнял мальчишку. – В доме моих родителей висела политическая карта мира и где-то с трёх лет она постоянно была у меня перед глазами. Я всё время натыкался на неё. Ребёнок начинает осваивать мир с раннего детства, да ещё очень здорово, когда его научат читать с этого же возраста. Я изучил эту карту, а география обязательно связана с историей – это аксиома. Кроме того, я читал сказки народов мира, и это подвигло меня читать учебники по истории. Учти, Лёша, любопытство закладывается в человека с самого раннего детства. Родителям нужно только вовремя подсунуть что-то любопытное из области знаний. Ну, а потом мои преподаватели были старого закала, образованнейшими людьми, эрудитами. Кроме своего спецпредмета обладали широчайшими знаниями по другим предметам, владели иностранными языками, великолепно играли на музыкальных инструментах.
–– Вот потому ты латынь знаешь лучше любого врача! – сделал вывод парень. – Зачем он тебе? Кроме медицины его и применить-то негде. Время ведь нужно для изучения.
–– Ну, так что? Живу-то один! – успокоил соседа Иван Петрович. – Ну, а латынь просто так, мне нравится этот язык Великого Рима.
–– А ещё, какие языки знаешь, дядь Вань?
–– Греческий, тюркский, немного арабский!
–– Это ж уйму времени надо на изучение? – удивился парень.
–– Память у меня хорошая! – улыбнулся инженер. – Иногда у меня ощущение, Лёша, что я из тех времён, просто кто-то могущественный взял да и перенёс меня в эту эпоху.
–– Как это? – обомлел сосед.
–– Ну, чьё-то сознание перекочевало в наше время, вселилось в меня! – пояснил Иван Петрович и весело хохотнул.
Мальчишка кивнул головой и, вдруг, с юношеской бестактностью, по-максималистски, задал весьма неприятный вопрос инженеру:
–– Дядь Вань, а почему тебя тётя Алла предала? Ты такой добрый, много знаешь, всякий там ремонт в квартире сам делал, со Светкой всегда гулял, по паркам-музеям её водил.
Иван Петрович нахмурился, слегка помрачнел, более взрослого послал бы куда подальше, а тут юнец, об ухабах жизни ничего не знает. Надо как-то ответить, а как? Надо правдиво объяснить ситуацию, кривить, изворачиваться нельзя, ложь обязательно приведёт к трагедии. Чего доброго заложишь в душу мальчишки искажённое понимание отношений между мужчиной и женщиной, а в жизни чего только не бывает, и будет он, в случае чего, жить с обидой на весь свет. Ой, как непросто всё – вот задача с сотнями неизвестных?
–– Понимаешь, Лёша! – медленно заговорил, тщательно подбирая слова, инженер. – Жизнь, она вся состоит из противоречий, и человек тоже, и поступки его часто бывают, противоречивы, тут надо характер иметь. Чтобы не запутаться в них, надо иметь соответствующее эпохе правильное воспитание. У женщин эмоциональная сторона психики, в отличие от мужской, превалирует над интеллектуальной. Они в большинстве своём страстями живут. Вот преподнеси мужчине букет цветов, он к этому равнодушно отнесётся, а у женщины душа радуется. Тётя Алла человек взрывной, эмоциональный, простые рабочие будни надломили её душу, надоела ей вся эта невзрачная рабочая жизнь. Она, жизнь эта, показалась ей серой до невозможности, хоть кричи, всё равно никто не услышит. Я вовремя не услышал, сам виноват.
Про себя инженер подумал: «Были бы у неё, у дуры, ещё дети, так некогда было бы любиться на стороне, молодых мужиков соблазнять, своего мужа на кого-то менять».
–– У неё не было хорошей интересной работы, Лёша, – продолжил Иван Петрович, – такой работы, которая поглотила бы её целиком. В работе человек находит душевное равновесие, она увлекает, затягивает в себя, сынок. Человек и создан Высшим Разумом, Творцом, именно для труда, который совершенствует интеллект, а тот в свою очередь силой мысли раздвигает горизонт миропонимания. Через труд и мышление человек познаёт мир во всей своей сложности, и мир перестаёт быть для него таким уж враждебным. А ещё добавлю, сынок, когда мужчина и женщина живут, душа в душу, то по жизни и шагать легче, веселей, они друг друга поддерживают, подправляют. Отношения меж людьми на доверии строятся, Лёша, а иначе жизнь – каторга…