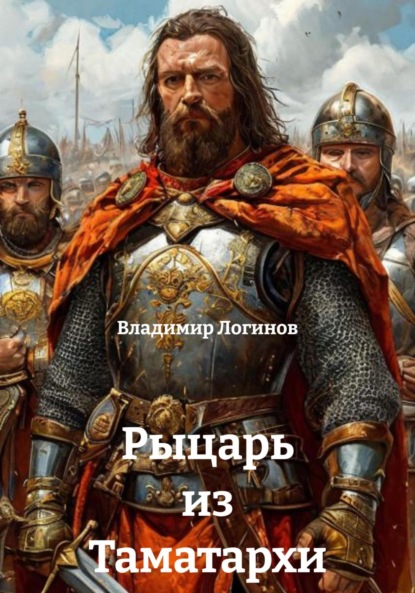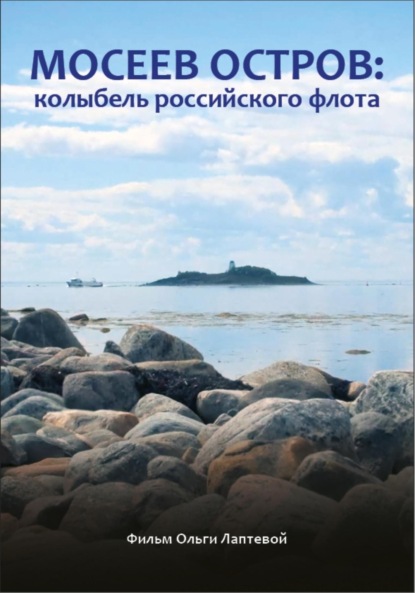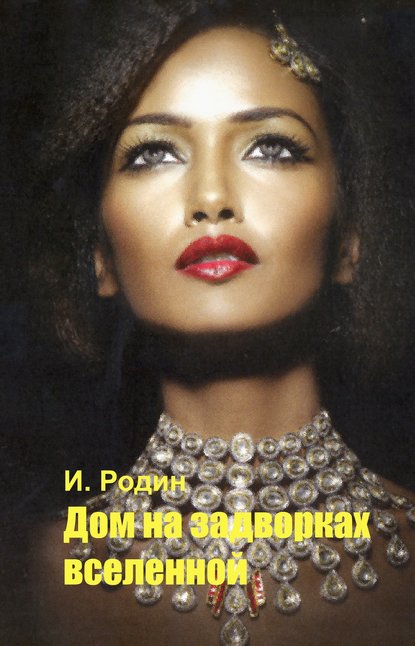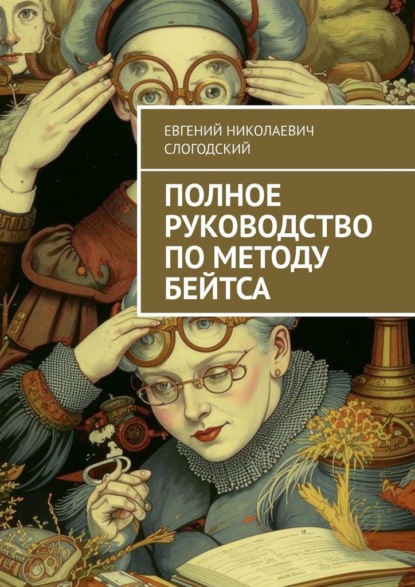- -
- 100%
- +
На первый взгляд здесь проживала одна нищета, но так только казалось. За этими неказистыми домами виднелись довольно обширные загоны для скота, окружённые невысокими дувалами из глины или дерева, а это уже наводило на мысль, что здесь живут далеко не бедняки, если учесть, что овечье стадо из ста голов, к осени утраивалось. Выше села небольшие поляны, засеяны житом, а кое-где виднелись виноградники. Наступал вечер, блеяние овец и мычание коров, вернувшихся с пастбища, говорило о том, что жители в этом горном ауле вовсе не нищенствуют.
Отряд Мстислава, как обычно, устроил себе уртон на берегу речки, протекавшей ниже селения. Князь велел купить несколько баранов на ужин, что вызвало у жителей удивление; они-то знали, что военные люди на деньгу скупы, зато на плети щедры. Несмотря на то, что аул находился далеко от дорог ведущих в Грузию, видно и в эту глухомань иногда заглядывали любители баранины с плетями и саблями.
Дружинники развели несколько костров, заварили себе просяную кашу со свежей бараниной и, поужинав, кайфовали, попивая чай, заваренный кипреем, розовые метёлки которого торчали во множестве по берегу речки.
– Слушай, Давид! – обратился князь по-гречески к своему помощнику. – А что это за могильники из огромных каменных плит, в тысячу пудов весом, о которых мне рассказал сын главы этого аула Сосланбек? Для людей ведь эти камни неподъёмны? Как же можно было их соорудить? Это какую силу надо иметь?
– Да кто их знает, Мстислав! Я где-то читал, кажется в хрониках Прокопия Кесарийского сказано, что Кавказ очень древняя земля, и ещё задолго до сарматов здесь обитали могучие великаны, которые обладали великими знаниями. Скорей всего это не могильники, а какие-то накопители энергии, а для чего – скрыто в веках.
– Давай, сходим, осмотрим! – проявляя любопытство, предложил князь. – Вон они там, на холме, за лесом! Это так Сосланбек объяснил, только предупредил, что люди туда не ходят, якобы место проклятое!
– Ну, можно и подняться туда, завтра с утра! – быстро согласился Давид.
– Только пойдём пешком, – добавил Мстислав, – ноги разомнём, а то всё в седле, устал я от него.
Утро наступало тихо, незаметно и неотвратимо. Из ущелья, где брала своё начало местная речка, белесым драконом наползал туман. Изредка кое-где пофыркивали дружинные кони, пощипывая между деревьями, свежую лесную траву на косогоре. Дружинники ещё спали и только трое караульных сидели вокруг слабо дымящего костра. Прихлёбывая утренний, травяной чай из фаянсовых пиалок, они тихо о чём-то переговаривались. Давид с князем, не поднимая шума, налегке, в одних рубахах, тихо ушли. Караульные не обратили на это внимания, мало ли, может по малой нужде люди отошли в заросли карагача.
Двое путников около часа пробирались по девственному лесу. Давид предупредил князя:
– У нас хоть и добрые ножи, Мстислав, но будь осторожен! Видишь кабанья тропа, выскочит секач, и не успеешь увернуться, в момент ногу распорет до кости!
– Да я чую, Давид! Кстати не мешало бы такого хряка завалить на обед. Между прочим, хазары считают кабана своим предком, и охотиться на диких свиней у них запрещено, и не только своим людям, но и другим народам. Если такого охотника уличат за таким занятием, – убьют без всяких оправданий, и принесут в жертву богу свиней, Великому Кабану. Только у меня, в дружине, на этот раз хазар нет, только русы и касоги, а они свинину съедят за милую душу! Ха-ха-ха! – развеселился князь. – Должен тебе сказать, Давид: печенеги потому и не лезут на мой удел, что тоже считают кабана своим предком, а хазар своей роднёй…
Кабанья тропа протянулась к оврагу, откуда по камешкам, с журчанием, вытекал ручей, из которого, по-видимому, и пили лесные свиньи. Сам же овраг сплошь зарос орешником.
– Думаю надо подниматься по краю оврага! – заметил Давид.
Путники долго поднимались вдоль оврага, который закончился родничком с чистейшей водой, которая, как-то необычно звеня по камешкам, стекала в овраг. Возле родника росла огромная ель, и, по-видимому, вода накапливалась где-то в глубине, под её корнями. Часть этих узловатых корней была водой размыта. Казалось, что они, эти мокрые корни, с жадностью тянулись, к наклонившимся напиться путникам, и выглядели они какими-то уродливыми, ведьмиными пальцами, норовя ухватить их за волосья, что им иногда даже и удавалось.
Выше, в пяти саженях по склону, уже на возвышенности, раскинул свою гигантскую крону дуб такой толщины в комле, что трое воинов едва ли смогли бы обхватить его. И, кто его знает, может, крона этого дерева ещё в стародавние времена укрывала от дневной жары гоплитов Александра Македонского, а может, ещё раньше, и герои Эллады, которые прибыли в эти места за Золотым руном, прятались под сенью его листвы от яростных лучей полдневного солнца. Во всяком случае, дуб был явным долгожителем, но выглядел, по сравнению с другими деревьями, ещё очень бодрым стариком. Недалеко от него, саженях в пяти, расположилась стайка молодых липочек, и выглядели они какими-то легкомысленными и весёлыми, двоюродными внучатами возле этого могучего дуба.
Возвышенность, на которую поднялись Мстислав и Давид, была безлесной, если не считать трёх лиственниц и мелких кустиков верболозы на всём этом большом и довольно выпуклом холме. Ветви лиственниц шевелились от свободно гуляющего здесь ветра, а сами деревья выглядели одинокими, заброшенными и никому не нужными. Всё здесь выглядело как-то первозданно: чувствовалось, что сюда не то, что домашний, дикий-то скот, в виде зубров и косуль, никогда не заходил; видно было, что богатый травяной покров сохранился нетронутым.
Утреннее солнышко выглянуло из-за боковой части дубовой кроны и его лучи окрасили листву в цвет старой меди. С высоты холма купы деревьев снизу наплывали сине-зелёными волнами, и казалось, что эта возвышенность просто островок, затерявшийся в морской пустыне. Горизонт был затянут сизо-пепельной дымкой и только на юге из этой пелены, затянувшей горные хребты, виднелся далёкий Эльбрус. Казалось, что это проснулся и встал на ноги горный дух Кавказа, великий Каструк в белой бурке, на которую розовыми валёрами нежно легли солнечные персты.
– Какое прекрасное утро, Давид! – воскликнул князь по-гречески, раскинув руки и пытаясь обнять всё, что видел перед собою.
Возле одной из лиственниц торчал из земли одинокий менгир. Плоский, толщиной в локоть, параллелепипед, был более сажени в высоту и явно обработан в далёкой древности каким-то мастером, хотя углы и рёбра его были уже сглажены неумолимым временем. Земная твердь, как толстая кожа гигантского живого существа, незримо для человеческого глаза медленно двигалась во временном поле. По-видимому, она, эта кожа, иногда вздрагивала, создавая землетрясения, – вот потому эта тяжёлая каменная чешуйка и сидела в почве косо, а на его передней, когда-то отшлифованной плоскости, чья-то мудрая рука, в далёком далеке, специально начертала какие-то знаки, похожие на рунические. Может быть совет, а может предостережение потомкам – кто знает? Князь с каким-то благоговением пощупал их пальцами.
– Не трогал бы ты здесь ничего, Мстислав! – насторожённо заговорил Давид.
– А что должно случиться? – приглушённым голосом откликнулся князь.
– Да кто ж его знает! Тут всё сплошная загадка! Не зря же здешние горцы обходят эти места стороной! Пошли вон к тому сооружению!
Дольмен, к которому они подошли, поразил Мстислава внушительностью своих плит, как будто кто-то огромный сложил из тысячепудовых, ошлифованных, плоских камней домик. Передняя плита имела круглое отверстие, в которое свободно мог пролезть человек. Князь, не заметив предостерегающего жеста Давида, полез туда. Внутри никаких костяков он не обнаружил, наоборот, было сухо, даже чисто. Растянувшись во весь свой рост, глядя в каменный потолок, князь полежал, закинув руки под голову. Но вот какое-то странное, никогда раньше не испытываемое им ощущение охватило его. Вот показалось, да нет, куда там, вовсе не показалось: перед ним, вдруг, возникли из ничего, из пустоты, чётко, ясно, красивые, одухотворённые, человеческие лица. Какие проницательные и красивые глаза на этих лицах? Они пронзали, проникали куда-то внутрь, в душу, прощупывали все её закоулки. От этого всепроникающего взора Мстиславу поначалу стало как-то нехорошо, а через мгновение, легко на душе, зато какое-то напряжение, медленно растущее откуда-то из глубины, из селезёнки, постепенно захватывало всё его существо. Вот лица куда-то отступили и Мстислав увидел горящие многоэтажные дома, рушащиеся города, людей с безумными глазами и разинутыми ртами, в которых застыл последний крик, а над всем этим как карающий меч – вспышка ярчайшего света. «Господи, – подумал Мстислав, – уж не в преисподней ли я?». Послышался голос, произнёсший всего одно слово, а может это и не голос вовсе, так, короткая мысль, означающая что-то и внедрившаяся в сознание. А уже через мгновение Мстислав летел куда-то в бархатную черноту вселенной, к далёким звёздам, а некоторые, ближайшие, яростно испуская нестерпимый свет, проплывали мимо, и конца этому движению всё не было. Но вот перед его взором снова возникли глаза: огромные, прекрасные, зовущие куда-то, и были это… глаза Дарико. Но вот в сознание Мстислава вторгся какой-то безмерно далёкий голос, который звал и звал его по имени. Наконец князь осознал и услышал этот голос:
– Мстислав! Мстислав! Да ты что уснул, что ли там? Вылазь! – слышался голос Давида.
Князь вылез и, уставившись на друга какими-то осовевшими глазами, воскликнул:
– Там, внутри, огромный мир! Он прекрасен и страшен, и он разрушен не то людьми, не то богами! Он, этот удивительный мир, был, и его уже нет! А что такое Брахмастра? Ты у нас человек учёный, растолкуй! Я услышал это слово там! – князь повёл рукой в сторону черневшего отверстия дольмена.
Давид обеспокоено посмотрел на Мстислава, медленно заговорил:
– Я читал где-то в хрониках Аммиана Марцеллина, сирийского историка, а он жил ещё в 1У веке, а ещё у армянского философа Себеоса тоже… Они, эти учёные мужи, нашли в индийских хрониках значение этого слова. Когда-то, давно, существовало сверхоружие древних. В переводе с индийского на греческий язык, Брахмастра – это супероружие богов, Великий Огонь. Я же рассказывал тебе: древние греки ещё тысячу лет назад пришли к выводу, что мир материи состоит из очень малых тел, первозданных кирпичиков, называемых атомами. Разломать, разорвать эти атомы невозможно, а если кто найдёт способ разрушить эти атомы, то высвободится огромная, ни с чем несравнимая, божественная энергия. Видно древние знали, как это сделать – вот и погубили сами себя, а боги не стали их спасать…
– Ты знаешь, Давид, – князь как-то отрешённо посмотрел на друга, – я, когда вылез оттуда, то почувствовал себя каким-то мелким, ничтожным и никому не нужным!
– Ну, это ты уж загнул, Мстислав! – успокаивающе заговорил Давид. – Как это не нужным? Ты нам всем нужен! А ну, да если бы в единоборстве победил князь Редедя? По уговору и по обычаю, а мы все были свидетелями, Тмутараканская земля досталась бы ему. Князь Владимир с этим бы не согласился, а это – война! Зачем нам это – вот такая ты фигура!
– Хм, тоже верно! – согласился князь, и тут же предположил: – Но ты бы мог взять власть в свои руки! Мать у тебя иудейка, но по отцу ты из княжеского рода Ашина, а Хазарией, на протяжении веков, правил этот род до того как мой дед, князь Святослав, покорил её.
– Брось ты эти рассуждения, Мстислав! Во-первых, моё сердце не желает власти, я науки люблю, пытаюсь понять мироздание, ум мой там, в глубине веков. А, во-вторых, твой отец, князь Владимир, ни за что не согласился бы на это, и прислал бы войско! Да и русская дружина в Таматархе подняла бы меч! Опять междоусобия, опять кровь! Зачем? Нам и так хорошо! Торгуем со всем миром, наживаем богатства, люди сыты!
– Да, всё так, Давид! – князь с грустью взглянул на соратника. – Но я какой-то оторванный от Руси. Вот и говорю-то на греческом, или на тюркском. По-русски редко говорить приходится, иной раз, и слова-то русские забывать стал, заметил ведь?
– Ну что из того? – развеселился Давид. – У нас здесь все говорят на трёх языках, и друг друга понимают, и договариваются, и живут мирно! Ты вон посмотри, три веры у нас: Иудейская, Христианская и Ислам, а ведь никто другого в свою веру насильно не тянет?
– Ладно! – усмехнулся Мстислав. – В мирной земле конечно спокойней жить! Пошли дальше, вон там ещё одна каменная берлога виднеется! Надо уж и её заодно осмотреть!
До следующего дольмена было саженей двести. Внушительное сооружение по своей конструкции почти полностью повторяло первое, только фасадная плита с отверстием была обращена в ту сторону, откуда князь с Давидом пришли, и где над горизонтом поднималось чистое, будто умытое солнце.
– С меня достаточно того, первого, Давид! – заявил князь. – Ну, а ты, если хочешь, полезай!
Давид тоже проявил вполне закономерное любопытство и забрался в дольмен. Мстислав повернулся и посмотрел на солнце, которое, ещё только поднявшись, уже припекало вовсю; день обещал быть жарким. От дуба видна была только верхняя часть кроны, вторую, нижнюю половину дерева скрывал косогор.
Через некоторое время из отверстия дольмена вывалился взъерошенный Давид. Мстислав такого возбуждённого друга видел впервые. Тот, немного поостыв, заговорил хрипловатым голосом:
– Ты знаешь, Мстислав, саблей я владею не хуже любого твоего дружинника и в обиду себя не дам, хотя моя вера запрещает убийство, но то, что я там увидел!?
– Ну, что ты там мог увидеть? – князь сказал это добродушным голосом, положив тяжёлую руку на плечо Давида.
– А то! – помощник мрачно посмотрел на Мстислава. – Ты же знаешь, что в прошлом году я ездил в Албанию (Азербайджан)! Встречался там с хронистами шаха, осматривал древние стены города Ардебиля, и запомнилась там мне одна башня. Здесь, в этом дольмене, я увидел куски страшной битвы хазарского войска под предводительством Барджиля с персами под стенами Ардебиля, как раз возле этой, знакомой мне, башни. Битва эта произошла ровно три века назад, когда хазары в двухдневном, жесточайшем сражении, наголову разгромили сорокатысячное войско персидского полководца Джерраха Ибн-Абдаллаха ал-Хаками. Я знаю из хроник, что сам Джеррах погиб в этой битве. Я уже тебе как-то рассказывал, что хазары в то далёкое время много воевали с персами из-за провинции Мазендаран. Особенно донимал Хазарию полководец Саид Ибн-Амр ал-Хараши, а ещё старый вояка Хабиб Ибн-Маслама, великий персидский полководец. Ну, да ведь кому понравятся ежегодные грабительские набеги хазар в долину Куры и дальше, на Шемаху и Арран. Войска проходили через Дербент – вот там, в узком месте, между горами и морем шах Хосров Ануширван построил стену из камня, да только и она не смогла остановить неудержимую хазарскую конницу. Крепость Дербент, как кость в горле, мешала ещё сарматам свободно проникать в богатейшие земли Ширвана и Мазендарана.
– Понимаю, – Мстислав иронично улыбнулся, – тебя, там, в берлоге, ужаснуло это ратоборство! Но ты же сам участвовал в битвах? Чего тебе ужасаться-то?
– Да нет, Мстислав! – Давид сердито стряхнул руку князя с плеча. – Просто я никогда не видел такого ожесточения и столько крови! Причём всё предстало перед моими глазами очень чётко, в подробностях, в деталях. Когда ты не участник столь страшного события, а только наблюдатель, то это тяжко видеть со стороны. И я подумал: зачем вся эта человеческая дурость? Вот ведь люди – из-за своей жадности готовы весь мир утопить в крови, а много ли человеку надо для жизни?
Князь успокаивающе хлопнул Давида по спине и произнёс просто:
– Ладно, пошли к уртону! Утро в разгаре, а мы ещё даже чаю не попили!
Шагая к видневшемуся невдалеке дубу, Давид, вдруг, недоумённо заговорил:
– Солнце почему-то совсем не утреннее, а скорей вечернее? Неужели мы здесь целый день проторчали? Так я ещё даже проголодаться не успел!
Солнечный круг и впрямь был оранжевым, каким-то уже усталым, и опускался в сиреневую, вечернюю, дымку. Князь ошарашено уставился на помощника, заговорил по-русски:
– Куды ж прёмси-то, на заход Ярила? Нам же вон туда надо, откуда пришли! Айда обратно! А то, что цельный день тута проторчали, тако сам же мне поведал давеча, что место энто не чисто!
Путники повернулись и зашагали обратно, в спины их упёрлись ещё тёплые лучи заходящего светила. Из-за дольмена выглядывала верхушка дуба.
– Ну, вон и дуб, а там родник! – заметил князь.
Давид обернулся назад:
– Но там тоже вон дуб выглядывает!
– Да мало ли! – князь решительно шёл вперёд. – Пришли-то мы с восхода!
Друзья прошли мимо дольмена, миновали дуб, даже не заметив, что это совсем другое дерево, и возле знакомой ели увидели родничок. Ободрившись, стали спускаться вдоль оврага, но почему-то возле кабаньей тропы, вместо дальнейшего спуска начался подъём, который упёрся в ель с родником.
– Что за чертовщина! – проворчал князь. – Опять этот родник, а вон выше и дуб!
– А родников у основания возвышенности может быть и два, и даже три, да и дуб здесь не один! – высказал предположение Давид. – Так что, пожалуй, надо обратно!
Поднявшись к дубу, они увидели, что заходящее солнце у них за плечами. Бодро пройдя всю поляну в обратном направлении, они, миновав дуб, ель и родник, дошли до знакомой кабаньей тропы, а там опять начался подьём, и всё повторилось. Возле дуба остановились, а солнце опять стало утренним.
– Стой, Мстислав! – воскликнул Давид, страшная догадка мелькнула у него в голове. – Бог мой! По кругу ведь ходим! Я понял! В хронояму угодили!
– А что это такое, хронояма? – недоумевал князь.
Предупреждал меня об этом один учёный грек в Фессалониках, когда я там был с дядькиной солью три года назад. – Понимаешь, – это завихрение, это такая воронка времени! Вот как в текущей воде, видел, небось? Выбраться из временной воронки невозможно! Ещё никому не удавалось!
Лицо Давида покрылось участками какой-то белой кожи, словно кто-то сыпанул на него муки. Необъяснимая тревога змеёй заползла в душу князя.
– Но мы же должны, что-то есть, ночь придёт, так спать надо? – попытался как-то выяснить ситуацию князь.
– Никакой ночи не будет, Мстислав! И еда нам не понадобится! Будем вот так ходить из конца в конец по поляне вечно, без какой-либо усталости! Залезать в дольмены, рассказывать друг другу одно и то же тысячи и тысячи раз… . В мире много непонятного нам, людям, кругом сплошные загадки…
Князь широко перекрестился, воскликнув по-русски:
– Господи! За что же нам энто наказанье-то? Видать за грехи! Одному Богу вестимо, яко нас испытать! Ведь упреждал же Сосланбек, дабы сюды не шастали! Вот она жизня, и не ведаешь, откуда лихо свалится на главу беспокойну! Ты ладно, ты учёный, у тебя свой интерес, а я-то, дурень старой, голова с дырой, яко отрок младой! Тьфу, прости Господи! Ну, да ладно, а вот аще кто другой взойдёт на энтот холм? А, Давид?
– Даже если кто придёт, то мы его не увидим! – был удручённый ответ Давида.
– Энто пошто?
– Потому что он будет в другом завихрении, в своей временной воронке!
Мстислав решительно дёрнул парня за ремень, подпоясывающий его висконовую рубаху, заговорил по-тюркски:
– Пошли вниз! Что-нибудь придумаем возле кабаньей тропы! Думаю там есть начало этой западни!
– Бесполезно!
– Почему?
– Да потому что для людей нашего времени мы просто пропали без вести! На то она и воронка!
– Пошли, Давид!
Спустившись к роднику, Мстислав решил попить. Зачерпнув ладонями воды из ямки, он начал пить, и чуть было не плюнул. Вода была тёплой, невкусной, мёртвой, а ведь час назад она была совсем другой: холодной, живой – пил бы и пил, не отрываясь.
Возле кабаньей тропы друзья остановились, решительно не зная, что предпринять. Неуверенно разглядывая чёрные стволы деревьев, сквозь густую листву которых несмело пробивались редкие лучи вечернего солнца, они заметили, что нет никаких звуков, присущих любому лесу. Главное – не слышалось птичьего треньканья. Из мелкой лесной поросли, что близко подходила к тропе, вдруг, протянулась чья-то рука, и, крепко ухватив подолы рубах заблудившихся путников, сильно дёрнула к себе.
Давид с князем пошатнулись, и невольно сделав широкий шаг в заросли, увидели там Сосланбека. Глаза парня были испуганными, но всё-таки он решительно потянул обоих за собой. Вокруг его пояса была обмотана верёвка, которая протянулась от него куда-то в гущу деревьев.
– Пошли, пошли скорей отсюда! – воскликнул Сосланбек, наматывая на локоть верёвку, которая оказалась привязанной к дереву.
Через две сотни саженей он становился, и, взглянув уже какими-то радостными глазами на заблудившихся, произнёс:
– Ну, видать, велика сила ваших богов! Мы уж думали всё, – не увидим вас больше никогда! Целый день вас ищем! Хорошо, что Юсуф сказал мне, куда вы пошли. Я решил, что залягу возле кабаньей тропы, подумал, что вы, блуждая, всё равно сюда выйдете. Привязался к дереву верёвкой, чтоб не потеряться самому, ну, вот и помогло. Сюда ведь кто ходил – больше их и не видели, я же предупреждал…
Мстислав истово перекрестился, потом крепко обнял парня, слегка отстранившись, посмотрел в его какие-то наивные, чёрные глаза, и медленно заговорил:
– Смелый ты, Сосланбек, братом будешь! Пойдёшь ко мне в дружину? Сотником сразу поставлю! Небось, воинскому ремеслу обучен, а нет так мои джигиты тебя поднатаскают?
Повернувшись к Давиду и, дружески хлопнув его по спине, спросил:
– Ну, вот что это, Давид? Как понять? Прям-таки морок какой-то! А, может, это испытывал силу духа нашего Спаситель мира?
– Не знаю, что и сказать, Мстислав! – задумчиво ответил советник. – Только вот византийский хронист, Прокопий из Кесарии, в своей книге: «Война с готами» подобный случай описывал, а ведь он жил и писал свою книгу почти пять веков назад. А совсем недавно, в прошлом году, когда я ездил в Ширван и встречался в Шемахе, а после в Ардебиле с арабскими мудрецами, один из них, философ и математик, Ахмед Ибн-Мухаммед Ибн-Мисхавейх подробно объяснял мне суть воронки времени, которая напрямую связана с вселенским Разумом. Только я так ничего и не понял! Понимаешь, Мстислав, я ещё раз повторяю, в мире так много неизведанного, загадок столько, что голова пухнет…
Глава 5. ТАЙНАЯ ВОЗНЯ МИССИОНЕРОВ
Осень на Северный Кавказ приходит незаметно. Листья на деревьях побурели ещё летом, травы пожухли, а жара как стояла, так и стоит. Но вот северный бора пригонит неисчислимое стадо туч, из которых за весь день не выпадет ни одной капли влаги, а к вечеру юго-западный ветер с моря сметёт всю эту шушеру на северо-восток и над головами людей вновь раскинется синий шатёр неба. Ласковое солнышко с утра опять гонит на степи, леса и горы массу тепловых лучей, обогревая и радуя всё живое на этой древней земле.
А бывают дни, когда над акваторией моря столкнутся в противоборстве Борей с Зефиром, наберут испарений с морской поверхности, да и выльют весь этот конденсат над горами. Ну, а уж оттуда вода через горные речки мощными потоками растекается по всей северокавказской равнине, напоив степные травы и леса, переполнив попутно две главные реки этой обширной местности: Кубань и Терек.
Но всё ж осень, она и на Кавказе осень. Ярко-жёлтая листва клёнов и лип с вкраплением красно-сизой одежды рябин, в сочетании с пронзительно синим небом, создают праздничный вид окрестностям. Буйство этих природных красок слегка сдерживают зеленовато-медные кроны дубов и буков, да кое-где из лесной желтизны свечками торчат почти чёрные ели. Это сейчас вокруг Таматархи голая выгоревшая за лето степь, леса давно вырублены, а в то далёкое время дикая чащоба подступала, чуть ли не к самому морю. Лист с дерева ещё только начинает падать, и в лесах наступает торжественно-тихий праздник природы, только рёв зубров и оленей на утренних зорях звучит, подобно трубам ангелов, возвещающих наступление дня.
В большом двухэтажном доме протевона города Феофана Фоки, у открытого окна, в плетёном из виноградной лозы креслице на втором этаже, сидел заморский гость. Звали гостя Баттиста Дука, и был он посланником протосикрита императорской канцелярии Гавриила Дуки. Распахнув на волосатой груди белую висконовую трабею, заморский гость ворчливо заметил, обращаясь к хозяину, который расположился напротив в таком же кресле:
– Вроде бы уже осень, Феофан, а духота прямо-таки летняя! Думал, что вот уеду от столичной жары к вам на север, так и окунусь в прохладу! Ан нет, хорошо вот, что утренний бриз с моря!
Протевон, взял серебряный лекиф, что уютно стоял на маленьком столике, не спеша, налил в фаянсовые пиалки уже разбавленного вина местного производства. Немного отпив из своей посудины, он степенно заговорил:
– Ну, овец ещё не стригли, Баттиста! Виноград не давили и вина нового урожая ещё в подвалы не ставили! Зато успели построить пять торговых галер за лето, но, главное, заложили с весны новую церковь Рождества Богородицы из камня по приказу князя Мстислава и к празднику Симеона Столпника накрыли храм куполом. Правда ещё без позолоты, да и внутри наши изографы ещё штукатурят и расписывают божественные фрески. Хотя абсидную часть храма, иконостас, уже украсили иконами, что привезли из Константинополя, из Влахернского монастыря. Князь вот из Грузии вернулся, так уже первую службу провели.