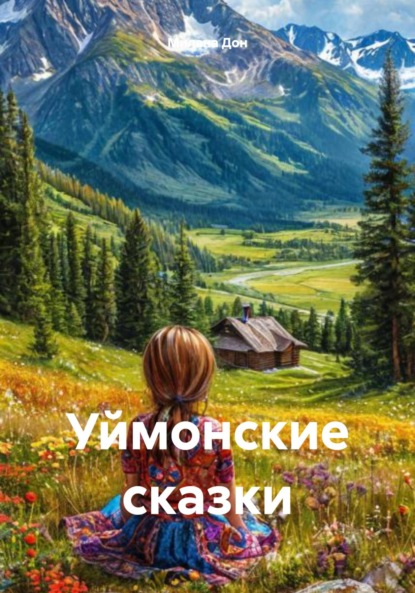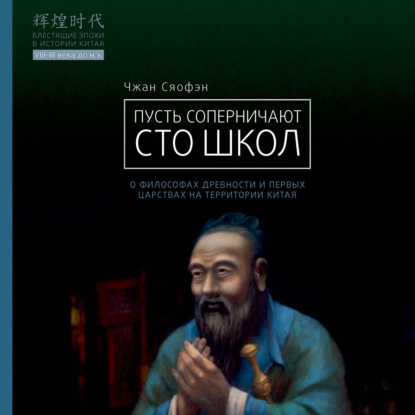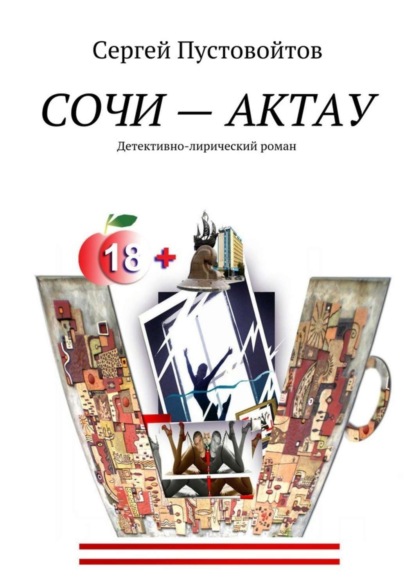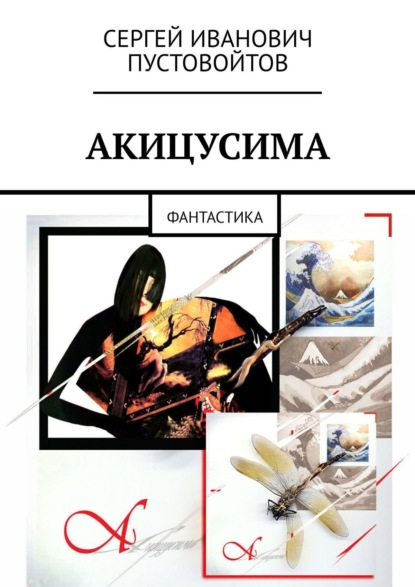Свет среди тьмы. Свидетели света
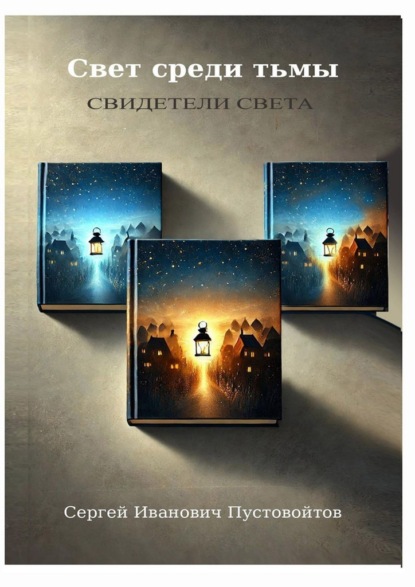
Эта книга — не биография. И не житие святого. Это — следы босых ног на снегу, которые исчезают, но оставляют тепло. Это — попытка не объяснить, а сохранить дыхание одного присутствия.
Если после этой книги ты начнёшь слышать тишину — значит, мы не зря её написали.
Если захочешь жить мягче, прощать чаще и слушать глубже — значит, Он жив. В тебе. И рядом с тобой.