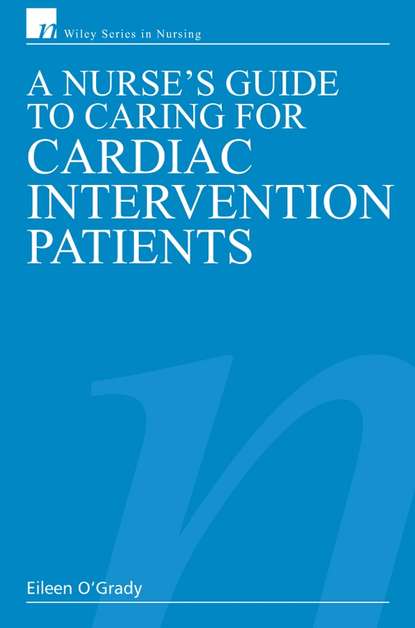- -
- 100%
- +

***
По деревенской привычке она просыпалась рано и лежала на спине с открытыми глазами. Лежала в закутке комнаты на одноместном поролоновом диванчике, подложив подушку повыше под голову, глядя чуть в потолок и одновременно на противоположную стену, на которой висела небольшая икона Богородицы и старинный бронзовый подсвечник с недогоревшей белой свечой…
Собираясь на работу, Нарчужанов несколько раз проходил мимо матери из комнаты в кухню, видел, что она не спит, но не решался ничего сказать, или спросить, только всякий раз цепко замечал, что лицо у матери в то утро было какое-то особенное – старческое, но с будто разгладившимися морщинами, чистое и чем-то осветленное.
Такой же он увидел ее позднее, за три дня до кончины, уже в деревне, когда она впервые за последнюю неделю попросила поесть…
– Только сначала принеси мне умыться, – сказала она тогда, – а потом дай мне белых сухариков с чаем, да можно и молочка линуть маленько. И когда поела, снова перекрестилась, прошептала:
– Слава тебе, Господи, – призналась: – Никогда, кажется, с таким аппетитом не едала. Как причастилась, – аккуратно перевязала на голове ситцевый платок в крапинку и с таким же посветлевшим лицом затихла…
«Надо бы запомнить ЭТО лицо. Хорошо бы никогда не забывать», – подумал Нарчужанов, взглянув на мать, сглотнул подступивший к горлу комок и снова прошел молча…
И мать тоже молчала. Молчала глубоко, расслабленно, с едва заметной улыбкой на лице, будто была совершенно одна и с удивлением вспоминала что-то, уточняя для себя, действительно ли было все это, или ей показалось?.. И оттенки сомнения, проступавшие на лице, сменялись тихой какой-то радостью, и она будто говорила себе: «Нет, было. Я же видела…»
Наконец Нарчужанов не выдержал, как-то невольно подпав под ее загадочное настроение.
– Мам?.. Ты что?
– А ничего, все ладно. Лежу вот, – простодушно отозвалась мать, не выходя, однако, из своего таинственного состояния, прикусив в уголке рта кончик указательного пальца, и, как ребенок, также простодушно добавила:
– Лежу… Печки топить не надо, еще рановато, да и нет у тебя тут печки-то. Батареи какие-то сами топятся. К скоту идти тоже не надо, опять нету. Вот и лежу, как бароня…
Слова эти отозвались в Нарчужанове как глоток брусничного сока – и ущипнуло, и освежило, и заставило сморщиться, и будто погрело…
А мать, помолчав, наконец, решилась признаться:
– А мне вот сегодня Богородица во сне привиделась. Подумав, уточнила: не сама Матерь Божья, а только образ иенный. Лежу вот, не могу точно вспомнить какой?.. Нет, не тот вон, который у тебя на стене-то. Это Знаменная, я знаю его, а какой-то другой… Появилась Царица небесная из воздуха вроде, эдак как бы наплыла надо мной и остановилась над лицом… Ну, как золотое все стало… Наподобие, как солнышко вышло. Видал, помнишь, как оно у нас в деревне утром выходит из-за угора?..
– Ага, – отозвался Нарчужанов, не зная, как отнестись к словам матери. Подумал: «Она что-нибудь сказала тебе?»… А мать, словно угадав его молчаливый вопрос, пояснила протяжным голосом, подчеркнув этим и достоверность, и чистосердечность своего признания:
– Нееет, ничего Она мне не сказала. Только эдак икона-то зависла надо мной. Я вот так же лежала на спине, как сейчас. А Она высоконько остановилась, – мать потянулась рукой к потолку. Нет, выше было. Рукой-то было никак не дотянуться, – и еще раз подтвердила:
– А слыхать, ничего я от Нее не слыхала. Дальше уж и не помню, как было. Заснула я опять…
Рассказав сновидение, мать снова также одиноко затихла, будто куда-то вышла… А осенью, почти безмолвно перестрадав мучительное течение болезни, ушла насовсем…
В конце октября, месяца через полтора после ее похорон, Нарчужанов, вернувшись в Петербург из деревни, на этом же диванчике спал сам, и ему никак не верилось, что матери он больше не увидит, и никогда не услышит ее голоса. Лишь через диванчик он будто ощущал ее присутствие. Но спал он спокойно, ровно, без каких-либо сновидений. От усталости боль утраты утихала…
И вот однажды под утро, когда уже наступало пробуждение, Нарчужанов вдруг услышал негромкий шепот. Он лежал также на спине, как мать в тот раз, когда ей приснилась икона…
Шепот пролетел где-то около правого виска, даже не пролетел и не прилетел откуда-то, а словно возник тут же и сразу же вошел в него, мягко окутав изнутри и растворив в себе, – теплый, как потом вспомнилось Нарчужанову, словно дыхание. Около уха его будто прошелестела тонкая шелковистая штора, встрепенувшаяся как бы от влетевшего в открытое окно поезда ветерка, и Нарчужанов услышал, как материн голос окликнул: «Коооля…».
Прошептала мать его имя и только один раз. Он ощутил плотность этого шепота, как живой голос матери, из которого тут же, не ярко, будто подернутое дымкой, родилось лицо матери, окаймленное тем же платочком в крапинку, словно соткалось из воздуха, и быстро растворилось в отлетевшем голосе, затихнув, как откатившаяся с берега морская волна…
Произошло это все так плавно и в то же время так мгновенно, что Нарчужанов даже не успел удивиться этому событию, и снова задремал…
Однако утром он вспомнил все подробности столь же явно, как слышал во сне. Подумав, он почти уверенно решил, что окликом своим мать не позвала его, ничего не сказала и ни о чем не спросила, а просто окликнула его для того только, чтобы подать голос, что она есть, жива и помнит о нем, только ушла…
Но позднее, уже спустя годы, когда голос матери опять вспоминался ему, Нарчужанов, снова вслушиваясь в его звучание, замечал в нем что-то вроде непоправимого сожаления, даже скорби, и сомневался в первом своем впечатлении: «Нет, мама все-таки хотела мне что-то сказать!? Хотела! И даже сказала! Вот только что?!.»
И чем тщательней вслушивался он в оттенки интонации последнего материнского слова, прилетевшего оттуда, откуда не возвращаются, тем безнадежно-отчетливей вынужден был замечать, что всякий раз душу его, выдавливаясь вязкими каплями, травят приступы едкого чувства неназываемой виноватости. Но мать больше ни разу с тех пор голоса не подавала…
– А, может, и правда, что эта земная жизнь всего лишь испытание, назначенное человеку для приготовления к той, которую называют то загробной, то вечной?.. И никакого другого смысла у этой – «настоящей» – и нет?! – вдруг, неизвестно по какой логике, подумалось мне, когда я дочитал последние строчки некогда мною же записанного и уже забывшегося рассказика. Она, эта реальная жизнь, которой мы так дорожим, за которую так держимся, всего лишь прихожая, где надо соответственно принарядиться, причесаться, галстук поправить, чтобы достойно войти в гостиную… А если приготовишься не так, тогда что тебя ждет там, в вечной гостиной?..
Или ничего не ждет? Нет никакой гостиной!? Сразу все оборвется, все исчезнет, будто ничего и не было никогда? Ты лопнешь, как мыльный пузырь, и – все. Не может быть? Невероятно, не вмещается…
Озадаченный, я облокотился обеими руками о стол, вложив голову в ладони. …или она – чье-то сновидение? Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..
Я прислушался и насторожился…
* * *
Еще по звуку замочного щелчка около входной двери и по голосу, которым она ответила матери: «Не приставай ко мне, мать, со своими глупостями! Я вся устала и раздражена!» – и еще больше по молчанию, установившемуся в коридорчике, я сразу почувствовал себя опять словно провинившимся и невольно съёжился – так же, как ёжился лет шесть тому назад, заслышав возвращение Аллы Эдуардовны – соседки по коммунальной квартире, в которой я тогда снимал маленькую мансардную комнатку…
Воспоминание вызвало и усмешку, и ощущение досады: «Сейчас что-то обрушится и на меня?!» Настроение жены не обещало ничего хорошего: то ли надо выйти, осторожно разведать, в чем дело и предотвратить возможное нападение, то ли покорно дожидаться естественного развития? И то и другое показалось рискованным. И так и не сделав выбора, я остался в комнате, только откинулся на спинку стула и без всякого желания закурил…
– Привет, Нарчужанов, – сказала жена, пройдя за моей спиной к бельевому шкафу с зеркалом, и остановилась, взяв расческу. – Токуешь? Ты бы хоть проветривал почаще…
– Так форточка же открыта. Как еще?.. Привет, Лилечка, – простодушно отозвался я, не реагируя на раздражение в ее голосе.
– А чем занят? Что-то уж больно мудро выглядишь? – Жена почти ехидно усмехнулась.
– Да вот, можно сказать, свои мемуары перечитываю, ошибки исправляю. Вдруг кому-нибудь на глаза попадутся – чтоб не очень стыдно было. – Я тоже усмехнулся.
– Не рано ли мемуары? Ты что, умирать собираешься?..
Соврать или как-нибудь уклониться было бы спокойнее и лучше, но на душе держался едкий осадок разочарования прочитанными черновиками, и я сказал то, что мелькнуло:
– Так жизнь, считай, кончилась. Наступило время расплаты… За беспечно прожитые годы, – я ухмыльнулся. – Наступившей эпохе «общечеловеческих ценностей» я органически противопоказан. Впрочем, и она мне – тоже. А это еще только цветочки…
– Ну, поехали опять! – отозвалась жена, откровенно раздражаясь. Откинула голову и, рекламно расчесывая волосы, походя, поинтересовалась:
– Ну, и что вычитал?..
Мне хотелось поплакаться:
– К сожалению, практически ничего обнадеживающего. Так, отдельные абзацы, строчки, в основном, начала чего-то: то ли рассказов, то ли?.. Иногда не верилось, что сам написал когда-то, – признался я. – Вот, полюбуйся, вычитал в одном рассказе изречение: «Времени нет, мы топчемся на одном месте из века в век внутри безначальной вечности. Меняются только декорации…».
Я хотел продолжить развернутое доказательство этой мысли, но жена опять отреагировала раньше и совсем не так, как я предполагал: – Мдаа?.. Похоже, сторожем работать опасно. Тебе, Нарчужанов, надо либо искать настоящую работу, пока совсем не состарился, либо?..
Не договорив, она ушла в комнату матери, потом мимо моей двери на кухню, откуда вскоре послышалось:
– Ну, конечно!.. Я так и знала!
Потом что-то упало…
Собрав валявшиеся вокруг машинки бумаги, я уложил их в нужном мне порядке в розовую картонную папку, на обложке которой было написано: «Жизнь медленная шла, чего-то было жалко»… Мысленно доцитировал: «…таинственно, как старая цыганка, мне шепчет жизнь заветные слова», – убрал папку в ящик стола и, повернувшись, сел поперек стула, навалившись на спинку руками, и выложил на них подбородок, как провинившаяся собака в ожидании хозяйского решения…
Как оказалось, в тот день я действительно проштрафился, забыв сдать в прачечную белье, не убрал в квартире, хотя вроде бы обещал, да еще не досмотрел, что картошка кончилась. И еще что-то, и еще, и еще что-то…
Но главная моя вина, похоже, заключалась в том, что сапоги, которые жена недавно с восторгом нахваливала, опять не то!
– Они промокают! – сказала она, когда я вышел на кухню. – На, потрогай мои ноги. До сих пор холодные. А ты мне про свои мемуары плачешься…
– Зато у тебя духи из Парижа… Подарок от самой баронессы! – попытался утешить я жену, хотя чувствовал, что в данном случае и это напоминание опрометчиво. – А сапоги у тебя есть другие. Кажется, и третьи?..
– А ты, может, скажешь, с какими юбками их носить?..
– Ну, это уж, девушка, прости, – растерянно пролепетал я и даже рассмеялся. – Как говорится, извините за внимание. Однако, после этого разговор уже окончательно перевалил за пределы невинного семейного препирательства и дал повод жене в очередной раз убедить себя, что на свете нет хуже человека, чем я, ее муж, а я снова узнал, что за мной тянется целый шлейф проступков, совершенных и пять лет назад, и три,., и неделю, и даже вчера я тоже, оказывается, выразился обидно… Ну, конечно, все это потому, что я ее больше не люблю и вообще никогда не любил…
– Напротив, – сказал я, – люблю. Только не безумно. А кое-что и не люблю…
Это, конечно, жену не утешило. Оказалось, единственное, что оставляло за мной право на существование, так это якобы талант, который у меня когда-то якобы был, да и то она его открыла, а я его зарыл своими романами – имелся в виду забытый мною не литературный роман… Но и о таланте жена упомянула, кажется, только для того, чтобы не чувствовать себя уж совершенно обделенной судьбой… Не помню, что дало повод втянуться в прения теще, и хоть и негромко, но дело дошло до валерьяновых капель…
– Вот видишь?! Ты всегда так! Разве это не подлость? Ничего не сделал, довел всех и – наутек! – подытожила жена, увидев, что я одеваюсь. – Тоже в подвал, как кот!?
– Нет, чуть подальше. В «мавзолей», – ответил я, не задираясь, имея в виду торговый центр. Он был на противоположной стороне улицы и во время гонений на спиртные напитки я не раз видел в окна обвивавшие его великие очереди, в которых и сам, бывало, сражался за право отоварить винный талон. К тому же, если напрячь воображение, то и без очередей в силуэте этой торговой точки с красно-зелеными буквами ТЦ можно действительно усмотреть очертания известного московского сооружения, особенно при ночном освещении…
Жена отреагировала сдержанней, чем я предполагал, и я пошутил:
– Пойду поживу напротив своего дома, – с усмешкой намекнув на старый анекдот о завмаге Грише, жившем напротив тюрьмы, а потом, после ревизии, лет на пять поселившемся напротив своего дома…
То ли анекдот уж слишком устарел, то ли юмора в нем вообще было недостаточно, чтобы снять напряжение, но примирение наступило ненадежное…
Посоветовав мне остаться «в мавзолее» насовсем, жена пошла из кухни в комнату с чашкой горячего чаю, в коридорчике столкнулась с матерью, которой именно в этот момент тоже понадобилось что-то на кухне… А тут еще пес, недавно подобранный мной на улице, подвернулся им под ноги и завизжал так, будто его ошпарили кипятком… И все свалили вину на меня, и с этим приговором я и вышел за дверь.
На улице моросил осенний дождь. Набухшие облака, уже несколько дней накрывавшие небо, будто терлись о крыши домов, навалившись на них своей тяжестью, и закатанная асфальтом земля, казалось, прогибалась под давлением, угрожая прорваться, как поверхность клюквенного болота под сапогом… Сам же город показался мне похожим на человека, мучающегося на смертном одре: то хрипло дышал, то молился: «Господи, помилуй! Господи…» и, теряя сознание, впадал в забытье…
Оглядевшись, я невольно втянул голову в воротник черного плаща с капюшоном и поежился. Вспоминались просмотренные за день рукописи, но ничего в них не утешало, лишь в нескольких небольших новеллах было что-то светлое, но кто услышит тихий голос во время драки, когда все взорвалось и все орут…
Мысль о драке мелькнула по поводу событий, почему-то именовавшимися перестройкой. И я опять поежился…
Пропустив на перекрестке несколько машин, обдавших лицо водяной пылью, я пересек трамвайные пути, неуютно остро блеснувшие под фонарями.
* * *
Стальная дверина с двумя тугими пружинами скрипнула так, что вызвала ощущение зубной боли и тяжко ухнула за спиной. Стеклянная стенка содрогнулась, а меня словно ударом взрывной волны вбросило в зал… Одолев небольшой порожек, что называется с поджатым хвостом, я вдруг ощутил в воздухе что-то упругое, ударившее мне в лицо, так что на миг я будто потерял сознание.
– Вот это дааа?! – вслух выдохнул я и невольно остановился, озадаченный подобно Тарасу Бульбе перед казаком, спавшим при въезде в Запорожскую Сечь. И кто-то словно прошептал: «Эх, как важно раскинулся! Фу-ты, какая пышная фигура!.. Запорожец, как лев раскинулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли, а шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения…». Вспомнить Гоголя заставил кот.
Он спал слева от входа в «Кулинарию» и не уступал запорожцу ни в важности позы, ни тем более в показании полного пренебрежения к шароварам «алого дорогого сукна». Только раскинулся он не на дороге, а на острых ребрах пластинчатой батареи, под стеклянной стенкой, между раздвинутыми оранжевого цвета шторами, свисавшими почти до пола. Широкоскулая голова кота, будто чуть сплюснутая со лба, была вложена в передние лапы, и толстый хвост его занимал места не меньше, чем козацкий чуб. Голова хранила на себе следы многих схваток: кое-где были порваны уши, местами, похоже, не доставало усов, а некогда рыжая шерсть была продымлена и изваляна во всем, что может встретиться на путях, ведущих в общественные подвалы и чердаки, – скомкалась, напоминая то ли кудель, то ли пожухлую осеннюю траву…
Впрочем, подробности эти я разглядел и осознал позднее, твердо решив дождаться момента его пробуждения, потому что вслед за восхищением фигура кота вызвала во мне такое же сильное чувство раздражения…
Был момент, когда мне показалось, что кота этого, или подобного этому, я уже где-то видел, но воспоминание было слишком слабым в сравнении со всем остальным, что излучала лежавшая фигура.
– Похож на того налима, – неожиданно подумалось мне.
Кот действительно спал как-то особенно. Можно сказать, дерзко, вызывающе отвернувшись от зала, будто все вокруг него отсутствовало, или вообще не существовало. Да и сам он – тоже. О реальности его напоминало лишь едва заметное шевеление провалившегося живота, выдававшее глубокую усталость, в которой реальность существования становится сомнительной: лежит, как убитый. Однако, «убитость» кота вдруг вызвала во мне не жалость или сострадание, а зависть. Раздражающую зависть. И с ехидной усмешкой на лице я подумал: «Посмотрим, как ты будешь выглядеть, когда тебя погонят шваброй?! Посмотрим, инопланетянин, действительно ли ты можешь выказывать такое презрение?! Посмотрим! Я дождусь этого момента. Обязательно дождусь! Мне спешить некуда…».
* * *
Из неумелых рук молодой длинноглазо накрашенной буфетчицы, я взял тарелку с поставленной на нее чашкой кофе и сел за столик, откуда было хорошо видно кота и весь зал, уставленный столиками на выгнутых алюминиевых ножках с голубыми столешницами из пластика. Он был довольно большой, тускло освещенный ледяным неоновым светом, в котором все выглядело призрачным и плоским, как тени. Но «Кулинария» частенько торговала тем, что тогда было дефицитом, и не пустовала…
Начавшиеся реформы, обещавшие дней через пятьсот превратить всю страну в рай, пока только с успехом разваливали все, что было, напоминая войну, и довольствоваться приходилось тем, что еще оставалось. «Кулинария» была единственной в микрорайоне. Люди толкались в ней между столиками, отыскивая хвосты очередей, отраставших от прилавков, и в зале держался безликий шум, который иногда прерывался диалогами покупателей…
– Не отпускайте ей так много паштета! Да, этой даме в шляпке! А то нам не достанется. Не отпускайте!..
– А вы вообще здесь не стояли! Вообще вас нет!
– Нет, не правда, я есть, и я здесь занимала очередь. Я еще тайно задумала… Да, заняла очередь за винегретом и за рыбой одновременно. А про себя подумала, узнаю, которая продавщица быстрее торгует. Да… А вы забыли, я вас предупреждала… И вот сейчас подходит моя очередь…
– Вообще вас нет, говорю вам! Зудит тут, муха. Зю-зю-зю…
«А может, и правда, нечто называемое нами жизнью, чье-то сновидение? Или наше собственное?.. А иначе, как назвать сцены из жизни, подобные этой? – подумалось мне с усмешкой. – Нет, лучше: «жизнь – обман с чарующей тоскою». Как восхитительно звучит!.. С чарующей тоскою!.. А что же потом, когда нас повезут?.. Ведь повезут же неизбежно! Тогда наступит пробуждение? Или?.. Неужель – НИЧЕГО? Не может быть!?.. Как странно? В детстве, да еще и совсем недавно, я никогда не думал об этом всерьез, будто родился с готовыми ответами. Знал, не задумываясь. А теперь? Нет, лучше сказать – не знаю… Но что-то там есть».
– Не мешайте мне! Разорались! Я же с деньгами работаю! Говорите, что вам?..
– А вы мне недодали!
– Нет, я все вам сдала, а вы сунули в сумочку и там все перепуталось…
– Вот, посмотрите в сумочку. Все на виду. Пожалуйста, смотрите.
– А где рубль с оторванным уголком? Я запомнила, что вам его сдавала. Вам… Потому что никто не брал, кроме вас, не хотел. Рваный… Сами суют, а как брать, так не хочут.
– Не знаю, хочут, или не хочут. Может, вы перепутали?
– А вы, может, сунули, куда мужики лазют?!
– Хамка! Позовите заведующую…
– Я сама себе заведующая. Нечего было отходить от кассы. Нате свой…
Дверина скрипела и ухала. Иногда передавалась с рук на руки и – опять ухала, содрогая стенку… Кот спал, не реагируя ни на что, и все в той же позе запорожского козака, пытая мое воображение то восхищением, то завистью, то досадой. Наконец я решил, что все это мне снится в разыгравшемся воображении, и стал наблюдать за другими, в нормальности которых можно было не сомневаться… Вскоре выяснилось, что все, кому кот попадал на глаза, тоже будто спотыкались:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.