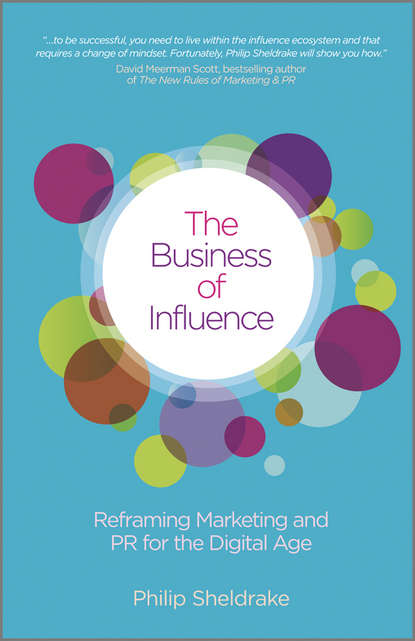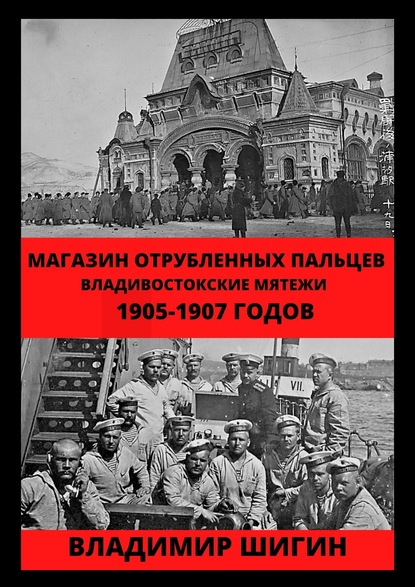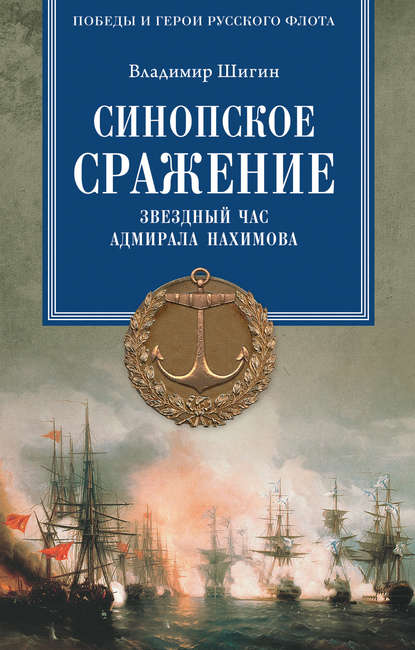- -
- 100%
- +

© Дарья Жаринова, 2025
ISBN 978-5-0068-5176-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Хотелось изящно зацепиться каблуком за перекладину высокого барного стула, но железяка оказалась слишком толстой для модных Асиных казаков со скошенным каблуком. Нога соскользнула на пол, туловище повело вперед. Со стороны могло показаться, что виной неуклюжести два пустых стакана на стойке прямо перед ее глазами, а не эксперимент с каблуком и стулом, но виски со своей работой не справлялся уже неделю. Голова оставалась усталой, но ясной, только руки немного немели и ноги затекали.
Рука девушки, почти выпрямленная в локте, лежала на стойке бара, голова на руке, глаза смотрели на пустые хайболлы – последнее время она перешла с шотов на лонги, оттягивая момент, когда придется остаться в одиночестве. Нога снова потянулась к перекладине стула – и снова промахнулась. «Даже стул зацепить не получается, не то что мужика», – мелькнуло в голове у Аси.
– Ась, поезжай домой. Поспишь, а утром обдумаешь, как дальше жить, – посоветовала барменша, отклеившись от блендера и протянув гостье зеленый смузи со шпинатом вместо виски.
– Не хочу, Ксю, – девушка подняла голову, выровняла туловище и оттолкнула руку подруги. – Не хочу ничего обдумывать. Двух виски вполне достаточно, чтобы десять минут бездумно повыть в ванной, а утром пойти на работу.
Барменша забрала пустые стаканы, взяла чашку из кофейной башни, перегнулась через стойку и поставила ее в кофемашину, стоявшую к ней спиной, нащупала и нажала верхнюю кнопку – Ксюша слушала подругу внимательно и сочувственно, но и работать не забывала.
– Ксю, может, ты позвонишь ему?
– И что?
– Не знаю. Спросишь как у него дела или еще что-то. Вы же друзья.
Обе замолчали.
– Хотя ладно. Поеду домой – напьюсь. А завтра в отпуск уйду.
* * *
– Сколько буханок?
– Давай пять. Если ж в четверг не приедете, все равно пропадут. А пять мы и до завтра съедим, – женщина потянула косточкой на запястье съехавшую на брови косынку и стала укладывать в синюю клетчатую сетку буханки свежего серого хлеба.
– Да оладьев напечешь, если не приедут. Чай скотины полон двор. И масло свое, и сметана, – заметила женщина постарше, забирая из рук продавца свою одинокую буханку.
Ох, что это был за хлеб. Корочка равномерно бежевая, по углам рыжеватая – откусываешь и вся грудь в крошках, – а мякоть, липкая и влажная, сама во рту тает.
– Вот и дело в том, что скотины полон двор. Когда ж мне ещё оладьи-то печь, – женщина в косынке резко дернула сетку, завязывая узел. Одну буханку она держала подмышкой.
У женщины в косынке была загорелая кожа. В глянце такой загар называют карибским, потому что он медный и лоснящийся, а в деревне – цыганским, потому что про Карибы они ничего не знают толком, а цыган периодически встречают в городе на автовокзале, куда их привозит рейсовый автобус. С цветом лба контрастировала белая косынка. Без карибского загара она была бы застиранной и серой, а так – почти снег. И кофта на ней была тоже белая, с короткими скошенными от изгиба плеча рукавами. А штаны – синие с отливом и белыми полосками по бокам. На ногах – калоши. Ка-ло-ши. Ни «га», а именно «ка» – здесь иначе не говорили.
Женщина не удержалась и откусила уголок тепленькой буханки, которая не уместилась в сетке.
Вокруг магазина на колесах – «ГАЗель», которая два раза в неделю привозил в деревню продукты, – собрались почти все жители. Это сто с лишним человек, если считать грудных детей и старух, вросших кистями рук в самодельные клюшки. Машина была событием. К её приезду отмывали руки, наряжались, надевали хорошие калоши и до обеда не выходили в огород, чтобы не испачкаться. Деревенские знали, что приедет продуктовая лавка не раньше 11 часов, но собираться на площадке перед кирпичным зданием, где раньше был настоящий магазин, начинали с 9.30. Почти праздничный день. Со временем мужики сколотили на пятачке перед бывшим магазином лавочку. Лавочка была длинная, с половину вагона пассажирского поезда, и в некоторых местах просевшая, хотя её по всей длине поддерживали деревянные чурбачки.
– Ой, Машка, все ты прибедняешься. Олюня твоя прибегала к Галюне моей и рассказывала, как вы в зоопарк давеча ездили. Веселилась, понравилось ей очень.
– И что с того, баб Тонь? – спросила женщина. – Ольга с отцом в зоопарк ходила, а я по врачам моталась. Чуть не померла.
– Да ты штооо? – баба Тоня вытерла губы, на которых от любопытства выступили слюни, уголком косынки, завязанной у подбородка. – Онкология?
– Да ну тебя, баб Тонь. Сроду ерунду какую скажешь! Зубы вставлять буду, ни одного не осталось целого, все сгнили.
На дороге, справа от магазина на колесах, остановилась красная машина. А черт ее знает какая! Нарядная. Фары большие, а в центре, где капот, треугольник углом вниз и в нем решетка. Иномарка, наверное. Наши такими нарядными не бывают.
Дверь машины приоткрылась на несколько сантиметров. Водители часто так делают: сначала откроют дверь, а потом начинают собирать с панелей ключи, телефоны, пачки сигарет и зажигалки – у кого что есть. Дверь машины приоткрылась еще на несколько сантиметров, потом распахнулась полностью. Из нарядной иномарки (да точно иномарка!) появилась очень длинная нога в белой кроссовке с одной стороны и мятно-голубой штанине с другой.
– Здравствуйте, – почти крикнула девушка и улыбнулась. – Кто последний?
Деревенские смотрели на девушку и молчали. Только водитель магазина продолжал объяснять кому-то, что мороженое возит упаковками по десять штук и самое дешёвое, в вафельных стаканчиках.
– Аська, – ахнула женщина в белой косынке и поставила сумку с хлебом на дорогу.
Девушка подошла и обняла её. Маруся разулыбалась и стало заметно, что зубы ей, действительно, лучше заменить. Желательно по военному принципу – «всех на всех».
– Ты с родителями что ли? – спросила Маруся.
Ася покачала головой:
– Нет, одна. Одна. Зайдешь вечером? Столько не виделись.
– Как подою.
– Это во сколько?
– В семь-то уж пригоним. К девяти подою. Попрошу Гришку, он меня на мотоцикле довезет.
– Сколько же тебе доить? Коров в смысле, что два часа времени надо.
– Дойных девять сейчас. Но у меня электрические эти… Остальных напоить. Да, ладно, что мы про коров. Вечером поговорим.
– Приходи. Буду ждать.
Четыре года Ася не была в деревне. В последний раз на похоронах деда. Горе тогда обрушилось на неё внезапно и слишком объемно. С тех пор упоминание деревни перестало ворошить в памяти стопки акварельных зарисовок из детства: вот оладушки с яблоками, вот теленок пьет из ведра, которое они с братом еле дотащили до поля, вокруг все зеленое, розовое и голубое, все размыто солнцем и взвесью радости, которая живет в каждом миллилитре воздуха. Обожаемые эти иллюстрации – каждая на своей страничке – слиплись от влажности, нежные краски растворились в соленых ручьях. Ее даже не тянуло в деревню. За это время двоюродная сестра, которая была старше всего на два года, превратилась в старуху. Ася сначала и не узнала ее.
По грунтовке ее тощая двухдверка проехала спокойно, без истерических выпадов. Родители мотались в деревню каждые выходные с апреля по октябрь, поэтому грунтовка была хорошо укатана. Иномарка доехала до сада, перевалилась через два небольших углубления в дороге, проложенных трактором ещё в Асином детстве, проехала мимо широко расступившихся яблонь и остановилась около дома. Вокруг не было ни души. До ближайшего дома – метров двести. Там тоже жили родственники, но сейчас они были в городе.
Багажник щелкнул и легко распахнулся: крышка просто подлетела вверх, потому что закрывала её Ася, как чемодан, упираясь коленками и локтями. Вещи нужно было сразу перетаскать на крыльцо – такое правило.
Крыльцо было широкое и тянулось вдоль всего торца. Рядом с входной дверью группировалась мебель: четыре кресла и низкий столик. Дальше, на терраске за занавеской, стояли два дивана, разделенные столом, и открытая тумбочка с полками.
– Завтракать буду на крыльце, – вслух сказала Ася и залезла рукой под подушку одного из кресел. Пока шарила рукой в поисках ключа, перед глазами картинками разной яркости мелькали воспоминания. Дом остался еще от прабабушки. Он был старый и слабый, поэтому дед решили все сломать, оставив только одну комнату, а вокруг нее построить новые комнаты с крепкими стенами. Денег на строительство особо не было: разбирали заброшенные дома, покупали битый кирпич, обшивали частями старых шифоньер. Каждый год в отпуске отец занимался домом, поэтому он стоял крепко, а со временем стал уютным и даже современным.
Комнаты в доме были проходными: из сеней прямо – кухня, из сеней направо – спальная, потом ещё одна. Ася вошла в первую комнату. Справа входящих отражало зеркало старого – или уже старинного – бабушкиного шкафа. Он стоял в углу всегда, с момента своего рождения. Шкаф не передвигали, даже когда перестраивали дом, он был слишком тяжелый. Слева узкая дверца, за ней – полочки, справа широкая дверца, за ней – деревянная балка для вешалок. Шкаф был абсолютно квадратный, если смотреть на него сверху. В широкую дверцу было вмонтировано зеркало. Ася задержалась перед отражением. Узкие щиколотки с торчащими косточками, такими же сексуальными, как ключицы, если сильно свести плечи, икры с длинной и глубокой продольной полоской по бокам, как у молодой сильной лошади, неровные, все в буграх, но тоже очень сексуальные коленки, бедра узкие – лучше были бы чуть пошире – для симметрии с плечами. Загорелая. На запястье часы с серебристым браслетом и розовым циферблатом. Рука с часами выглядела загорелее другой. Волосы выгоревшие, пшеничные, пушистые. Глаза тоже выгоревшие.
– Тебе в Ниццу надо – бизнесменов соблазнять, а не в глухой деревне прятаться, – сказала Ася отражению. – Хватит страдать: мужиков много, жизнь длинная.
В следующей комнате обстановка была еще привычнее. Это была её комната. В последний раз ее обновляли двадцать лет назад. Ещё дед был живой и вообще как-то всё в её жизни тогда было ещё живо. А сейчас что?
– И сейчас всё прекрасно. Прекрати драматизировать, – снова вслух сказала она. Одной в старом деревенском доме было неуютно. Хотя лет до 17 она проводила здесь каждое лето.
В ее комнате было четыре кровати: две стояли торцом к двери, ещё две – вдоль стен в дальних углах. У каждой кровати – стул, чтобы сложить вещи перед сном. В простенке между окон у дальней стены примостилась старая самодельная тумбочка, а на ней телевизор.
Телевизор стоял здесь и тридцать лет назад. Каждый вечер, пока бабушка убирала со стола после ужина, дед сидел на порожке в дверном проеме между двух комнат: одна была гостиной, объединенной с кухней, другая – огромной спальной на четыре кровати. Гостиную на две половины разделяла печка-голландка. В половине с окнами была кухня. В закутке позади печки, за цветастой шторкой похожей на театральный занавес – синий фон с чередующимися квадратами шахматной доски, желтыми и оранжевыми кругами и полукружьями, – спала Асина прабабка. И вот между двумя этими огромными зонированными комнатами на высоком – сантиметров 15 от пола – порожке сидел дед, курил и смотрел новости по телевизору. И никто ему слова не говорил, хотя дым стоял во всех комнатах.
Пока дед курил и слушал новости, бабушка наливала в алюминиевый таз нагретую на печке воду – мыть ноги. Ася мыла первая. За ней все остальные. Воду не меняли – слишком долго нагревать.
– Человека всегда есть за что посадить в тюрьму и чаще всего за что убить, – непременно говорил дед после новостей. – Пора на боковую. Асенька, вот ты знаешь, что для человека мягче и удобнее всего?
– Подушка, – мгновенно отвечала Ася, не давая себе возможности понять, что в вопросе есть подвох.
– Ты подумай. Представь, как спишь. Вспомни, что под голову кладешь, – подсказывал дед.
Ася перебирала разные варианты наполнения подушек, но все было мимо.
– Это рука, – улыбался дед. – На какой бы удобной подушке ни спал человек, он все равно нет-нет да и подкладывает руку под голову. Пойдемте и мы с вами локоток под голову подсунем и подремлем чуток.
Дед спал на старинном диване с откидной крышкой. Этот диван и сейчас стоит в спальной – отец не разрешает выкидывать. Крышка, конечно, была очень интересная. В детстве ассоциировалась с гробом. Особенно если лежать под ней и ждать, когда тебя отыщет вада. На диване под крышкой – стопроцентное место для пряток. Но искали там в последнюю очередь. Все знали, что там прячутся, поэтому и не искали – слишком предсказуемо. И так каждый раз. На этот же диван бабанька усаживали детей – Асю, её двоюродных сестру и брата, – чтобы назидательно рассказать что-то о боге или спеть народную песню, которая была совершенно не народной, а вполне эстрадной, простой самой любимой у прабабушки. «У церкви стояла карета», – дребезжащим от старости голосом, таким, что уже и не разберешь мужчина поет или женщина, затягивала прабабка унылый мотив. Дети страсть как не любили эти посиделки, поэтому старались в дом без надобности не заходить, чтобы никому на глаза не попадаться. Да и пахло в комнатах чем-то неприятным – кислым и мокрым, вроде как забродившими мочеными яблоками в перемежку с белой земляной плесенью.
Теперь ни пыли, ни затхлости в комнатах не чувствовалось – дом был жилой. Без привидений, плесени и следов прошлого. Даже мыши не водились. Просто Ася с детства боялась всего на свете: воющего ветра и внезапных гроз, историй о сбежавших зэках и сошедших с ума местных пьяницах. Неделю назад она поклялась бы, что никогда добровольно не останется одна ночевать в деревне. Этим утром идея казалась гениальной: никаких случайных встреч, общих знакомых, любимых ресторанов. Здесь даже Интернета нет.
Она присела на свою кровать под огромными портретами прабабки (в голове тут же зазвучал унылый мотив про карету у церкви) и прадеда. Изображения были старинные – то ли фотографии, то ли рисунки цветными карандашами. Рядом – три рамки с россыпями снимков: дети, внуки, правнуки. Кровать скрипнула под ней, как в детстве. Не было такого периода в жизни кровати, чтобы она не скрипела. Это особое состояние – кровать, будто приветствовала хозяйку.
… – Аська, покажи фотографии, – он протянул руку к фотоаппарату, чтобы посмотреть нет ли его на кадрах. Все-таки он офицер в командировке и светиться ни к чему, но и её пугать не хотелось – больно уж впечатлительная. Барышня. Интеллигентка.
– Да так, мелочь… Всё в дымке, ничего ценного.
– А, может быть, я вижу первозданную красоту во всех размытых тобою фото, во всех замятых тобой скандалах и совместно измятых простынях.
– Красиво, жалко, что неправда. Ни одной простыни не измяли.
– Так вся жизнь впереди, – он усмехнулся, но в голосе не было уверенности.
Всё это было, а потом вдруг исчезло. Исчезло очарование неприкосновенности, интрига, от которой сердце заходилось даже у тех незнакомцев, кто проходя мимо попадал в их электромагнитное поле. Исчез весь огромный мир еще не начатых отношений, которые впрочем лежали в колыбели уже согласованной к существованию любви. Он улетел. И даже не обещал вернуться.
В шкафу первой спальни – она помнила точно – лежали похоронные фотографии братьев деда. Мрачная традиция. Ася с детства боялась того черного конверта: развернёшь – а там чужие, но такие похожие лица в гробу.
– Так, постарайся об этом не думать. Всë хорошо. Это твой дом, – Ася говорила громко, как будто на кухне были люди. Однако по комнатам гулял только ее высокий и неуверенный голос.
– Надо занести вещи, разобрать продукты и сварить кофейку.
На крыльце зазвонил телефон. Ася вздрогнула: в деревне такие звуки кажутся тревожнее, чем в городе. Она вышла, недолго послушала, чтобы определить откуда доносится звук, и достала из-под пакетных завалов рюкзак. Звонили с работы.
– Да, Рин.
– А-а-ася, – протянула коллега, и по одному растянутому «а» стало ясно: что-то пошло не так. – Я знала, что так будет! Больше ни за что не соглашусь тебя подменять. Эта овца уже разворачивает свои порядки.
– Что случилось?
– Если бы ты уже прям отдыхала, то я не стала бы звонить, но сегодня только первый день отпуска, поэтому…
Ася работала главным редактором онлайн-журнала о городской жизни. В ее отсутствие обычно хозяйничала выпускающий редактор – бывшая телевизионщица, которая до сих пор играла в «звезду эфира». Её «профессионализм» двадцатилетней давности раздражал даже уборщицу. На этот раз Ася оставила хозяйство на подругу и технического редактора сайта Арину Котову.
– То есть уже завтра звонить по работе ты не будешь?
– Нет.
– Ну слава богу. Рассказывай.
Рина быстро передала суть проблемы, прояснила пару формальностей и бросила трубку.
Чтобы спокойно поговорить по телефону, Асе пришлось сойти с крыльца и сесть на деревянную скамеечку у палисадника. Там была связь и даже немного Интернета. Как только телефон уловил сигнал, на экран полезли уведомления. Спам, рабочие рассылки… Ничего важного. Но одно письмо почему-то попало в «личное». Ася ткнула в него пальцем.
«Очень многое хочется написать и сказать тебе, но это непросто. Я не знаю, что нас ждет, поэтому ничего не могу обещать. Но я знаю точно, что ты раз и навсегда изменила мою жизнь. Никто и никогда так ко мне не относился. Я получал столько тепла и ласки… Обычный человек не может столько давать, но ты и необычная. Ты волшебная. Ты как будто из сказки и превратила в сказку мою жизнь. Я благодарен тебе: ты изменила меня, заставила почувствовать себя мужчиной. Нужным, любящим и настоящим. Я буду по тебе ужасно скучать, но тебя прошу держать себя в руках. Меньше всего я хотел бы сделать тебе больно, поэтому потерпи. Извини, что не сказал „люблю“. Для меня это важно. Как обещание. А я пока не знаю, что будет дальше. Я знаю, что делаю тебе больно, а сказав, сделал бы еще больнее. Но это не значит, что не люблю. Не грусти, что все закончилось, а улыбнись тому, как это было».
Она дочитала письмо и не заплакала. Ася ничего не почувствовала. Нельзя ничего почувствовать, когда не чувствуешь себя, не понимаешь, где ты, не узнаешь предметы вокруг, хотя видела их миллионы раз.
«Вот скамеечка. Вот я на ней сижу. Если я на чём-то сижу, значит, я есть», – думала Ася.
Деревянная скамеечка, выкрашенная в желтый. Выкрашенная… Слово из учебника по русскому языку за седьмой класс. Эту скамеечку они мастерили с дедом, когда Асе было шесть. Это 20 с лишним лет назад. А скамеечка еще крепкая. Тогда бабушка брала скамеечку, ставила под куст крыжовника и собирала странные зеленые с коричневыми прожилками ягоды…
Когда-то 20 с лишним лет назад. Почти 25…
Деда нет. Но, к счастью, есть родители, друзья, работа. А рядом с крыжовником теперь растёт жасмин. Посадил отец, который, наверное, тоже скоро будет дед. Теперь жасмин рядом с крыжовником будет всегда. Куст бывает особенно ароматным перед осыпанием шелковых с перламутром лепестков. Так говорят.
Вот сиди и смотри, и радуйся. Вдыхай аромат жасмина. Только встать все равно придется, чтобы связь пропала. Телефон звонил уже не в первый раз.
– Алло, мам, а здесь вот жасмин. Такой можно в чай или нужен особенный какой-то жасмин, специальный?
– Не знаю, надо у отца спросить. Ты как доехала? Всё хорошо.
– Ага, сейчас кофе буду пить с жасмином.
– Оригинально. Ладно, отдыхай. По возможности позвони.
«Позвоню. Вот почувствую себя и позвоню. А так, как позвонить? Меня же нет…»
Турка стояла в шкафчике и отсвечивала боками. Странно, года полтора ее никто не трогал… Хотя гость – здесь же был гость.
Асе так и не довелось вручную сварить Горану кофе. Хотя каждую ночь она представляла как воскресным утром тихонечко вылезает из-под его руки, надевает его футболку, убирает волосы в низкий пучок, жарит яичницу с шампиньонами, варит кофе и думает, как сохранить обе чашки горячими, если мока рассчитана на одну порцию и варить придется по очереди.
Густая пена, покрытая тонкой кофейной корочкой, начала подниматься. Прошла узкое горлышко, по краям повылазили пузырьки. Вот-вот-вот… еще чуть-чуть. Оп, сняла. Ася не стала доводить кофе до закипания три раза, на это у нее сил пока не было. В чашку тоже переливать не стала, чтоб не остыл. Села за стол намазала городским маслом два больших ломтя свежего деревенского хлеба, который утром купила в автомобильной лавке, разогрела в микроволновке две сосиски, достала печенье и шоколадку. На большой плоской тарелке они вынесла свои детские припасы на крыльцо. Потом вернулась в кухню и перелила кофе из турки в чашку. Дверь в дом решила больше не закрывать. Кому она собственно нужна? Тем более все местные любили ее отца – он наливал – и не стали бы осквернять дорогу к неиссякаемому источнику. А наливал он без повода, к тому же не вел никакого учета.
С кресла, в которое она уселась, было хорошо видно обе дороги, ведущие к дому, и два сада из трех. Прямо перед домом, за палисадником с цветами, росли три новые яблони и несколько каштанов. Эти деревья посадил отец. Справа от дома, чуть на горе, стоял сад, посаженный вообще неизвестно кем. Он был всегда. А слева, в низине, был средний сад. Его высаживал дед. В нижнем саду были яблони, сливы, вишни и груши. Плодов они давали мало. Но каждый год отец уверял, что «на следующий год все будет вусыпную».
Незаметно прошел день. Минуты по отдельности тянулись долго, а день целиком просвистел и унесся ввысь. День прошел, но еще не стемнело. В последние дни августа солнце здесь еще трудолюбивое, долгое. По небу вокруг небольшого белого свечения водили хоровод облака. Они сцепились легкими кружевными воланами и аккуратно кружились, стараясь не загораживать друг друга. Где-то посередине между облаками и яблонями дурачились большие птицы.
Вдруг трепетание крыльев раздалось совсем рядом. Птица села на уголок пологой крыши веранды. Ася поставила чашку на столик, спустилась с веранды на траву и повернулась лицом к дому. На крыше, руку протяни и дотронешься, сидела белая голубка в легкой коричневой накидке на голове и крыльях.
– Ну, привет, – улыбнулась Ася и почувствовала, как глаза увлажняются. Голубка стала прилетать к их дому через сорок дней после смерти деда. Бабушка утверждала, что это его душа приходит навестить родных. Поверить в ее слова было просто, потому что желанно. Тем более дед, правда, приходил в гости – заглядывал на свои поминки. Ася это точно знала. И вот почему. Каждый раз, когда они ехали в деревню, обязательно останавливались около придорожного ларечка, чтобы купить здоровущую жирную селедку для взрослых и мороженое для детей. Селедку продавали в овальной пластиковой банке – бабушка потом отмывала ее и заливала холодцом. Рыбин в банке было несколько: три или четыре. Все с головой, плавниками – не пресервы, а натуральные. Дед ел и нахваливал. Сам всю жизнь был рыбаком, но пойманную рыбу ел как-то неохотно. Хвалился перед другими рыбаками, а есть не ел.
На поминки деда селедку купили в том же ларьке. Ася носила блюда из кухни в комнату, где поставили стол для гостей. Селедочница была одна на весь стол: полная рыбы, укутанной хрустким сочным луком, политой пахучим маслом, посыпанная намолотым тут же перцем. Ася вообще-то не любила соленую рыбу – ей что форель или лосось, что селедка, «воняли». А тут залюбовалась, слюнки потекли, горячая картошка со стекающим по бокам желтым топленым маслом встала перед глазами, – так она замечталась о селедке с картошкой, что не заметила порожек, на котором покуривал дед, и полетела через него, со всех сторон сопровождаемая возгласами. Ася вместе с жирной переливающейся рыбой расплылась по полу в луже душистого масла. А селедочница – рыбья тюрьма – осталась в руке. «Это дед… Себе на стол взял», – сказала бабушка. И сомнений ни у кого не возникло. Соскучился, наверное.
Развивать диалог с птицей после всех этих воспоминаний Ася не стала – вернулась в кресло и вдруг поняла, что пережить ночь, как бы она не хорохорилась, будет сложно. Она боялась ночевать одна даже в городской квартире. Два года жила отдельно от родителей и все это время испытывала дискомфорт, ощущение которого со временем притупилось, но до конца не исчезло. В деревне она боялась ночевать даже с родителями.
«Надо успеть натопить баню и вернуться домой до темноты, чтобы потом никуда не выходить», – подумала Ася.
Она сидела на крыльце, смотрела по сторонам и вдыхала ароматы простой жизни. В деревне пахло травой, опавшими яблоками, сыростью. Она старалась не думать о нём. Вообще не думать. Расчет оказался верным – в деревне, наедине с собой, имея возможность не скрывать чувства, стало легче. Ей не нужно было держать лицо и улыбаться. Она просто сидела и просто смотрела. Где-то внутри болело. Где-то внутри тоска пускала корни, стараясь закрепиться. Острая фаза душевной боли прошла. Из физических симптомов остался только холодок. Он засел за ребра и притих, поэтому жить было можно.