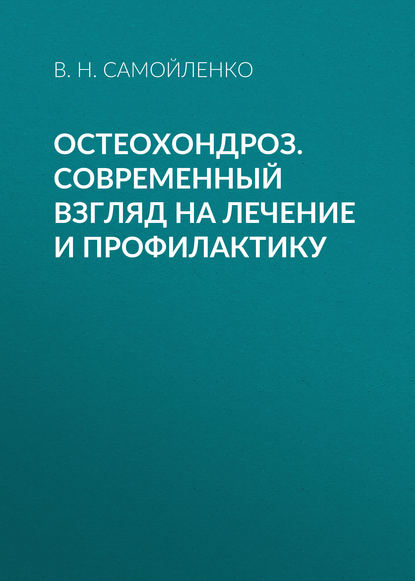- -
- 100%
- +
Поклонников у Машки была куча. Даже среди городских, которые, как и Ася, приезжали к бабушкам на каникулы. Но сама она долгие годы была влюблена в одного единственного – тоже городского – Димку Барышникова. Красавчик с черной косой челкой на красном мотоцикле приезжал в деревню каждое лето, влюблял в себя всех девчонок, но романов не крутил. Дружил со всеми, всем улыбался, видел зазывные взгляды, но взаимностью никому не отвечал. Говорили, что в городе, у него есть девчонка и больше ему никто не нужен. Проверить, правда это или нет, так и не удалось – его семья переехала в Москву. В деревню он стал приезжать реже, а когда умерли бабушка и дед и вовсе перестал ездить – не к кому. Правда, однажды он все-таки целовался с одной девчонкой в деревне. Это было как раз, когда Димка приезжал на похороны деда. Уже взрослые, ближе к двадцати годам, они решили вспомнить детство, и пошли в клуб. Ася знала, как сестра относится к Димке, но ничего не смогла с собой сделать, когда он подошел к ней со шлемом в руке и предложил покататься.
Со стороны их поездка, наверняка, выглядела прозаично, но Ася вспоминала ее, как романтическое приключение, когда ветер треплет волосы (надевать шлем она не стала), спина водителя защищает от мошкары, страха скорости, холода. Они приехали на берег реки и Димка совсем без предупреждения поцеловал её. Поцелуй вышел искусственным. Дружеским – вот как это называется. Они ещё поболтали и Дима отвёз Асю домой. Сестра о том поцелуе вроде бы не узнала. Ася своим поступком тяготилась несколько дней, потом выкинула эту историю из головы. Она вообще с легкостью прощала себе ошибки. Чувство вины или стыда, по ее здравым размышлениям, не имели никакой практической пользы. Они бессмысленны. Надо обдумать ситуацию, сделать выводы и постараться больше ошибку не совершать. Это самый разумный выход. Если просто себя грызть, ничего не изменится. Хотя, изменится – самооценка может пострадать.
И вот, когда сестры после неловких светских любезностей, расселись на веранде, Ася вдруг вспомнила историю с Димкой.
– Осень почти, завтра дождь будет, – сказала Ася, глядя на небо через тонкое стекло огромного бокала, в который, если наливать до краев, умещалась целая бутылка вина.
– Небольшой. Но и то хорошо. Мы ещë картошку не копали – хорошо бы земля помягче была. После дождя помягче будет.
Разговор не складывался: нужные слова пока скрывались за временем и расстоянием. Асе показалось, что они с сестрой уже и не смогут найти общих тем. Слишком далеко живут друг от друга. На разных планетах живут.
Маруся с первого раза не смогла ухватить огромный бокал-аквариум. Потом как-то исхитрилась, вцепилась в тонкую ножку всей пятерней, чтобы верхушка не раскачивалась, и сделала глоток.
– Ммм, вкусно. Сразу чувствуется, что дорогое вино, – выдала она вердикт.
– Пино нуар. Мое любимое. Это сорт винограда. А вино недорогое – обычное. Сейчас за тысячу ничего не купишь.
– Это дорого, – без жеманства сказала Маруся. – Полторашка самогона у нас 150 стоит. Хорошего, на вишневых косточках и лимоне.
– Всë равно воняет, по молодости помню.
– Воняет, – согласилась Маруся. – Аська, а я бы все равно так не хотела.
– Как «так»?
– Ты вот такая красивая, модная, какие-то слова говоришь, сорт винограда там и всë такое. Машина дорогая, работа необычная. Я бы так не хотела. Мне бы страшно было и неловко, люди постоянно кругом, а у меня вон, – она широко улыбнулась, – зубы какие. Я бы стеснялась.
– Привыкла бы. Я тоже стеснялась. И сейчас иногда стесняюсь. Мне вот кажется, что ты жизнь свою просто так тратишь. Сидишь в глуши: ни театра, ни ресторана. Ты море видела?
– Не видела. Вот разве что море и хотела бы посмотреть. Там поди ужи не плавают. Я змей боюсь. Даже ужей боюсь. Они на пруду постоянно. Я поэтому не купаюсь никогда.
– Ну да, в море ужей нет. Но не в этом его основной плюс.
– А в чем?
– Не знаю… Оно огромное, спокойное. Сидишь и как будто на вечность смотришь. Сразу что-то хорошее хочется сделать.
– Значит, обычно не хочется?
– Обычно у меня нет времени об этом думать.
– А ты чем в городе так занята? Ни хозяйства, ни детей.
– У меня ненормированный рабочий день. Когда журнал сдаем, могу до ночи сидеть.
– Это сколько раз в неделю?
– Это два раза в месяц.
– Эх. А в остальное время?
– В остальное – в пять часов домой. Ну, я хожу в бассейн, у меня могут быть встречи с респондентами, я учусь постоянно.
– Ну, это ж все несложно. Не спину на огороде гнуть или снег от коровника убирать.
– Рукам-ногам несложно, а голова к вечеру чугунная. Вообще ученые определили, что среди офисной работы написание текстов – самая сложная и трудозатратная задача.
– А эти ученые картошку пробовали копать?
– Да что ты со своей картошкой? – Ася улыбалась из последних сил. Еë раздражало это топтание, которое даже разговором нельзя было назвать. Она подлила в бокалы вина.
– А чего ты так мало наливаешь, бокалы-то вон какие, огромные. Придумают ерунду. Даже из бутылки удобнее пить, чем из этого.
– Слушай, а ты хоть раз в жизни была в ресторане? – Ася подумала, что этикет, который создавался как раз для удобства, этой функции не отвечает. Он, как и эти бокалы, скорее, для красоты и напыщенности. Неудобно пить из бокала объемом 700 миллилитров. Неудобно, когда нельзя самостоятельно подлить себе ещë вина, как в Японии. Надо предложить налить соседу по столу, и тогда он сделает то же самое. Ну, ерунда какая-то.
– Конечно, у нас с Гришкой свадьба была в кафе в городе. И потом еще ездили на юбилей к его тëтке. Еле вырвались. Всë хозяйство. Уже достал со своим хозяйством.
– Так коровы ваши сами вроде пасутся.
– Сами, ага. Их выгнать надо, загнать, напоить. Мы ж к пруду не гоняем, далеко. И там их охранять надо. За дом Сашка выгоняет, потом на огороде помогает, Ну, не в жар, конечно, после обеда. Гришка в Москву ездит. Особо не помогает. Там в подъезде сидит у богатых. Консьерж называется.
– И сколько он там… сидит в подъезде.
– Две недели там, две недели здесь.
– И чего он две недели здесь делает?
– Да не знаю. С трактором занимается, на рыбалку ходит, подремонтирует чего, если сломалось. Да, как все мужики. Туда-сюда мотается.
– Тебя это не обижает?
– А чего обижаться-то. У всех свои дела. У баб – бабские, у мужиков – мужские. Бесит только, что денег приходится просить. Вот на все. Такой жадный стал. А деньги-то у него водятся. Как Олька рисованием увлеклась, так прям талдычили ему неделю, что надо купить. Без всего-то в кружок не запишут. Денег дал, но уж такую морду скосорылил, что лучше б и не давал.
– А почему ты с ним об этом не поговоришь?
– О чем?
– О том, что ребенка надо поддерживать, что выпрашивать деньги – унизительно, что у тебя тоже есть расходы.
– Да ладно, какие у меня расходы. Это я уж так. Он запчасти к трактору покупает, на еду всегда дает, дрова покупает, сено, если не хватает. Расходов-то много. Детей в школу собрать надо. Это какие деньжищи. А Ольке… Мольберт – три тыщи, этюдник – пять.
Их дом был увешан картинами. Даже в сенях, где Маруся перерабатывала и разливала по банкам молоко на продажу, висели две картины: ее портрет, который Оленька написала, в золотой утренний час, когда мать полола огород по холодку, и казалось бы совершенно чужие виды вьетнамской деревни, где полным ходом идет уборка риса. Маруся не поняла толком, почему Оленьке приспичило нарисовать этих «узкоглазых» женщин, которые на другом конце света также гнули спины, скрывая лица от раздраженного длиной собственного рабочего дня солнца. Чем они ей так приглянулись? По телевизору увидела что-то и давай рисовать по памяти. Маруся росла в деревне. Хоть дочь и пыталась показать ей, да хотя бы в своих картинах, величину мира, Маруся никогда не выезжала дальше областного центра и поэтому никакую величину осознать не могла. Маруся не знала, что где-то там, за рекой и полем, есть Большой театр, древние пирамиды и Рим. Ася знала. И как будто это не делало еë счастливее. Но делало Оленьку, которая тоже знала и про Большой театр, и про Колизей, и была готова распахнуть глаза и душу для любых проявлений многострадального мира.
Уже после нескольких глотков не самого благородного, но очень приятного, как вишневый компот, Пино Нуар, чужеродность, дробившая их разговор на короткие фразы, стала улетучиваться, как улетучивается алкоголь из вина при вращении бокала, прихватывая с собой, вытягивая из глубины, воспоминания о лозах, дождях, бочках и пыльце с недалекой клубничной фермы. Маруся и Ася сидели в соседних креслах и одинаково смотрели вперед. У них было похожее, очень женское, нутро и одинаковое выражение глаз. Они обе хотели большего. Только Маруся не знала названий и почти не распознавала ощущений, а Ася не могла их себе позволить. Две беспризорницы в мире, где все-таки жила любовь.
И хотя у Маруси все было четко – не пил, не бил и даже по-своему уважал, потому что видел, что ей приходится тащить на себе – просвета ситуации явно не хватало. Уважал за физический труд: коров, огород, стол. Знал, как тяжело. Про то, что женщине тяжелее быть ненужной, чем доить коров, он не задумывался. Философских категорий в его мире не было. В их жизни не было изменений, событий, праздников, не было места для мечты или свидания на берегу речки. Все обычно, привычно – как у всех. Даже чуть лучше, ведь еë муж не пил, не бил и даже по-своему уважал.
– Это все его обязанности. Никто ж не заставлял детей делать. Думать надо было.
– Ой, думать. Он хоть и не пьет, а всë по пьянке и случилось. Нет, я не против была. Особенно дочку хотелось. Хотя, когда Сашка родился, думала всё… Не переживу, повешусь. Вот так тяжело было. Внутри именно тяжело, а не ночи бессонные. Помню, как тоска наваливалась каждый день ближе к 16 часам. До четырех было нормально, а потом начиналось. Я рыдала каждый день месяцев пять точно. Вернее, подвывала. Не понимала почему – просто хотела плакать. Сейчас тем более не понимаю – он же всë время спал. Мне было тошно. Мне никто не сказал, что будет именно так. Почему-то вслух говорят только о том, как материнство прекрасно. Все говорят, материнство настолько восхитительно, что просыпаться 40 раз за ночь – счастье. Нет, это тяжело. Всë, что происходило со мной в первый год Сашкиной жизни, мне не нравилось. И даже, когда мы праздновали его первый день рождения, внутри ещë сидела тоска. Но еë уже тогда начала вытеснять любовь. С Оленькой было иначе. Я влюбилась в неë сразу. Об этом мало говорят, но я уверена, что большинство мам не чувствуют любви к детям с первых дней и даже месяцев их жизни. А вот с ней было иначе. Я любила еë ещë до рождения. Еë появление стало для меня ещë и замещением матери, которая никогда меня не любила особо. Оленька родилась сразу такой настоящей и полноценной, способной дарить любовь. Она с детства была такая женщина… Женщина в том, как убирала упавшую челку, требовала сладкого, не могла решить укрыться пледом или нет, или одеялом, хотя, наверное, и тем, и другим или вовсе ничем. Она так любила пельмени и мармелад. Пельмени с кроликом, а мармелад Бековский. Любила, чтобы кукла-доктор-светка заглядывала в рот и говорила, что язык розовый и очень красивый. И книжки читать. Постоянно читать книжки. А лучше читать и есть пельмени с кроликом, закусывать Бековским мармеладом и запивать соком. Когда она была совсем маленькая, купал еë отец. Как-то раз мы с ним поссорились. Даже не поссорились, а так. Когда он взял дочь, чтобы отнести в баню, она заплакала и сказала: «Мама, я с тобой».
– Вот это история. Я и не знала, что всë так.
– Ну, ладно, – Маруся поставила бокал и перевела тему. – А у тебя как на личном?
– Я с Димкой Барышниковым целовалась, – невпопад ответила Ася. – Давно.
– Я знаю, – кивнула Маруся, сделала глоток и улыбнулась. – Мне всë равно ничего не светило. Да я бы и не поехала с ним в Москву. Я на тебя никогда не обижалась. Даже правильно, что целовалась. Я ж после этого и согласилась с Гришкой гулять. Вам назло. Обоим. Сейчас у меня семья. А если б не тот случай, вообще неизвестно как жила бы, так и сидела без мужа до сих пор.
– А что муж разве главное в жизни?
– Муж, дети, хозяйство – всë важно. Как без этого? Да и представляешь, что люди будут говорить. Вон баб Надю Гончаренко так до смерти старой девой и обзывали. Нет уж, я так не хотела бы. А ты фенимистка что ли?
Это слово Маруся услышала, конечно, по телевизору. Была там одна передача… про деревенских в основном. Как они пили, дрались, детей рожали – всё прям по-настоящему. Маруся эту передачу страсть как любила. Вот там однажды героиня и сказала, что муж ей совсем не нужен, потому что она «фенимистка».
Смеяться над Марусей Ася совсем не планировала. Только еë рот, который видимо вином был отключен от сообщения с мозгом, вдруг выплюнул вино на пол мелкими брызгами, как будто бабушка на белье перед глажкой брызнула, мышцы пресса сжались и небольшими порциями вытолкнули вслед за вином воздух. Ася захохотала в голос. Так иногда бывает – не самый смешной инцидент вызывает приступ удалого хохота.
– Кто я? – сквозь остатки смеха переспросила Ася.
Над чем именно смеëтся сестра Маруся не поняла.
– Фенимистка, – довольно уверенно проговорила она. – Чего ты смеешься. Это, между прочим, сейчас очень модно даже в Москве. Я тоже думала, может, такой стать. Чего мне Гришка указывает. Даже разводиться думала.
О разводе Маруся думала не всерьез. Этот вариант Ася, прочитавшая все самые популярные книги по психологии, которые рекламировали блогеры, отсеяла сразу. Просто невротическое сознание подсовывало ей картинки, на которых в будущем она оставалась глубоко несчастной, а подсознание хотело эту ситуацию изменить. Подсознание – не голова. «Ей просто кажется, – рассуждала Ася. – Что они всë-таки не смогут договориться. Она же оправдывает его про себя и находит для этого аргументы. А во время ссоры снова чувствует обиду, злится, что он так неправильно себя ведëт, задевает еë гордость. Потом они оба успокаиваются, но он любую ситуацию поворачивает в свою сторону. Всегда и во всëм прав. Не хочет считаться с еë чувствами и мыслями. И этим формирует у нее чувство тревоги и вины, что в следующий раз она снова поведет себя как дура и бабища. Жить с этим сложно. И самое плохое, что у неë нет человека, с которым можно просто поговорить».
– Развод с феминизмом не связан. Здесь здравый смысл должен решать: плохо – уходи, если любишь и всë равно плохо, то поборись, а потом уходи. А феминистки, по-моему, это просто несчастные женщины. Я вообще против феминисток, – неожиданно решила Ася. Неожиданно, потому что первый раз говорила вслух такие совсем не либеральные вещи. Обычно в обществе она придерживалась прогрессивных взглядов и суждений, но появление в её жизни Горана заставило пересмотреть вообще все представления о жизни. – Я скажу сейчас самую банальную в мире вещь, но я убеждена, что так оно и есть. Если женщина – феминистка, значит, она просто не видела нормального к себе отношения со стороны мужчины. Все остальное противоречит природе, мирозданию: львы охотятся на косуль и отгоняют врагов, львицы ухаживают за детëнышами. Ни одна женщина не захочет быть феминисткой при таком раскладе. Конечно, при условии сохранения уважения. Но это вообще должно быть базовым чувством в отношениях между людьми, – Ася, вытянув губки, сделала глоток вина, чтобы смочить горло и быстренько обдумать дальнейшее выступление. Она, действительно, наслаждалась превосходством над сестрой. Это было дёшево и пошло, но помогало приободриться. – Тем более я не верю в русских феминисток. У нас генетический код по-другому устроен. У нас феминистка только та единственная – десятая девчонка, – которая просто в себя не верит. Она хочет ухватить одного из девятерых, но сомневается в себе, не знает, чем завлечь. Она чуть слабее других. У меня подружка есть, Сонечка. Уж так ей не везет с мужиками, но она сильная женщина, которая видит цель. Не сдаётся, не кидается в крайности. Может быть такое, что Сонечка в итоге останется одна? Нет, это исключено. Еë кусок будет самым лакомым, потому что она уверенная в себе женщина до мозга костей. Как она двигается, недовольничает, собирает на стол: еë движения по хозяйству точные, определенные, без суеты, она встает тарелку мыть и держит еë крепко, и болтать ещë может через плечо. А плечиком ведет – кошка. Возмущается – баба базарная. В ней соединились вообще все грани русской женщины. Пойдет она в избу? Пойдëт! Но только за милым. Мы такие все. Даже самые интеллигентные, даже самые утонченные – тронь наше и в клочья разлетится мир. Мы не можем быть феминистками, потому что у нас в крови – иметь на мужика права. Представь, как ведет себя женщина до и после свадьбы. Замучает же: не так сидишь, не то сказал, меня не позорь, это моя бабуля – будь вежлив. Не так что ли? Русские женщины напрочь отвергают категорический императив Канта. Они никогда не нарушают свободу своего мужчины – нельзя нарушить то, чего нет. Как приходится некоторым отрабатывать за то, что в пятницу с пацанами пиво пьют? Это даже если она не обиделась – неделю терпеть язвительные замечания. А если затаила обиду – вешайся. У нас некоторые женщины хотят, чтобы мужик изменил или сильно провинился. Потому что он потом будет на коленях стоят, прощения просить, ручки целовать, а она будет королевой положения. Нормально это? А это вообще оценивать не надо. Даже примерно прикидывать – умещается в рамки или нет. Бестолку. А вот эта драма вселенская? Знаешь, когда женщина специально хвостом крутит перед другим, чтобы позлить. Нашим женщинам мало злости русских мужиков. Вот этих, которые ни одной войны не проиграли. Они их ещë позлить хотят. Потому что в наших женщинах такие пространства, такие объемы, что им любой злости мало и любви всегда мало. У них океаны внутри. Какие женщины спиваются? Сильные, успешные и красивые. Даже так – самые сильные, успешные и красивые… в своем классе, как машины. Просто в один момент они сталкиваются с ситуацией и всё. Это может быть смерть любимого, невозможность платить кредит на бизнес, измена – то, что, им казалось, у них под контролем. А мужики почему спиваются? Мой дед перед тем, как к бабушке идти денег просить на запчасти для старинного УАЗика, так говорил отцу: «Надо смелой воды хлебнуть». Они спиваются из-за страха перед жизнью. Есть, конечно, другие случаи. Отшибленные. Но это сбой системы. А, может, и не сбой. В жизни мужчины не только жена – женщина. Ещë и мать, и первая любовь, и учительница. У всего есть корни, причины. Если жена эти причины находит и помогает устранить – мужик пить бросает. Ему больше не страшно. А если нет, то извините. У нас полный матриархат, феминизм сильно мельче нас.
– Аська, ты чего так завелась. Я суть поняла, конечно. Я ж пошутила, что ты эта… эта фени…
– Да ну тебя, фени, хозяйство, семья. А достоинство где? Как с ним в постель-то ложиться – с тем, кого не любишь?
– А это дело и вообще нехитрое. Глаза закрыл и представляй, кого хочешь. А Гришка у меня ласковый. Да и что стерпится-слюбится не зря говорят. Так и есть. А любовь, достоинство… Не знаю, что это. Есть они – нет. Так можно всю жизнь прождать. А если не судьба?
– Не судьба… – повторила Ася. – А бывает, что и любовь, но все равно не судьба.
– Женатый что ли? – догадалась Маруся.
Ася кивнула:
– У меня ведь эклеры ещë есть. Машкаааа, это кайф. Хотя они не эклеры, а профитроли.
– Неси, – Маруся кивнула резко, будто просто голову на грудь уронила.
«Разморило. Сейчас должно поинтереснее стать», – заметила Ася, пока ходила за пирожными. Она вынесла на веранду большую тарелку с буграстыми комочками, заполненными облачками сливок. Она обычно откусывала верхнюю корочку теста, языком доставала весь крем, а потом доедала подмякшее основание.
Маша откусила верхушку профитроля, слизнула крем и вернулась к разговору.
– Я почему не стала обижаться на тебя, не стала ему что-то говорить, хотя он же ко мне ходил и звал с собой, и просил подумать, – вернулась Маруся к любовной теме. – Да потому что я нет никто – баба деревенская. Образование у меня – 9 классов и техникум. А он, если с ребятами никуда не пошёл, всë книжки читал в гамаке. Как это называется, он мне говорил… Эстетика русской деревни: оконные рамы, яблони, сирень. Я из деревни, у меня ни длинных ног, ни томного взгляда, книжек умных я не читала, одну Полякову. Нельзя вот так взять и смешать два мира. Что я в Москве делать бы стала, я ж не знаю, как по правилам в театр ходить. Я бы его позорила, он бы терпел, потом устал терпеть. Мне Гришка ровня, а я ему.
– Нет, никаких правил, – Ася не знала, что ответить сестре. Сказала, первое, что в голову пришло.
– Чего?
– Нет, никаких правил, похода в театр. Приходишь и смотришь. Молча и вдумчиво.
– Ну да, – теперь Маруся не нашла других слов.
Маруся не задумалась над тем, почему она не нашла нужных слов. Ася задумалась. Нельзя смешивать два мира. Нельзя смешивать два мира. Ни один не лучше и не хуже, просто в крабовый салат рис можно, а в оливье – ни за что. Это как взять ситцевый платок и приколоть к вечернему платью – вроде и красиво, а всем неловко. Это два разных мира. Они ели профитроли и запивали их классическим вином из винограда сорта Пино Нуар. Или смешивать можно даже миры? Как вино из Пино Нуар с этими дурацкими пирожными… Кажется, это называется фьюжн.
* * *
Катерина поставила на стол массивный фужер густого кобальтового стекла – тот самый, что Ники привёз из Сирии после свадьбы. Купил у старика, в доме которого отсиживался несколько дней, прятался от кого-то. От кого именно Катерина не знала. Даже не спрашивала, потому что муж все равно лишь отмахнулся бы и промолчал. Двадцать лет назад у старика была сувенирная лавка, но её уничтожила война. Остались кое-какие вещи – те, что старик хранил, как последние свидетельства мирной жизни, той жизни, в которой было место тяжеленным фужерам кобальтового стекла.
Катерина допила вино, но на дне еще оставалось нежности. Она по-прежнему приходила домой и сразу стирала помаду, становясь простой и понятной. Он никогда не любил помаду. Они были уже далеко, но она стирала помаду, потому что… а вдруг. Нужно быть готовой к моменту, поэтому она всегда стирала помаду.
Он приходил уставший. Разочарованный. Курил молча. А потом просил нежности – без слов, просто взглядом. И тогда у неё на шее оживал жемчуг. Она стягивала водолазку, давая ключицам чуть-чуть свободы.
А после опиралась локтями на стол, зажимала между пальцами хрустальную ножку бокала и смотрела, как он курит. Всё ещё без пуловера, но уже в джинсах. Она смотрела, как он курит, и думала, что Кьянти не бывает кислым. Оно – ванильное, корично-дымное, вяжущее, как его сигареты
На полке напротив стола стоит фотография в замысловатой, вылепленной из глины и раскрашенной в стиле марокканских улиц, рамке. Эту рамку он тоже привез с Востока. На фотографии ему – 33, ей – 25. Она счастлива, он говорит по телефону, торопится, нюхает её макушку, намытую французским шампунем, не хочет уезжать и всё равно уезжает сразу после того, как фотограф делает снимок.
Долгое время все было, как на этой первой их фотографии – единственной свадебной. Он приходил. Она была счастлива. Он говорил по телефону, торопился, нюхал её макушку, не хотел уезжать.
Катерина вынырнула из воспоминаний и допила вино, но на дне ещё осталось немного нежности до его возвращения. Другого исхода она принимать не хотела. Он есть. Он будет. Пусть даже образом в её голове. Она ему и подарок на день рождения купила. Или как теперь говорить – на годовщину?
Иногда ей казалось, что они и не жили вместе. Его квартира с видом на город никогда не была их общей – Катерина съехала после того, как его в очередной раз ранили. Она просила его уволиться, чувствовала исход. Всё чувствовала.
Её квартира смотрела на сосны. Зимой, когда солнце всходило поздно и лениво, а она также поздно и лениво просыпалась, они могли даже встретиться взглядами. Катерина успевала захватить то мгновение, когда солнце еще имело строгие очертания, когда лицо его еще не расплывалось, а цвет, отражавшийся в стволах сосен, еще был насыщенным и понятным, был еще цветом, а не просто свечением, которое за несколько минут растворялось в пушистых иглах. Так наступал день. Катерина это время любила.
Если бы у нее кто-то когда-то зачем-то спросил, какая у нее самая любимая картинка в мире, она бы ответила, что это растворяющееся в соснах белое зимнее солнце.
Она еще постояла у заляпанного окна, помыла коту лапы после прогулки, стерла помаду с губ, перелистала вчерашние, сохнущие на подоконнике акварельные эскизы и хотела уже заплакать, но вспомнила, что плакать никак нельзя.
Катерина включила на ноутбуке шум волн, отключила экран и ушла в себя. Потому что внутри себя, в самой глубокой глубине души, можно было встретиться с ним и поговорить.