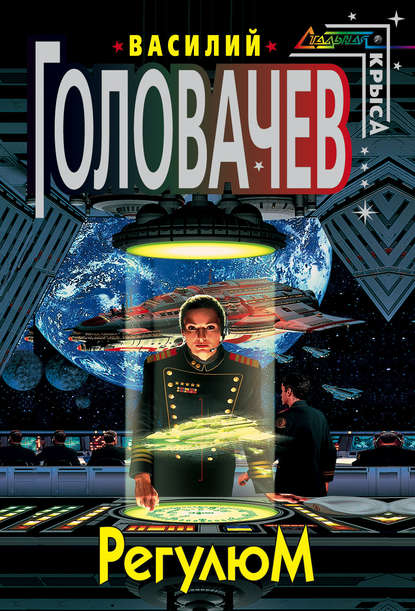Орган и скрипка

- -
- 100%
- +
От гимназии богадельню отделяло несколько верст или около того: Джоанну не влекли прогулки возле обители, где кто-то неизлечимо болел, сама мысль о таком исходе, пусть даже для незнакомого ей человека, бросала ее в дрожь.
Дорога, ведущая к гимназии, брала крен намного раньше, по ней Джоан и бежала, пока наконец из-за деревьев не показалась высветленная, бледно-медовая крыша, из-за кустов – неприветливое основание, из-за клыкастого, но аккуратного забора – цельное здание. Неслась она так быстро, что не удостоила его и взглядом, только уловила какое-то раздражение, полившееся из занавешенных окон двухэтажного ученого стяжателя, накапливающего в себе книги, знания, обиды и пухнущего со скуки, гордыни и подстрекательств.
Запнувшись о крыльцо и чуть не потеряв туфельку – так уж шло по жизни, что Джоанне часто случалось терять обувь, – она перемахнула через порог и оказалась внутри.
Глава 3. О законе Божьем
Пусть боится Бога тот выдумщик, который верует, что в напутствии, обучении и дрессировке юных особ наставницам всегда сопутствует попутный ветер. Река познания тиха только в императорских газетах, когда в действительности синявочки (их милейшие синие платья послужили поводом для прозвища) тащат образовательный процесс, как бурлачки. Со всей неприглядностью сорванных жил, туфелек, утопающих в подмываемой почве, мозолей на руках и коленей, груздеобразных от артроза.
Тонкая речушка, какую прежде можно было перейти вброд, разлилась Волгой, точнее сказать, бесноватой ее двойницей. На одном берегу – знания и Бог, на противоположном – понятные всем желания, девичья прыть, развлечения и баловство.
Острый ветер сметает песочный замок свободы. Оно и было бы не так страшно, если бы между двумя берегам пролегал мост, но синявки, институтские горлицы, бросаются на учениц стаей, чуть только повеет свободолюбием; хлопают янтарно-бурыми крыльями и курлычут, наседничают. Чего стоит только их убийственное внимание до невинных ростков межполового общения, когда гимназисты и гимназистки, расположившиеся в учебных тюрьмах неподалеку, бегают сговариваться через живую изгородь, которая для них выше Вавилонской башни.
Моста нет, бешеная Волга бурлит, вместо понимания плывут по ней суда с зерном раздора и невольницами в коричневых, а то и в пурпурных, а то и в зеленых платьях: в какой цвет не облачайся, все равно свобода смотрит мимо.
Когда перед любой такой девочкой или уже девушкой, с ранних лет привыкшей к строгим порядкам, но в тайне на них озлобленной, стоит выбор без выбора, любое разнообразие принимает она с охотой, будь то беготня от смотрительницы, сплетня или срыв урока. Худо приходится тем, кто является таким разнообразием. "Выбор без выбора" Джоанны был возведен в абсолют. С первого дня своей гимназистской жизни сталкивалась она с притязаниями на грубое изучение ее чертогов и устройства ее необыкновенного существа.
Она шла по однотонным коридорам гимназии, месила туфлями серость недружелюбных полов и пронзала дикарскими глазами стены. Вдоль них, на сгибах, удерживающих двери, росли цветы, но не было в них ни цвета, ни красоты. Вытравленные рисунки напоминали призрачные барельефы на занесенной пеплом Помпее. Стремительные шаги отбивали ритм, в такт которому брынчали непокорные струны.
– Опаздываешь, Павлова! – крикнула ей синявка.
– Знаю, Маргарита Фрозьевна, – бросила Джоанна, увидев, как женский силуэт прокружил мимо нее васильковой юлой и скрылся в бесконечности мрачных анфилад.
Она не опаздывала, а спасалась. Ее взросление прошло не в обсуждении любовных свиданий, домашних хитростей, и не было оно озарено девичьими улыбками, не было ему присуще кокетство и смущение от модных дефиле, устраиваемых подругами, и никто не учил ее, как держаться, чтобы завлечь будущего супруга, ибо когда вставал вопрос, кто скорее выйдет замуж, все кричали: "Кто угодно, но не Павлова!" И чем позднее она приходила, тем меньше оставалось времени на перемывание ее музыкальных костей.
Одним только это спасение было чревато: гневом учителя.
Классная комната женской гимназии. Полуденный свет лился сквозь высокие стрельчатые окна, выхватывая частицы пыли, танцующие над рядами дубовых парт. Двадцать учениц в строгих коричневых платьях с белыми воротничками сидели, склонившись над тетрадями. Над кафедрой из темного дерева возвысился, по-старчески склонившись, кипарисовый силуэт. С благоговением перелистывая страницы писания пыльными подушечками, он, вековечный страж святых устоев, только казался старым. Пыльное зерцало окна подсвечивало его точеные плечи и изящную спину, а луч, бьющий в затылок, рисовал вокруг него полупрозрачное гало. По-ящеричьи невозмутимый взор испепелял дев ожиданием, и льдины, смерзшиеся в моложавое лицо, давали трещину, впуская благосклонность, всякий раз, когда в восторженных зеницах встречались с пляской кокетливых бесят. Тридцать два года, почти возраст Иисуса. Если бы не килевидная грудь и предрасположенность к бронхитам, в его внешности не было бы почти ничего от паломника.
Степан Мартынович Рубанов, преподаватель словесности и закона Божьего, вновь защипнул страницу массивного фолианта – "Основы Нравственного Богословия". Голос его звучал мерно, как колокол в тумане.
– …И посему, девы, чистота помыслов есть щит против искушений плоти. Помните: тело – храм Духа Святого, а не… – он поднял взгляд и обвел ряды опущенных голов.
Дверь отворилась, припозднившаяся Джоанна вбежала на свое место.
Рубанов посмотрел на нее с невозмутимостью наставника, свет бился о его круглые окуляры, скрадывая цвет очей. Третий ряд, у окна.
– …не цитра бесовская!
Пропустив колкость мимо ушей, Джоан опустилась за парту, махнув гривою темных прядей, как вороная лошадь. Розалия уж сидела здесь – единственная подруга, примерная девушка в толстостекольных очках, кротовьим зрением и мышиным пучком на голове.
– Опять с распущенными? – шикнула она и тут же принялась суетиться, выискивая шпильки.
Джоанна ласково перехватила и отвадила ее руки.
Оставшись на свободе, тяжелые волосы взвились и пружинисто покачались на плечах, на скудно намеченной груди и лопатках. Свет рисовал полосу на оливковой коже. Многие шутили, что она цыганка, но это было не так: плоть перенимала темноту эбенового дерева, врезанного в грудь.
Степан Мартынович Рубанов был выходцем из семинарии или других погребов духовного сословия, которые представляли для Джоанны не больший интерес, чем точные науки, вроде алгебры. Легион богобоязненных словесников тем и был занят, что фланировал по улицам города, проникал в учебные заведения и вел свои проповеди, не забывая напоминать, как богомерзки люди с инструментом у сердца, как противны они природе и что их за людей вовсе нельзя считать. Недочеловеки, "живые инструменты". Именно из-за таких кляуз и стигмы, кровоточащей на теле общества, родители отказывались от музицирующих детей, чинились зверства и проводились подпольные операции по отъему ненужного, отчего возникала и полнилась уже другая армия – армия людей с изувеченными телами, загубленными талантами и отсутствием смысла жизни. Ей повезло, что ее родители не допустили даже мысли о том, чтобы вырвать струны. Но другим повезло меньше.
Она читала закон Божий, в детстве Библия лежала у изголовья ее кровати. Степан Мартынович был херувимом – близким к Богу посланником, разносящим Его идею, однако снисхождение его на землю часто знаменовало кару и беды для простых людей. Несмотря на тонкость стана, вытянутость и легкость своей фигуры, ходил он с тяжелой одышкою, видно, тяжело переболев бронхитом или заимев какую другую проблему с дыханием. Его легкие словно не расправлялись до конца, в отличие от крыльев, незримо стелющихся за спиной.
– Что за дерзость.
Голос, что звучал ровно во время чтения, стал резким, как удар кремня о сталь. Все ученицы вздрогнули и повернулись туда, куда устремился ртутно-серый взгляд – на Джоанну Павлову. Она сидела чуть боком, ее густые волосы, словно живое облако, частично скрывали лицо.
Но Степан Мартынович видел. Видел едва заметную, почти изящную асимметрию ее левой ключицы, где под тонкой шерстяной тканью платья угадывалось нечто твердое, изогнутое – верхний завиток скрипичного эфа. И еще… он чувствовал. Едва уловимый, горьковато-смолистый запах канифоли.
Он сделал несколько тяжелых шагов вниз, с кафедры, его сутана из грубого черного сукна шуршала по полу. Сапоги глухо стучали в такт. Остановившись в двух шагах от ее парты, Степан ощутил, как напряглось и замерло тело классной комнаты, где каждая девчура была нервом.
– Павлова, встань, – ледяное презрение поколебало теплоту замерших дыханий.
Джоанна боялась не его и даже не остроты его слов, которые впивались в нее, как когти Геенны Огненной. "Гиены" – любила она говаривать, представляя, как смеется и скалится огненное чудовище, похожее на собаку. Джоанна боялась выговора за опоздание и следующее за ним наказание, отягченное очередной размолвкой на уроке Основ нравственности.
Она медленно поднялась. Будучи выше многих своих сверстниц, все равно запрокинула голову, чтобы встретиться с испепеляющим взором. Ее глаза – огромные, невероятно зеленые, как лесные озера в сумраке – смотрели без страха, но с глубокой внутренней сосредоточенностью.
– Видите пред собою, девы, олицетворение падшей природы, – Степан Мартынович обращался к классу, и ярость его голоса звучала грозовым горнилом. Он не избавил Джоанну от остроты своего взгляда, даже когда ее тонкие пальцы непроизвольно сжали ткань платья как раз над тем местом, где скрывался эф. Этот жест, этот инстинктивный жест защиты богохульного инструмента, вызвал в нем волну такого острого, знакомого отвращения, что он не остановил поток словесных взысканий, дав им волю. – Нечистота, прикинувшаяся человеком!
Не дрогнув, он указал прямо на ее грудь, на место, где скрывалась скрипка.
– Эта вещь, что ты носишь вместо сердца… Она не от Бога. Она – шепот лукавого в утробе материнской. Искажение Его святого замысла! Она делает тебя сосудом скверны, Павлова. А ты еще и смеешь опаздывать. Ты лишена не только человечности, но и совести.
Ее губы чуть тронула едва уловимая дрожь. Не от страха, нет. Это была вибрация. Как струна, задетая легчайшим ветерком. Верно, поняв, что мыслями его завладевает гнев, Степан почувствовал странное, глубокое содрогание в собственной груди, будто огромный, спящий внутри него колокол отозвался на этот скорбный зов. Все же перед ним было живое существо, с пагубной природой которого ему приходилось сосуществовать.
Он резко отвернулся, спрятав внезапную бледность лица, и тяжело пошел назад к кафедре. Его спина напряглась, как натянутая тетива.
– Разве не главным чтится правило не упоминать Господа всуе? – глухо напомнила Джоанна, пока Розалия, ее приятельница и соседка по парте, держала ее за руку, через прикосновения умоляя излишне не дерзить. – Мое устройство не касается учебного предмета. При всем уважении, Степан Мартынович, вы не может обращаться со мною так.
Безликие головы обратились к ней, и она смежила веки, почуяв, как стилеты презрения впиваются в ее кожу, недостаточно светлую, чтобы считывали ее аристократкой; в волосы излишне непослушные, вдобавок распущенные из буйства и непокорности, к коим все привыкли; к эфу скрипки, завиток которого трусливо выглядывал из-за ворота. В груди ее тряслась и дрожала сердечная струна.
– Завтра же принесешь сочинение, – сказал он сдавленно, глядя в стену. – На тему: "Почему носитель инструментального изъяна не может считаться чистым сосудом Духа Святого". Три страницы. И чтобы… без фальшивых нот в мыслях. Пиши сухо. Как летопись грехопадения, – он схватился за край кафедры и угрюмо вздохнул. – Поскольку до конца урока осталось…
– Я не стану этого писать, – Джоанна прервала его, сердито округлив глаза. В изумрудную зелень нечеловеческой красоты, в пилигримские кущи салатово-синих зеркал ударил слепящий свет, и лик преподавателя, моложавый, высокоскулый, как у мраморной статуи, показался в эллипсе солнечного нимба, брошенного в оконное стекло. Бог несправедлив, когда дарует скоту ангельскую внешность. – Не стану.
Ее глаза – два изумрудных ножа.
Пылинки в солнечном луче, пронзившем окно, остановили свой танец. Розалия уже сильнее стиснула руку Джоанны, ее очки съехали на кончик носа. Степан Мартынович стоял у кафедры, залитый тем самым ослепительным нимбом света из окна. Лицо, лишенное морщин, сейчас было искажено чем-то большим, чем гнев – холодной, каменной яростью. Его широкие плечи под грубой сутаной напряглись. Развернувшись, он прошествовал вперед, и его дыхание, всегда чуть хриплое, стесненное, стало отчетливо слышно – короткие, свистящие вдохи.
– Что значит… не станешь? – переспросил он, и голос его был тихим, как шипение раскаленного железа, опущенного в воду. Затем он медленно, словно преодолевая невидимое сопротивление, прошел в глубь классной комнаты.
Шаги были тяжелыми, но не из-за веса тела, а из-за того, что каждый вдох давался с усилием. Он остановился перед ее партой, отбрасывая на нее длинную темную тень. Его пальцы с широкими, плоскими подушечками белели, сжимая край парты. Запах ладана смешивался с едва уловимым металлическим оттенком – запахом крови в насквозь больных легких.
– Ты осмелилась, – и сделал еще один короткий, хриплый вдох, когда его взгляд, голубой и беспощадный, как зимнее небо, погрузился в изумрудные озера, – осмелилась учить меня… богословию? Здесь? В моем классе?
Сердце Розалии стрекотало ничуть не хуже струны, Джоанна отпустила ее взмокшую руку и скованно кивнула, напустив на лик туман невозмутимости.
Степан Мартынович кашлял, и хрип его нутра отчего-то ужасал ее сильнее сказанных им слов. "Иррациональный страх, – так бы выразился ее отец, – был свойственен первобытным нашим предкам. Есть чувства, причина зарождения коих состоит в преемственности опыта поколений. Поэтому если охватил тебя беспричинный ужас, знай: в этот миг эпохи потеряли свое значение, пространство и время стали единым целым, и ты постигла то, о чем не ведаешь, но что хорошо тебе знакомо".
"Наверняка это боль", – припомнив его слова, подумала Джоанна.
Но какой бы силы ни была боль, она не давала права на унижение слабых и подчиненных.
– Твое "устройство", Павлова, оскверняет само воздух, которым мы дышим, – Степан Мартынович наклонился, приблизив лицо к ее лицу.
Его дыхание, затрудненное, горячее, пахнущее чем-то чуть горьковатым – пылью старых книг и сдерживаемой яростью, – коснулось ее кожи. Джоанна не отводила глаз, видя в его зрачках не просто гнев, а что-то дикое, паническое, загнанное в угол.
– Оно – плевок в лицо Творцу. И ты… – тут голос сорвался на хрип, Степан выпрямился, откашлялся, сжав кулак у рта. Кашель был глухим, булькающим, неестественным. Когда он опустил руку, на тыльной стороне остался легкий влажный след. Гнев действовал на него разрушительно. – …ты смеешь говорить о правилах? О священных правилах? Ты, ходячая мерзость? Ты, чье сердце бьется в такт мелодии бесовских плясок?!
Он ударил ладонью по парте. Гулкий стук заставил девушек вздрогнуть. Розалия вжалась в спинку стула.
– Вон! Вон из класса, пока я не позвал смотрительницу и не велел выдрать тебя розгами за кощунство! Твое место – не за партой! Твое место – на исповеди, в слезах и в грязи покаяния! И сочинение… – он задыхался, его лицо побледнело под загаром, пальцы судорожно цеплялись за дерево парты, как будто ища опоры. – Ты напишешь! Или завтра же будешь представлена перед советом гимназии как неисправимая! Марш!
Выслушав гневную отповедь, Джоанна молча встала. Оправила коричневое платье, скрипнула эбеновым корпусом и, набросив на грудь непозволительную роскошь распущенных волос, направилась к выходу из класса.
Дверь захлопнулась за ней, отрезав последний взмах каштановых волос. Смешки, как крысы, зашевелились по углам класса. Степан Мартынович стоял у опустевшей парты. Воздух внезапно стал густым, как деготь. Грудь сдавило знакомой, ненавистной тиской – будто невидимые клещи сжимали ребра. Каждый вдох требовал усилия, превращаясь в короткий, хриплый всхлип. Он поднес платок ко рту, сглотнув соленую горечь, подступившую к горлу. Не сейчас. Только не сейчас, не при всех.
– Тишина! – резко обернувшись к классу, продекламировал он. Голос сорвался на непривычно высокую, сдавленную ноту. – Молчать! – новый приступ кашля прогрохотал в груди, глухой и мокрый. Он сжал кулак у рта, чувствуя, как влага пропитывает грубый лен платка. Глаза девушек округлились: не от насмешки, а от внезапного страха. – Кто издаст хоть звук – разделит участь Павловой! Маргарита Фрозьевна! – Степан кивнул на порог, где замерла привлеченная шумом наставница. Даже задыхаясь, он все еще пытался звучать повелительно. – Проследите за порядком. Самостоятельное чтение… глава шестая… "О смирении и послушании".
Каждый шаг к двери отдавался болью в висках и жжением в легких. Нога предательски запнулась о ножку парты. Он едва удержался, ухватившись за холодное дерево, пальцы побелели от напряжения. В глазах поплыли черные пятна. Нужно было уйти. Сейчас же. Пока не упал. Пока кто-нибудь не увидел этот позорный приступ слабости.
Глава 4. Фотография
Благая коридорная прохлада – Степан Мартынович испил ее, глотнув воздуха с тихим стоном, и прислонился к стене, такой же усталой и выцветшей, как и его лицо. Когда-то на нем тоже был орнамент гвоздик и тюльпанов, но пышная пора молодости отцвела, оставив пожухлые листочки. А на стене – затертые узоры и щербины, окаянные годы никого и ничего не щадят: ни материю, ни душу. Чуть только замедлится ход жизни, сведет с накатанной колеи нежданный приступ или расстройство, и разум тут же начинает обдумывать все нажитые идеалы, принципы и воззрения, через деятельность цепляясь за осознание яви, будто в противном случае он не существовал. И вот уже юность не заводь незабудок и не радуга робких первоцветов, а дерзость, буйство, ненавистная сердцу проказа.
Степан Мартынович промокнул лоб тем же платком, которым утирал рот, а потом брезгливо поморщился. Много таких людей, как он: тех, кто живет от дела к делу, с перебитыми хребтами и немощью, покончившей с плотью и теперь разъедающей дух. Отдых им в тягость, потому что тогда-то и прорываются наружу мысли, в разной степени паршивые, но неизменно печальные, и их поток не унимается, пока измотанный разум не находит себе новую деятельность, затейливую или совсем бессмысленную, но деятельность.
Его голова повисла, и в скорбном расслаблении сухое лицо показалось совсем мальчишеским, но эту поразительную игру света и тени увидели лишь поблеклые стены. Степан Мартынович совсем разучился отдыхать, да и не было у него такого желания, зато у девушек его было хоть отбавляй: все, что угодно, лишь бы не учиться. Сделав несколько шагов, держась за стену, он остановился перед пятнистым полотном в деревянной раме. Оно рябило, как тени, отбрасываемые древесной кроной. Степан подошел к нему, встал напротив и присмотрелся. Никакие не пятна, а двадцать коричневых платьев на серой фотографии. Двадцать сосредоточенных лиц с глазами статуй, невыразительными губами и чарующей хмуростью. Девять пучков, десять кос, и только у одной распущены локоны, чтобы скрыть колодки и загиб эбенового грифа с обратной стороны шеи.
Справа от Джоан, как коротко ее называли, стояла Розалия Воскресенская – первая и единственная ее подруга. Худая, даже хрупкая, малокровница вроде как с подтвержденной анемией, всегда пахла чем-то кислым, а на прикосновение была скользкой, как молочный студень. Редкие светло-русые волосы были слегка растрепаны даже на парадном фото, вдоль по-мышиному оттопыренных ушей свисали тонкие пряди. За бледность и тонкость ее дразнили молью. Но если внешне Розалия была невзрачна, то дух ее цвел под стать имени, и окном в благоухающий розовый сад служили большие голубые глаза с мечтательным и как бы вечно оценивающим взглядом – дань мещанскому происхождению. В первые три года, когда по мере роста и вытяжения тела струны Джоан соскакивали с крючков и путались, вызывая приступ острой невралгической боли, Розали спасала ее тем, что спицевидными своими пальчиками распутывала их, и потливость рук здесь была ко двору: на влажных подушках струны скользили лучше.
Была она первоклассной вязальщицей и пряхой, бабушка научила ее, как тянуть лен на веретене, поэтому Розалия быстрехонько справлялась с узлами и доставала зажеванные струны из пазов межреберья, пока Джоан отвечала ей хныкающим звучанием. На указательном пальце Роза носила симбирцитовое кольцо – в память о бабушке. Единожды оно соскочило и свалилось Джоанне в грудь. Девушки после долго смеялись, обсуждая это.
Выше рядком, как бы между ними в порядке шахмат, пристроилась темноволосая девушка с пасмурно безотрадным лицом и немного отвислой губой, как будто она всегда выражала неудовольствие и брезгливость к чему-то, а может и ко всем окружающим. Это Лизон Козлова, интеллигентка в первом поколении, дочь не то крестьянина, не то разоренного мещанина. О судьбе и жизни своей предпочитала не говорить, жестко пресекала всякое обсуждение, затрагивающее ее юдоль. Добросовестная, но не блестящая ученица, которая отдавала ровно столько сил, сколько было нужно, чтобы урвать себе достойное место в жизни. Гувернантка или домашняя учительница в каком-нибудь селении – ее потолок, она принимала это и была благодарна. Ее крупное, усеянное веснушками лицо все время казалось грязным, либо камера так его изуродовала, зачернив солнечные мушинки до пигментного налета. По росту она была вровень с высокой Джоанной, но заметно крепче и шире раскинулась в плечах.
Если кто и преуспевал в неприязни к «живым инструментам», то именно Лизон: одного из шестерых детей ее семейства, мальчика-виолончеленка из красного дерева, родители разобрали и продали, когда было нечего есть. Музыкальные дитяти не выбирали, у кого рождаться, инструментальные тельца их порою были сбиты так дорого, что представляли большую ценность, поэтому нередки были случаи, когда родители растили ребенка именно как инструмент, чтобы выгодно пристроить (часто неживого и по частям), когда устройство его раскроется в полную силу.
Неразговорчивая Елизавета сама сделала эту историю достоянием общественности, когда, оттаскав строптивицу Джоан за космы после отказа помочь с заданием, сказала, что только на лом «бесовские дитяти» (она смешно поставила ударение на и) и годятся. Мол, толку и пользы больше нормальным людям. Во время разбирательств сама Джоанна и словом не обмолвилась о ее истории, только сказала, что запомнила волчью тоску в глазах Лизон. «Застарелая, ею отвергнутая боль тогда прорвалась вовне, и в темноте этой скорби Козлова бродила кругом вместе со своими призраками, как безысходный волк, решивший измотать себя до смерти. В ней не гнев сидел, а мука».
Далее, как чайная пара, по левое плечо Елизаветы и рядом друг с дружкой стояли София и Варвара Глухарины. Сестры дворянского происхождения, единовременно рожденные, но поразительно разные. Софа, София, просто Со искренне увлекалась науками, в особенности историей и литературой, была идеальной гимназистской, насколько только можно вообразить идеал в месте погребенного девичества и постоянной муштры. Ее правильное лицо со спокойными серыми глазами почти изнуряло добротой и околдовывало отзывчивостью, позволяющей ее пухлым губам посылать маленький воздушный поцелуй при каждой улыбке, а ресницам – топорщиться по-кукольному.
Сестра Варвара не была полной ее противоположностью хотя бы потому, что была так же красива и замечательна. Точно так же. Не сыскать в мире двух одинаковых снежинок, а девушки нашлись: поначалу отличить одну от другой можно было лишь по цвету ленты в светлых волосах. Внешность Софии полностью описывала внешность Варвары, и наоборот.
Свет и тень, мягкость и жесткость. Их вечное противостояние началось в первые дни жизни, когда на губы одной сестры легло имя легкое, как перо. София – выдох, весенний ветер, жасминовый аромат в приусадебном парке, кроткая синица. Но тут щебет желтогрудой птички прервало карканье.
Вар-вар. Варвара – скрип колес, удар копыта о мостовую, крик алчущей вороны или голодной чайки. Да и созвучие имени со словом «варвар» не прибавляло девочке покладистости и послушания.
Воинственные начала, не прямая, но духовная близость с викингами, варварами и другими воителями обнаружили в ней талант к верховодству. «Варварка-дикарка» – так ее прозвали. Не было ничего удивительного, что бунтующая Варвара, голодная до запретных знаний и «неодобряемой» литературы, задирала всех, кто не приходился ей по сердцу. Ее серые глаза с насмешливым живым блеском казались не человеческими, а лисьими. Пока она, пылкосердая, но жестокая дриада в безупречном переднике, досаждала очередной жертве, ее сестра, известная своим состраданием, готовилась стать храмом и утешением для всех обиженных. Этакая Айя-София, соседствующая с Некрополем.