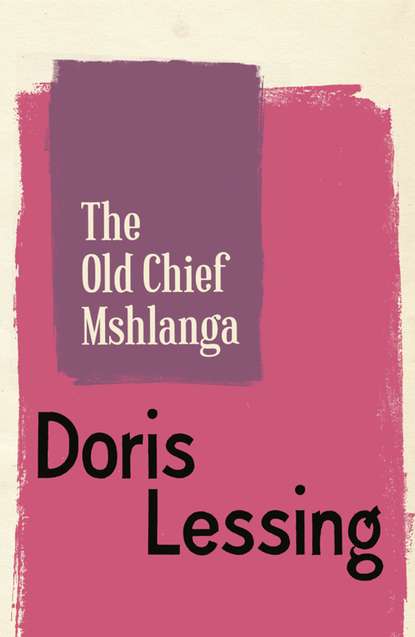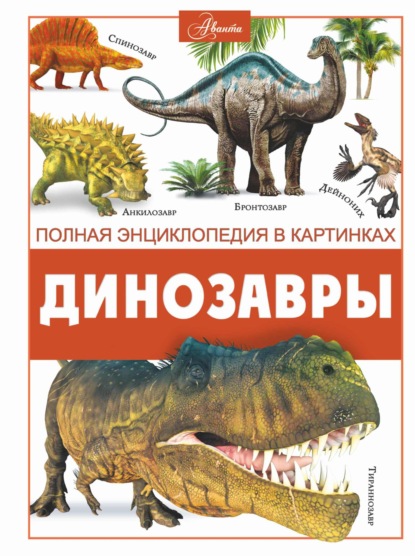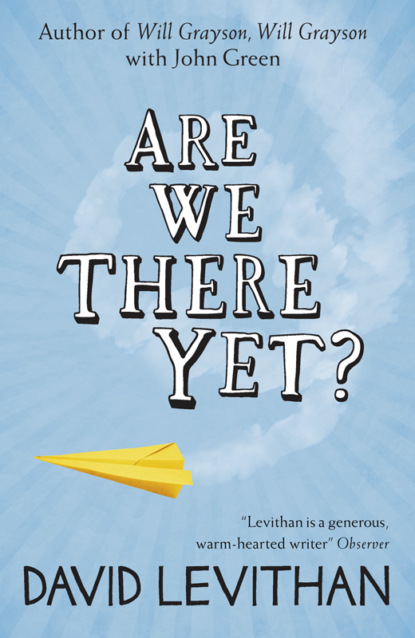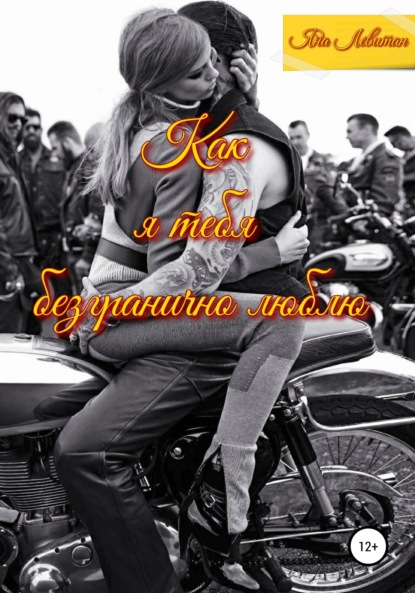Операция «Барбаросса»: Начало конца нацистской Германии
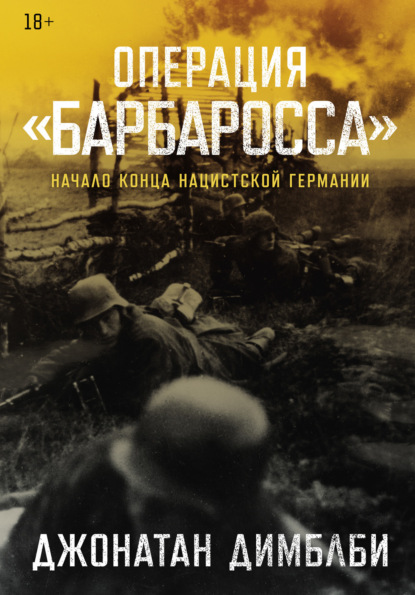
- -
- 100%
- +
У Великобритании не было твердых доказательств этой угрозы, но Форин-офис[30] насторожился. В своей записке Керзону, отправленной через десять дней после того, как новость о Рапалльском договоре потрясла мир, один проницательный служащий Уайтхолла предупреждал: «Я убежден, что… между сторонами есть полное взаимопонимание относительно того, что немцы окажут русским помощь в строительстве армии, и в особенности военно-морского флота: такое сотрудничество может коренным образом изменить будущее Европы»[31]. Его предостережение не совсем соответствовало фактам. Хотя Советы и получали важную военно-техническую информацию, главным результатом договора было то, что немцы в обход условий Версаля смогли начать восстановление своих вооруженных сил вдалеке от любопытных глаз Западной Европы.
Буквально через несколько недель после подписания договора в Рапалло Москва дала согласие на создание летной школы рейхсвера в Липецке (460 километров к югу от столицы) и завода по производству химического оружия в Вольске (300 километров к югу от Самары). Под видом производства тракторов такие оружейные компании, как «Крупп» и «Юнкерс», открыли фабрики под Москвой и Ростовом-на-Дону. На испытательном полигоне недалеко от Казани немецкие офицеры отрабатывали тактические маневры, которые будут использованы в 1940 году при прорыве французских оборонительных линий и – по горькой иронии – против советских войск летом 1941 года. Хайнц Гудериан, который прославится на обоих фронтах как один из самых блестящих танковых стратегов Гитлера, позднее косвенно признавал значимость этого весьма циничного соглашения: «С 1926 года за границей работала опытная станция, где проводились испытания немецких танков…»[32] В награду за щедрость Москвы советские офицеры получили возможность проходить обучение в германских военных академиях по программе обмена, где обе стороны весьма неплохо изучили организационные особенности и методы друг друга.
Военный союз был подкреплен торговым соглашением между двумя странами. В обмен на крупные займы большевистское правительство экспортировало в рейх огромное количество зерна. Только в 1923 году – сразу после голода, во время которого в западных областях России от истощения и вызванных им заболеваний погибли 5 млн советских граждан, – объем поставок превысил 3 млн тонн. Взамен Москва использовала кредиты немецких банков для закупки промышленного оборудования и запчастей, необходимых для восстановления военно-промышленного комплекса страны, который сильно пострадал в годы войны и революции.
Сбитые с толку и встревоженные, британцы обеспокоенно наблюдали за сближением двух континентальных гигантов. «Мы не можем допустить… гегемонию Германии или возможного русско-германского блока на континенте»[33], – заметил Остин Чемберлен, глава внешнеполитического ведомства Великобритании, в то время как его сотрудники старались выработать политику противодействия, пропитанную глубоким отвращением к коммунизму. Распространенное предубеждение Форин-офис относительно «непрестанной, хотя и не осязаемой опасности»[34], исходившей от СССР, привело Лондон к выводу, что Москва представляет более серьезную угрозу европейской безопасности, чем Берлин. Несмотря на Версаль, Великобритания попыталась отвадить руководителей Веймарской республики от общения с «русским медведем». При поддержке Франции, Бельгии и Италии Лондон разработал серию взаимосвязанных соглашений, призванных убедить немцев, что рейх больше не считается изгоем среди европейских демократий.
Плодом этого дипломатического наступления стал Локарнский договор 1925 года. По условиям соглашения немцы и французы окончательно согласовывали общую границу и отказывались применять силу друг против друга; Франция и Бельгия выводили войска из промышленного сердца Германии – Рура (который они оккупировали в 1923 году, когда рейх не смог выплатить ежегодные репарации); подтверждалась демилитаризация Рейнской области, предписанная в Версале; наконец, Германию формально вновь принимали в семью западноевропейских народов, пригласив вступить в Лигу Наций. Договор в Локарно приветствовали как соглашение, обеспечившее тот самый «мир для нашего времени», которого не удалось добиться в Генуе тремя годами ранее. Но это был очень хрупкий сосуд, который едва ли мог сдержать взаимные обиды и страхи, все еще терзавшие Европу.
Русские давили на Берлин, добиваясь отказа от условий Локарнского договора, и были огорчены решением рейха поддаться на уговоры Лондона. Чтобы заверить вечно подозрительную Москву в отсутствии намерений присоединиться к антисоветскому блоку, немцы поторопились подтвердить экономические и военные связи, зафиксированные в Рапалльском договоре. В апреле 1926 года, через четыре месяца после вступления в силу соглашения в Локарно, руководитель советского внешнеполитического ведомства Чичерин прибыл в германскую столицу, где обе стороны в рамках нового Берлинского договора обязались продлить срок действия пакта о взаимном нейтралитете еще на пять лет. Как с сожалением заметил Остин Чемберлен, немцы предпочли «служить и нашим и вашим»[35].
Хотя британские министры были недовольны позицией Веймарского правительства, куда более резкую реакцию у них вызывал большевистский режим, который они одновременно презирали и боялись. В кремлевском руководстве они видели олицетворение желания уничтожить свободу и демократию на Западе и заменить капитализм коммунизмом, который неизбежно приведет к «диктатуре пролетариата». Это отношение было отчасти оправданным, но в то же время близоруким. В бурные годы, последовавшие за приходом Гитлера к власти, оно нанесло серьезный ущерб дипломатическим отношениям между Лондоном и Москвой, что в итоге сослужило британским интересам дурную службу. Высокомерно отвергая советские претензии на статус «великой державы», Остин Чемберлен не только пресек все попытки Кремля получить западные займы, но и в типичном для Уайтхолла покровительственном тоне заметил: «У них явно завышенная самооценка. Они не настолько важны для нас, как они полагают, и они сильно льстят себе, если думают, что британская политика продиктована мыслями о них»[36].
Подобно своим европейским коллегам, британские министры испытывали раздражение от упорных, хоть и неуклюжих попыток Москвы подорвать западные демократические институты, в то же время претендуя на равный статус со своими идеологическими противниками. В случае с Великобританией примером была символическая поддержка Всеобщей стачки 1926 года, когда Москва сделала скромное пожертвование Британскому конгрессу тред-юнионов. Ссылаясь на это нарушение дипломатических норм со стороны аккредитованных в Лондоне советских дипломатов, преемник Ллойд Джорджа на посту премьер-министра Стэнли Болдуин разорвал дипломатические отношения с Москвой[37]. После Локарно, где, по утверждению главы британского МИДа, правительство «сошлось в схватке с Советской Россией за душу Германии», основная цель Великобритании была однозначна: по словам Остина Чемберлена, необходимо было «накрепко привязать Германию к западным державам» и не допустить, чтобы рейх «поддался искушению» вернуться в объятия Советов[38].
Хотя следующее лейбористское правительство Рамсея Макдональда в 1929 году восстановило официальные отношения с СССР, противостояние между Лондоном и Москвой лишь укрепило убежденность Сталина, что Великобритания намерена мобилизовать европейские демократии для уничтожения большевизма. Взаимное недоверие и непонимание так сильно изуродовали англо-советские отношения, что в течение следующего десятилетия конструктивный диалог между Лондоном и Москвой был практически невозможен.
Но более непосредственным – и куда более разрушительным – ударом по хрупкой европейской стабильности оказался не большевизм, а биржевой крах 1929 года. В течение предыдущих пяти лет после сложных переговоров американские банки поддерживали на плаву немецкий рейхсбанк крупными займами, которые помогли компенсировать расходы на выплату репараций, наложенных на Веймарскую республику в Версале. В результате хлипкая немецкая экономика начала восстанавливаться и крупные производственные отрасли вновь обрели устойчивость. Финансовый пожар гиперинфляции, пожиравший жизни и средства к существованию в середине 1920-х, удалось потушить. Немецкие граждане почувствовали относительное благополучие и стабильность. Но когда мировая финансовая система внезапно рухнула, американцы отозвали свои займы и система жизнеобеспечения оказалась отключена. Немецкая экономика отправилась в свободное падение, промышленное производство упало, и за три года более 6 млн немцев – как белые воротнички, так и те, кто трудился в фабричных цехах, – остались без работы. Оказавшись в водовороте Великой депрессии, семьи теряли свои сбережения и начинали голодать, дети массово заболевали из-за недоедания. В атмосфере нищеты и негодования по стране стремительно распространился зловещий вирус – болезнь, которая зародилась в смуте послевоенной Германии и против которой, казалось, не существовало лекарства.
Маргинальное политическое движение, основанное 5 января 1919 года, которое в тот момент насчитывало всего 24 участника, называло себя Немецкой рабочей партией. Чуть более чем за десятилетие оно стало крупнейшей силой в рейхстаге. К тому времени оно называлось Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП, или нацистская партия). Идеология этого движения была антисемитской и расистской, а методы – жестокими. Его лидером был безработный австрийский ветеран Первой мировой войны, который получил Железный крест (первого и второго класса) за храбрость, но так и не смог стать профессиональным художником. Гитлер внушил своим последователям, что немцы – расово чистый народ, которому суждено покорить Европу, истребив все неарийские народы. Ослепленные этой псевдонаучной теорией, они фанатично следовали за ним. Вскоре, поддавшись мессианскому красноречию Гитлера, на съездах нацистской партии стали собираться огромные толпы, которые с восторгом внимали ему, а затем вскидывали вытянутые правые руки в приветствии с криками «Sieg Heil!». А он тем временем вел их к катастрофе, которая окажется гораздо ужаснее всего, что навязали немцам победители в Версале.
Любой, кто продирался через тяжеловесные и однообразные пассажи в «Майн кампф»[39], не мог не заметить безграничную ненависть ее автора к «еврею», которого тот изобличал как «паразита», «пагубную бациллу» и «смертельного врага», от которого необходимо избавиться во что бы то ни стало. Искажая историю до гротеска, Гитлер утверждал, что именно эти «недочеловеки» в 1918 году вырвали из рук у немцев победу и вручили ее союзным державам. Затем они вступили в «извращенный и дегенеративный» сговор со своими коллегами-марксистами в веймарском правительстве и в результате произвели на свет Версальский договор, который был «инструментом неограниченного вымогательства и позорного унижения». Отвращение Гитлера к «международному еврейству» было неразрывно связано с его ненавистью к большевизму и неуемной жаждой Lebensraum – жизненного пространства, без которого немецкая «раса господ» не сможет вновь обрести свое истинное предназначение.
Гитлер обладал уникальным даром разжигать тлеющие в народе обиды и предрассудки, предлагая взамен путь к спасению – мессианский образ страны, восстающей из пепла, чтобы вновь стать великой мировой державой. Огромные аудитории, слушая его, доходили до экстатического исступления. Спустя чуть больше десяти лет методами уличного бандитизма и политических манипуляций национал-социалистам удалось овладеть сознанием нации – сперва на митингах, а затем и у избирательных урн.
Вначале же казалось, что у нацистов нет никаких шансов стать массовым движением. 8 ноября 1923 года они сделали первый шаг, организовав попытку государственного переворота против недавно назначенного комиссара Баварии, который должен был выступить с речью в мюнхенской пивной. На следующий день, рассчитывая, что расквартированный в городе гарнизон рейхсвера поможет им свергнуть веймарское правительство, они устроили марш с целью захвата ключевых государственных объектов. В ходе последовавших беспорядков баварская полиция открыла огонь, застрелив 15 участников шествия и случайного прохожего. Вместе с Рудольфом Гессом, одним из организаторов провального «пивного путча», Гитлер был арестован и осужден за государственную измену. Однако судья, симпатизировавший нацистам, не отправил его в обычную тюрьму, а назначил всего пять лет ареста с содержанием в крепости (Festungshaft), где Гитлер жил в относительном комфорте и уже через девять месяцев вышел на свободу. Поскольку его не привлекали к физическому труду, время заключения он посвятил написанию своей тяжеловесной, но пугающей книги, которая позже будет опубликована под названием Mein Kampf («Моя борьба»)[40].
На декабрьских выборах 1924 года нацисты смогли набрать только 3 % голосов, что дало им всего лишь 32 места в рейхстаге из 472. Но за шесть лет, на фоне разразившегося в стране экономического кризиса, они увеличили свою долю избирателей в шесть раз: на выборах 1930 года они получили 18 % голосов. Теперь они были силой, с которой приходилось считаться. Напряжение росло. Уличные столкновения между штурмовиками нацистской партии (известными как СА, или коричневорубашечники) и их соперниками из социал-демократической СПД и Коммунистической партии Германии обостряли нараставший политический кризис. В июле 1932 года нацисты получили 37 % голосов, что сделало их крупнейшей партией в рейхстаге, располагавшей 230 местами. СПД (бывшая правящая партия) и коммунисты сильно отстали со своими 21 и 14 % соответственно. Нацисты набрали больше голосов – 13 745 680, – чем остальные две партии, вместе взятые. Однако, поскольку ни одна другая партия не желала вступать с ними в коалицию, им пока еще не удавалось сформировать парламентское большинство. Результатом был политический тупик.
Четыре месяца спустя, в ноябре, в попытке найти выход из этого тупика президент Пауль фон Гинденбург (занимавший свой пост с 1925 года) распустил рейхстаг и объявил новые выборы. На этот раз поддержка нацистов сократилась на 4 %, но они вновь оказались крупнейшей партией и получили больше всего голосов. Поскольку более мелкие партии по-прежнему были не готовы объединиться в коалицию, чтобы помешать приходу Гитлера к власти, рейхстаг вновь оказался парализован. Гинденбург, пользовавшийся большим авторитетом как главнокомандующий кайзеровской армией во время войны, а с осени 1916 года фактически возглавлявший правительство, оказался в полной растерянности. Хотя он и стал живым воплощением образа отца нации, на самом деле это был уставший и ослабленный возрастом человек. Он явно не мог соперничать с Гитлером. 30 января, не видя другого способа преодолеть политический кризис, Гинденбург пригласил к себе лидера нацистов и официально назначил его канцлером Германии. 30 января 1933 года Гитлер принял присягу.
Это был знаменательный поворот событий. Обладая редким даром популистской риторики, Гитлер говорил людям именно то, что они хотели услышать: что самую могущественную державу Европы лишили законного места в мире, изгнали из ее собственных земель, отняли у нее право носить оружие и унизили финансовыми репарациями, которые – хотя их выплата прекратилась в 1932 году – он объявил причиной обнищания немцев.
Добавив к этой взрывоопасной смеси идею, что главная причина их нынешних невзгод – заговор еврейских плутократов, он сумел убедить в этом великое множество людей, в остальном вполне разумных. Они даже не пытались задаваться вопросом, действительно ли во всем виноваты плутократы и если это так, то в чем разница между еврейскими и нееврейскими плутократами. Они также предпочли не замечать, что, хотя некоторые евреи действительно были банкирами, большинство из них составляли обычные лавочники, торговцы и ремесленники, зарабатывавшие себе на жизнь в том, что сейчас назвали бы сферой услуг. Европа веками была пронизана антисемитизмом, и Гитлер лишь подогревал существовавшие предрассудки, придавая им нужное ему направление. В бурной атмосфере той эпохи шаг за шагом, наслаивая одну ложь на другую, он приобрел достаточно сторонников среди избирателей, что в конце концов позволило ему уничтожить те самые демократические институты, которые привели его к власти.
Помимо идеологических разглагольствований Гитлера, заставлявших сердца избирателей биться быстрее, они имели весьма смутное представление о том, как именно их фюрер распорядится полученной властью. Его первое официальное обращение к нации 1 февраля 1933 года не прояснило ситуацию. Сделав акцент на «глубочайшей нищете» миллионов немецких мужчин и женщин, которая угрожала «катастрофой невиданных масштабов», он объявил, что его «первейшим долгом» является «восстановление единства духа и воли нашего народа (Volk)». Ради этой цели он пообещал вести «беспощадную войну против духовного, политического и культурного нигилизма». В речи, впрочем, не было упоминаний ни о еврейской «бацилле», ни о жизненном пространстве (Lebensraum).
Если бы избиратели смогли присутствовать на секретном совещании Гитлера с руководством армии, которое прошло через два дня, им открылась бы гораздо более ясная и зловещая картина. Противников нацистов, как он сообщил собравшимся генералам, нужно «стереть в порошок», а единственным способом борьбы с марксизмом должно быть его «полное уничтожение». Демократия – это «раковая опухоль», которую нужно вы́резать на корню. Потребность в жизненном пространстве, возможно, потребует завоевания новых земель с их последующей германизацией, для чего жизненно необходимо наращивать германские вооруженные силы. Одни слушатели были в восторге, другие пришли в растерянность. Но никто не высказал ни слова протеста. Как писал известный биограф Гитлера Ян Кершоу, «с каким бы пренебрежением они ни относились к этому вульгарному и горластому выскочке, перспектива восстановления мощи армии как основы для экспансионизма и немецкой гегемонии» совпадала с давними планами военной элиты Германии[41].
Затем Гитлер обратился к ведущим промышленникам страны, пригласив их в принудительном порядке прибыть 20 февраля к нему на встречу, которая должна была состояться на вилле, принадлежавшей Герману Герингу, пилоту-асу Первой мировой войны и самому близкому сподвижнику фюрера. Геринг вступил в нацистскую партию в 1922 году после того, как выслушал одну из публичных речей Гитлера. Он принял участие в марше вместе с остальными лидерами «пивного путча» и был ранен, после чего его тайно переправили из Мюнхена в австрийский город Инсбрук. Из-за того, что в качестве обезболивающего использовался морфин, у него возникла наркотическая зависимость, и он некоторое время лечился в клинике. Вернувшись в Германию, он был избран в рейхстаг на выборах 1928 года. В июле 1932 года, когда нацисты стали партией большинства, они получили конституционное право назначить председателя рейхстага. Гитлер выбрал Геринга. После того как лидер нацистов стал канцлером, он назначил Геринга на пост министра внутренних дел Пруссии, что поставило под его контроль крупнейшие полицейские силы Германии. Объединив множество подразделений, он вскоре создал новую секретную полицию – гестапо, руководство которой позднее передал Генриху Гиммлеру.
Промышленники прекрасно понимали, что Геринг, как и Гитлер, не тот человек, от которого можно безнаказанно отмахнуться. Закончив свою речь словами, что дни парламентской демократии сочтены, а революционную левую угрозу, если потребуется, раздавят силой, Гитлер покинул виллу Геринга. Его заместитель продолжил развивать эту тему. Требуя финансовой поддержки, он призвал собравшихся пополнить истощенную партийную казну, чтобы обеспечить НСДАП победу на предстоящих выборах, назначенных на 5 марта 1933 года. Эти выборы, как объяснял им Геринг, «наверняка станут последними на десять, а возможно, что и на сто лет вперед»[42].
Для некоторых из присутствовавших это было заманчивым обещанием, даже если ради него приходилось пойти на сделку с силами тьмы. Для тех, кто придерживался международного взгляда на экономику и политику, перспектива была не столь привлекательной, но от нее практически нельзя было уклониться. Семнадцать ведущих предприятий, как и требовалось, внесли в НСДАП 3 млн рейхсмарок, что стало мощным финансовым подспорьем для нацистской кампании в последние дни накануне голосования.
В конце месяца Гитлер сделал еще один шаг к укреплению своей власти. Под предлогом подавления мифического коммунистического мятежа, в организации которого он обвинил заговорщиков, якобы устроивших поджог Рейхстага 27 февраля, он без труда убедил Гинденбурга – непоколебимого консерватора – в необходимости немедленного ограничения гражданских свобод[43]. В атмосфере, отравленной угрозами и насилием со стороны нацистских линчевателей-боевиков, более 17 млн избирателей отдали свои голоса национал-социалистам на выборах 5 марта, во время которых оппозиционным партиям было запрещено вести агитацию. Гитлер набрал 43,9 % голосов. Вооружившись этим мандатом, полученным в нечестной борьбе, он пошел еще дальше. Запретив депутатам от коммунистической партии присутствовать на парламентской сессии 23 марта (из-за последствий пожара в Рейхстаге заседание проходило в здании Кролль-оперы), он протащил через парламент так называемый Закон о чрезвычайных полномочиях. Этот закон с очень метким названием наделял Гитлера правом издавать указы без участия парламента и использовать силу по своему усмотрению для поддержания общественного порядка. До конца Второй мировой войны в Германии больше не будет выборов.
2 августа следующего года Гинденбург умер от рака легких в возрасте 87 лет. Начался всенародный траур. На государственных похоронах Гитлер постарался сыграть заметную роль, но к тому времени он уже ликвидировал все остатки немецкой демократии. Проведя показательный плебисцит, он упразднил пост президента и, приняв на себя его полномочия, сосредоточил в своих руках полный контроль над всеми государственными институтами, включая вооруженные силы. Фюрер и сплотившиеся вокруг него нацистские фанатики отныне могли свободно навязывать свою волю 67-миллионному населению. Они хорошо знали, чего хотят: сделать Германию доминирующей державой в Европе, вернуть территории, «похищенные» у них в Версале, уничтожить коммунизм, искоренить еврейскую «заразу» и создать Lebensraum для высшей арийской расы на землях Восточной Европы и прочих территориях, ныне населенных «неполноценными» славянскими народами. Для достижения этих целей германскую экономику нужно перевести на военные рельсы, а все препятствующие этому договоры и соглашения игнорировать или отменить. Способы, средства и сроки реализации этих планов были еще не ясны, но сами цели глубоко укоренились в сознании нацистов. Лишь немногие немцы пытались сопротивляться. Большинство – в той или иной степени – либо соучаствовали, либо покорно соглашались, либо подчинялись из страха. Третий рейх достиг зрелости.
2. Диктаторы и демократы
25 марта 1933 года, спустя два дня после того, как внесенный Гитлером «закон о чрезвычайных полномочиях» был одобрен рейхстагом, в газете The Manchester Guardian вышла статья без указания автора. Это было сообщение из Советского Союза от британского журналиста Малькольма Маггериджа, который с прошлого года был аккредитован в Москве. Он прибыл со своей женой Китти, «полный решимости», как он позднее писал, «отправиться туда, где, как я полагал, наступает новая эра» и с намерением получить советский паспорт вместо британского. Он был вовсе не одинок в этих мечтаниях. Среди множества левых интеллектуалов Великобритании, разделявших его взгляды, были Беатрис Уэбб – тетя Китти Маггеридж, которая вместе со своим мужем Сиднеем выступила соучредительницей Лондонской школы экономики, журнала The New Statesman и Фабианского общества, – и самый блестящий сторонник этого общества драматург Джордж Бернард Шоу.
Будучи горячим поклонником СССР, Шоу двумя годами ранее по специальному приглашению приезжал в Москву и провел там девять дней, занятый «установлением фактов». Его окружили заботой и вниманием, катая по столице в лимузине с открытым верхом в компании его попутчиков, лорда и леди Астор. Эта семья владела обширным Кливденским поместьем на берегах Темзы. Нэнси Астор была известной светской львицей, а в 1919 году стала первой женщиной, избранной в британский парламент. Аристократическая чета и драматург-социалист были поражены тем, что им показали в Москве. Их чествовали революционные писатели и художники, а затем пригласили в Кремль на встречу с Иосифом Сталиным. Шоу был в восторге. Чрезвычайно польщенный тем, что с ним обращаются как со старым другом, после трехчасового разговора со Сталиным он объявил о своем отъезде в Лондон в следующих выражениях: «Я уезжаю из государства надежды и возвращаюсь в наши западные страны – страны отчаяния»[44].
Одобрительная позиция Шоу как одного из самых заметных публичных интеллектуалов западного мира имела большое значение для Кремля, и после своего возвращения в Лондон он не разочаровал большевиков. Когда на пресс-конференции его спросили о перебоях с продовольствием и голоде в некоторых областях России, он заявил, что не видел в России «ни одного недоедающего человека, молодого или старого», и затем язвительно добавил: «Говорите, они пухнут от голода? Может быть, их впалые щеки раздуты из-за кусочков резины во рту?»[45]