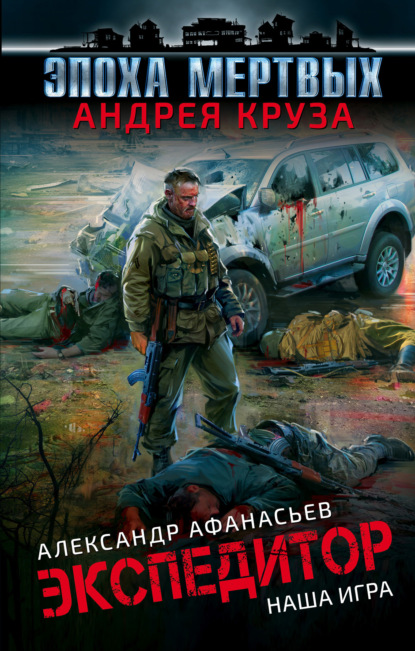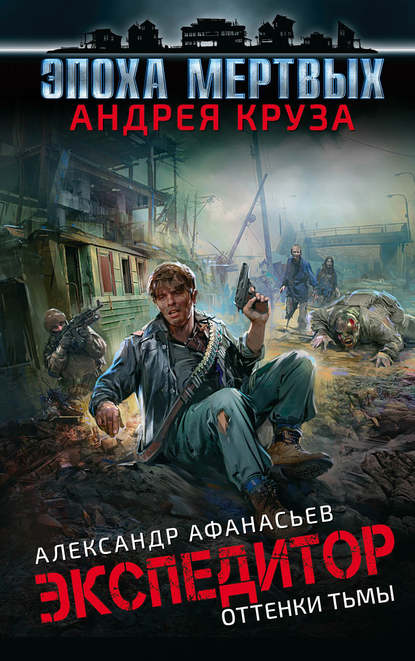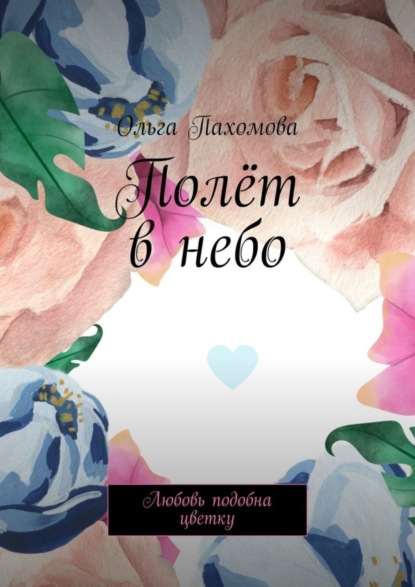Операция «Барбаросса»: Начало конца нацистской Германии
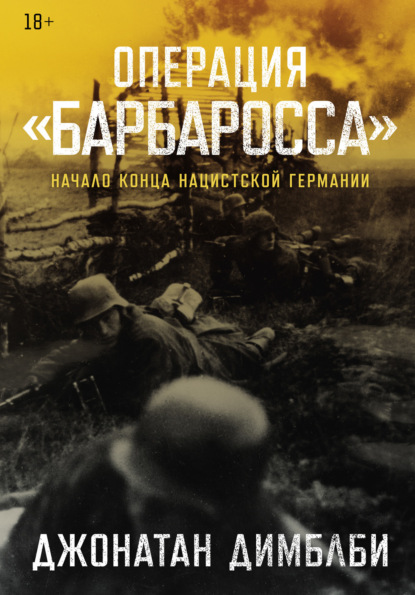
- -
- 100%
- +
Такие ремарки от столь заметной фигуры во многом способствовали тому, что либеральная общественность на Западе примкнула к сторонникам коммунизма, которые клеймили всех критиков СССР как капиталистов-реакционеров или твердолобых представителей правящих классов, больше всего опасавшихся, что коммунистический вирус заразит миллионы голодных людей – мужчин и женщин, потерявших работу во время Великой депрессии. В отсутствие доказательств обратного было легко поверить, будто Советский Союз – рай на земле и образец для всего человечества.
Малькольм Маггеридж не был столь легковерным. Лишившись многих иллюзий после шестимесячного пребывания в сталинской России, он решил разобраться, есть ли у слухов о массовом голоде какие-то основания. В начале 1933 года он отправился в поездку, где вскоре столкнулся с ужасающей реальностью. В одном маленьком ярмарочном городке, как он сообщал, «гражданское население очевидным образом голодало… они не просто недоедали, как, например, большинство крестьян в восточных странах и некоторые безработные в Европе, а вообще почти ничего не ели на протяжении нескольких недель». Один из этих несчастных, беспокойно озираясь в страхе, что его могут подслушать, сказал ему: «У нас нет ничего, вообще ничего. Они все забрали». Маггеридж километр за километром проходил по пустым полям. Земля была не пахана, а домашний скот погиб. Закрома стояли пустые, и не было посевного зерна для следующего урожая. Повсюду, где он был, он видел лишь «отчаяние и растерянность»[46]. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что он стал свидетелем гуманитарного кризиса, который разразился из-за стремления режима во что бы то ни стало – говоря неумолимым языком революции – «ликвидировать кулаков как класс» и учредить коллективные хозяйства на экспроприированных землях. Кулаки – мелкие землевладельцы, нередко имевшие более двух гектаров земли, что было достаточно для найма работников, – по мнению большевиков (часто справедливому), были внутренне враждебны революции и отказывались передавать государству свои земельные наделы и средства к существованию.
«Ликвидация», будучи важным этапом первой сталинской пятилетки, требовала от партийных работников изымать все имущество кулаков, а их самих выгонять из домов, которыми их семьи нередко владели на протяжении многих поколений. Операция не ограничивалась Кавказом и Украиной. В январе 1933 года начальство давило на партийных работников в богатых зерном районах Центральной России, пытаясь ускорить программу реквизиции и выселения. Первый секретарь обкома партии Центрально-Черноземной области комиссар Юозас Варейкис, готовый, как и его коллеги в других местах, с энтузиазмом выполнить любой приказ ради достижении поставленных Кремлем целей, объяснял своим товарищам, что им предстоит раскулачить от 90 000 до 150 000 крестьянских хозяйств, изгнать из домов от 12 000 до 13 000 кулацких семей, а также арестовать или казнить их «контрреволюционных» вожаков[47].
В течение нескольких недель хаос, спровоцированный этой узаконенной этнической чисткой, привел к тому, что запасы хлеба в этом чрезвычайно плодородном регионе начали подходить к концу. Шесть месяцев спустя начальник регионального отделения ОГПУ (государственной тайной полиции) был вынужден телеграфировать Варейкису, что урожай после весеннего сева не убран, а зерно «гниет и прорастает». В мае 1933 года начальник ОГПУ сообщал: «Только в деревне Борисовка более тысячи человек умерли от голода… В целом ряде деревень трупы умерших уже долгое время не убирают… Колхозники покидают деревни и направляются в города».
Начальство, ничуть не смущаясь подобными сообщениями, которые нескончаемым потоком поступали в Кремль, требовало еще более жестких мер. Сталин поручил эту задачу Вячеславу Молотову[48]. Как председатель Совета народных комиссаров и ближайшее доверенное лицо Сталина, он нес прямую ответственность за проведение программы «ликвидации» и «коллективизации». Черноземье имело ключевое значение для успеха этой программы. Расположенный примерно в 700 километрах к юго-западу от Москвы, этот регион с его 350 000 квадратных километров высокоплодородных земель был одной из главных житниц столицы. С присущим ему ледяным хладнокровием Молотов не принимал в расчет умиравших от голода крестьян, продолжая делать все, чтобы экспроприации в Черноземье продолжались без всяких послаблений. В личной телеграмме Варейкису он указывал комиссару, оказавшемуся в затруднительном положении: «Ни о каких отклонениях от плана… не может быть и речи… смягчающие обстоятельства не учитываются»[49]. Крестьян, призывавших к неповиновению, надлежало высылать в другие области СССР, а в случае сопротивления – расстреливать на месте.
Убежденные коммунисты – такие как Лев Копелев[50], вместе с тысячами других молодых партийных работников направленный в сельскую местность для проведения раскулачивания, – были готовы платить эту цену:
И в страшную весну 1933 года, когда я видел умиравших от голода, видел женщин и детей, опухших, посиневших, еще дышавших, но уже с погасшими, мертвенно-равнодушными глазами, и трупы, десятки трупов в серяках, в драных кожухах, в стоптанных валенках и постолах… Видел и все-таки не сошел с ума, не покончил с собой… А по-прежнему верил, потому что хотел верить[51].
Много лет спустя он изменит свое мнение, но в то время он, молодой и образованный человек, был убежден:
Мировая революция была абсолютно необходима, чтобы восторжествовала справедливость… Но еще и для того, чтобы потом не стало границ, капиталистов и фашистов. И чтобы Москва, Харьков и Киев стали такими же огромными, такими же красивыми городами, как Берлин, Гамбург, Нью-Йорк, чтобы у нас тоже были небоскребы, улицы кишели автомобилями и велосипедами, чтобы все рабочие и крестьяне ходили в красивой одежде, в шляпах и при часах[52].
Эта картина, как он признавался, настолько затмила ему разум, что он проникся настоящей ненавистью к кулакам. «Я был убежден, что мы – бойцы невидимого фронта, воюем против кулацкого саботажа за хлеб… но еще и за души тех крестьян, которые закоснели в несознательности… не понимают великой правды коммунизма»[53].
Многие из жертв голода жили на юге страны[54], и именно здесь кулацкое сопротивление коллективизации было наиболее упорным. Зная, что урожай конфискуют местные власти – по произвольным и невыполнимым нормам, установленным Молотовым для обеспечения продовольственного изобилия в городах, – многие крестьяне опускали руки и отказывались работать на своих полях. Тем кулакам, которым хватало смелости и смекалки прятать урожай, грозила «ликвидация» в самом прямом и ужасном смысле слова. Подписанный лично Сталиным в 1932 году указ Политбюро сделал «кражу» зерна преступлением, караемым смертной казнью. Крестьянину достаточно было спрятать всего один мешок, чтобы оказаться перед расстрельной командой.
Сотни тысяч крестьян, избежавших расстрела на месте, погибли от голода, жажды и болезней во время долгого изнурительного пути из родных деревень в отдаленные районы страны. Когда поезда, везущие этих несчастных, останавливались, трупы вытаскивали и складывали рядом с вагонами, чтобы затем прямо здесь же похоронить их. Неисчислимое их количество осталось в безымянных могилах. Те, кому удалось выжить – «административные переселенцы», как их официально называли, – в поисках пищи в чужих негостеприимных землях вынуждены были рыться на помойках и попрошайничать.
Страдания переселенцев были велики. В мае 1933 года неназванный госслужащий, потрясенный представшим перед ним зрелищем, докладывал:
В поездках я часто был свидетелем того, как административные выселенцы бродили по селам, словно тени, в поисках куска хлеба или отходов. Они едят падаль, режут собак и кошек. Селяне держат двери на замке. Те, кому удается войти в дом, падают перед хозяином на колени и со слезами просят куска хлеба. Я видел несколько смертей на дороге между селами, в банях и в сараях. Я сам видел голодных агонизирующих людей, ползущих на четвереньках по обочине. Их забрала милиция, и они умерли спустя несколько часов[55].
При всем бесстрастном усердии партийных работников по сбору первичной статистики установить точное количество погибших за время массового голода 1932–1933 годов так никогда и не удалось. Вероятно, Сталин и не собирался ликвидировать крестьянство вообще, ограничившись только кулаками, но массовая голодная смерть была прямым следствием его политики. Вероятно, не менее 10 млн[56] советских граждан умерли в результате казней, голода, болезней и депортаций во внутренние районы страны[57].
Мало кто на Западе осознавал масштаб этой катастрофы. Во многом это было заслугой хорошо отлаженной советской пропагандистской машины, которая работала как внутри страны, так и за рубежом. Она хвалила, поддерживала, а иногда и финансировала послушных и доверчивых. Так, на самом пике геноцида Бернард Шоу вместе с 20 другими известными личностями опубликовал в The Manchester Guardian возмущенное письмо, утверждая, что во время их визитов в СССР никто из них не увидел доказательств
рабской эксплуатации, лишений, безработицы и циничного неверия в возможность перемен… Везде мы видели полный надежд и энтузиазма рабочий класс… [который был] свободен в рамках, установленных самой природой, а также ужасным наследием тирании и некомпетентности их прежних правителей… По нашему мнению, продолжение нынешней клеветнической кампании стало бы настоящей катастрофой…[58]
Шоу был не одинок. Некоторые другие знаменитости международного масштаба были не менее идеологически ангажированы, в том числе писатели-романисты Г. Дж. Уэллс и Андре Жид. Артур Кестлер, который в это время жил в Москве, своими глазами видел умиравших от голода детей, хоть и не признавал этого долгие годы. В его описании это были «жуткие младенцы с огромными недержащимися головами, тонкими, как палочки, руками и ногами и раздутыми выпирающими животами»[59]. При этом жертв голода он изображал «врагами народа, которые предпочитали просить милостыню, а не работать»[60].
Самым влиятельным из большевистских попутчиков был уроженец Ливерпуля журналист Уолтер Дюранти, московский корреспондент газеты The New York Times. Бесстыдный апологет советской системы, Дюранти руководствовался не столько идеологическими убеждениями, сколько стремлением вести комфортный образ жизни в Москве, который полностью зависел от благосклонности Кремля. Чтобы сохранить свой привилегированный статус, он был готов облить грязью любого, кто критиковал его излишне оптимистичные репортажи о жизни в СССР, публиковавшиеся в одной из самых авторитетных американских газет. Если кто-нибудь – пусть даже косвенно – сомневался в правдивости его материалов, реакция Дюранти была совершенно беспощадной.
Весной 1933 года молодой репортер New York Evening Post Гарет Джонс, вопреки запрету на поездки на Украину, в течение десяти дней пешком ходил из деревни в деревню, где видел доведенных до отчаяния крестьян, «которые ели корм для скота». Джонсу удалось получить визу для въезда в СССР благодаря советскому послу Ивану Майскому, желавшему снискать расположение бывшего премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа, у которого Джонс работал советником по иностранным делам. Однако это не повлияло на его объективность. Услышав от крестьян слова «хлеба нет, мы умираем», он честно описал их трагическое положение. В других обстоятельствах его душераздирающий репортаж, опубликованный в нескольких газетах США и Великобритании, вызвал бы значительный резонанс[61]. Однако Дюранти, который несколько месяцев назад получил Пулитцеровскую премию за освещение событий в СССР, моментально набросился на журналиста-новичка. Пользуясь своим статусом, он решил заткнуть Джонсу рот и обвинил его в том, что тот создал «страшилку»[62]. В своем малодушном стремлении сохранить хорошие отношения с советским руководством большинство аккредитованных в советской столице представителей западной прессы поспешили занять сторону своего коллеги Дюранти[63]. Хотя тому и пришлось скрепя сердце впервые признать, что Россия столкнулась с «недостатком продовольствия», который мог привести к массовому недоеданию, Дюранти заверил читателей The New York Times, что «всякие слухи о голоде в России… раздуты враждебной пропагандой»[64]. Пока репутация пулитцеровского лауреата в США продолжала укрепляться, Джонс был полностью (и, как впоследствии окажется, буквально) уничтожен своими оппонентами[65].
В Великобритании Маггеридж также переживал период затмения. Став свидетелем того, как отряд милиции конвоировал колонну голодных крестьян из деревни, он писал: «Самое худшее в классовой войне то, что она никогда не заканчивается. Сначала расстреливают и переселяют отдельных кулаков, затем группы крестьян, затем целые деревни»[66]. Он задавался вопросом: «Почему же такое множество очевидных и фундаментальных фактов о России проходит мимо внимания даже самых серьезных и интеллигентных людей, которые там побывали?»[67] Если его вопрос и вызвал какую-то реакцию, то это было скорее недоверие, чем шок. Беатрис Уэбб, которая за несколько месяцев до этого сама вернулась из восьминедельной поездки в Москву, была озадачена, как она выразилась, «удивительно истеричной клеветой Малькольма на Советский Союз», в которой он «ярко и дерзко изобразил картину голода и гнета среди крестьян на Северном Кавказе и Украине»[68]. Такая готовность некритически впитывать кремлевскую пропаганду была широко распространена не только среди либеральной интеллигенции, но и – что еще показательнее – в европейских посольствах. Западные правительства располагали независимыми источниками информации, которых было достаточно, чтобы понять: Маггеридж и Джонс не преувеличивают. Но по дипломатическим соображениям они предпочитали не заострять на этом внимание.
В полном согласии с политикой британского правительства, балансировавшего между отвращением к СССР и тревогой по поводу прихода Гитлера к власти, высокопоставленный дипломат Форин-офис Лоуренс Кольер проявлял показательное равнодушие. Отвечая на встревоженный запрос одного депутата, он писал: «Правда состоит в том, что мы, конечно же, располагаем кое-какими сведениями о голоде… Однако мы не хотим предавать их огласке, так как это вызвало бы недовольство советского правительства и нанесло бы ущерб нашим отношениям»[69]. Таким образом, смертоносный голод на Украине, Кавказе и в некоторых областях самой России был практически проигнорирован внешним миром.
Лишь спустя несколько десятилетий оценка Маггериджем массового голода 1932–1933 годов как «одного из самых чудовищных преступлений в истории, настолько ужасного, что в будущем люди вряд ли смогут поверить в то, что такое происходило на самом деле»[70], была в конце концов признана правдивой[71]. В большинстве случаев те, кто хоть сколько-нибудь интересовался событиями в СССР, были склонны разделять точку зрения Дюранти, который непринужденно повторял слова, приписываемые то Робеспьеру, то Наполеону: «Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц»[72]. Готовя это блюдо, Сталин с полной ответственностью за происходящее разбил 10 млн яиц. А вскоре разобьет еще больше.
В марте 1933 года в США в должность вступил новоизбранный президент Франклин Рузвельт. Его главной задачей было положить конец Великой депрессии. Европа была в смятении, в Германии пришел к власти Гитлер, а в Советском Союзе население подвергалось беспощадным репрессиям. В отличие от своего предшественника Герберта Гувера, Рузвельт был «интернационалистом»[73], но в наследство ему достались изоляционистский конгресс и страна, охваченная бедностью и лишениями. Пытаясь дать людям надежду посреди экономического бедствия, он начал инаугурационную речь одним из самых известных своих афоризмов. «Позвольте мне выразить твердое убеждение: единственное, чего нам следует бояться… это сам страх», – заявил он, давая понять, что его приоритетом было «во что бы то ни стало преодолеть» то, что он назвал «чрезвычайной ситуацией в нашем доме»[74]. В то время, когда социальная деградация, безработица, недоедание, в некоторых районах почти доходившее до голода, угрожали разорвать общественную ткань нации, международные отношения неизбежно отходили далеко на второй план перед лицом острой необходимости перезапустить надломленную капиталистическую систему Америки.
Решением, которое выбрал Рузвельт, стал «Новый курс», и в первые месяцы президентства он полностью сосредоточился на его реализации. Но сложное положение, в котором оказалась Европа, не ускользнуло от его внимания. Рузвельт не хотел просто наблюдать за кризисом со стороны. После неудач в Версале и Генуе и весьма скромных успехов в Локарно европейские правительства вновь пытались согласовать свои противоречивые интересы, надеясь заложить основу для экономической стабильности и стратегической безопасности. Поставив перед собой задачу защищать интересы США в мировой экономике, Рузвельт отправил представителей на две важные международные конференции, которые проходили параллельно, но имели разную повестку – одна в Лондоне, а вторая в Женеве.
На открывшейся в июне Всемирной экономической конференции в Лондоне очень скоро выяснилось, что американские переговорщики, действуя по поручению президента, были ничуть не более расположены к отказу от протекционизма как основного средства борьбы с Великой депрессией, чем их европейские коллеги. В результате 27 июля 1933 года конференция была фактически сорвана своим самым важным участником. В феврале 1932 года в Женеве началась претенциозно названная «Всемирная конференция по разоружению». Вскоре и она зашла в тупик: Франция заявила, что сперва следует договориться о безопасности и лишь затем – о разоружении, в то время как Германия требовала снятия ограничений, наложенных Версальским договором, чтобы снова вооружиться ради обеспечения собственной безопасности. Взяв шестимесячную паузу, в феврале 1933 года делегаты собрались вновь, уже чувствуя на себе зловещую тень только что установившегося в Германии нацистского режима. Но это лишь укрепило решимость Рузвельта добиться «очень, очень определенного» успеха в Женеве.
В доказательство своей доброй воли он распорядился сократить американскую армию, которая и так имела весьма скромный размер в 140 000 военнослужащих (всего на 40 000 больше, чем Германии было позволено иметь по Версальскому договору). Этот шаг встретил яростное сопротивление со стороны Военного министерства США. В ходе бурных споров в Белом доме начальник штаба армии генерал Дуглас Макартур, как сообщалось, выразил надежду, что когда США проиграют следующую войну и «простой американский парень, лежа в грязи с вражеским штыком в животе и вражеским сапогом на горле, произнесет свое предсмертное проклятие», то он прохрипит имя Рузвельта, а не Макартура[75]. Рузвельт был взбешен таким вопиющим нарушением субординации, и Макартур был вынужден отступить. Но генерал не смирился. Много лет спустя он вспоминал: «Меня чуть не стошнило прямо на ступени Белого дома»[76].
Инициатива президента не принесла результатов. Несмотря на его обращение ко всем 54 участникам с призывом «полностью ликвидировать все наступательные вооружения», дипломаты в Женеве продолжили поддерживать военный протекционизм, как их коллеги в Лондоне – протекционизм экономический. Дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Последний удар был нанесен в октябре 1933 года, когда по поручению Гитлера германская делегация (возглавляемая Йозефом Геббельсом, недавно назначенным министром народного просвещения и пропаганды) покинула переговоры. Вдобавок немцы одновременно вышли из Лиги Наций (в которую Веймарская Германия была принята в 1926 году), мотивируя свой шаг отказом других держав предоставить Третьему рейху право на военный паритет. Получив горький урок в Лондоне и Женеве, Рузвельт решил хотя бы на время увести Соединенные Штаты с политической арены по ту сторону Атлантики, устало заметив: «Нам предстоит пережить период отказа от любого сотрудничества… в течение следующего года или пары лет»[77].
У этого отступления было одно важное исключение: Советский Союз. В октябре 1933 года президент вызвал двух своих самых доверенных помощников: Генри Моргентау, главу Сельскохозяйственного кредитного управления, которому в ближайшем будущем предстояло стать министром финансов, и Уильяма Буллита, опытного дипломата, который в 1919 году приезжал в Москву и пытался заключить мирное соглашение для прекращения Гражданской войны в России (он представил проект соглашения Уилсону, но конгресс отказался его поддержать). В отсутствие успехов в других частях Европы Рузвельт поручил им установить контакт с Москвой в надежде улучшить отношения между Белым домом и Кремлем – или, как он выразился на пресс-конференции, объясняя эту неожиданную инициативу, между «двумя великими странами, двумя великими народами»[78]. Превосходя своих противников-изоляционистов в конгрессе в стратегическом воображении, он полагал, что сближение с Москвой даст милитаристскому режиму в Токио четкий сигнал о недопустимости агрессивной политики в регионе, где пересекаются интересы СССР и США. В 1931 году японцы уже оккупировали Маньчжурию, что снова обострило давний пограничный спор с СССР, и, следуя лозунгу «Азия для азиатов», готовились к дальнейшей территориальной экспансии, что угрожало прямым столкновением с США в Тихом океане.
Москва не мешкала. После 16 лет дипломатической изоляции (с тех пор, как США приняли решение разорвать отношения после прихода большевиков к власти в 1917 году) соблазн восстановить официальные связи с самым мощным государством мира – и последней крупной страной, формально все еще не признавшей СССР, – был непреодолим. Уже через несколько дней советский нарком иностранных дел Максим Литвинов – изворотливый переговорщик, про которого говорили, что «он может сухим пройти через воду», – был на борту самолета, следующего в Вашингтон, куда он прибыл 8 ноября. Литвинов был идеальным кандидатом для этой миссии. Когда-то он был революционером-эмигрантом и вел жизнь, полную взлетов и падений, колеся по всей Европе и секретно закупая оружие, которое затем переправлялось в Россию для большевистской фракции запрещенной Социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Он жил в Лондоне, где в 1903 году в здании Лондонской библиотеки встретился с Лениным, жил в одном доме со Сталиным во время V съезда РСДРП в 1907 году и женился на англичанке[79]. Теперь, в свои 57 лет, он был интеллигентным и великолепно образованным дипломатом, искушенным в жизни и прекрасно подготовленным для того, чтобы выстраивать непринужденные отношения со своими западными коллегами. Его сопровождал вездесущий Уолтер Дюранти, чьи приторно хвалебные статьи о сталинской диктатуре в The New York Times обеспечили ему не только долговременную благодарность Кремля, но и восхищение Госдепартамента США.
Первые сигналы не обнадеживали. Переговоры на официальном уровне забуксовали почти сразу же после вступительных любезностей, и через два дня стороны оказались в тупике. Это побудило Рузвельта лично вмешаться в происходящее, и он пригласил Литвинова в Белый дом для разговора с глазу на глаз. Вдвоем они быстро установили контакт, настолько при этом очаровав друг друга, что к концу вечера набросали проект «джентльменского соглашения» между двумя правительствами.
Литвинов с радостью согласился на два ключевых условия. Во-первых, он должен был подтвердить, что правительство СССР не станет вмешиваться во внутренние дела США через пропаганду или подрывную деятельность, – пункт, который был не более чем жестом доброй воли и вряд ли стоил бумаги, на которой был написан. Второе условие – уважение религиозных прав американских граждан, живущих в СССР, – был более важен. Вопрос свободы вероисповедания имел большое значение для католической церкви и поэтому всерьез рассматривался в Вашингтоне как с политической, так и с моральной стороны.
Во время Великой депрессии несколько тысяч граждан США, разочаровавшись в таявших перспективах осуществления американской мечты, соблазнились заманчивой картиной рая для рабочих, которую для них рисовали такие люди, как Дюранти. Изображая советскую действительность в розовых тонах, он среди прочего уверял своих читателей, что все концентрационные лагеря ГУЛАГа «представляют собой нечто вроде коммун, где каждый живет сравнительно свободно, не в тюремных условиях, но при этом обязан трудиться на благо общества… Это определенно не заключенные в американском смысле слова»[80].
И главное – там была работа. В 1931 году Генри Форд подписал сделку стоимостью в 40 млн долларов на строительство завода в Нижнем Новгороде (расположенном почти в 320 километрах от Москвы), на котором должна была производиться сборка 75 000 седанов несколько устаревшей модели «А». Более 100 000 американцев выразили желание там трудиться, и 10 000 были приняты на работу. К 1931 году в Москве проживало достаточное количество американцев, чтобы сделать рентабельным выпуск англоязычной газеты Moscow News. Школы с преподаванием на английском языке открылись в четырех советских городах – Москве, Ленинграде, Харькове (где располагался тракторный завод), Нижнем Новгороде[81].