За Уральским камнем. Книга 2. Братья Шорины
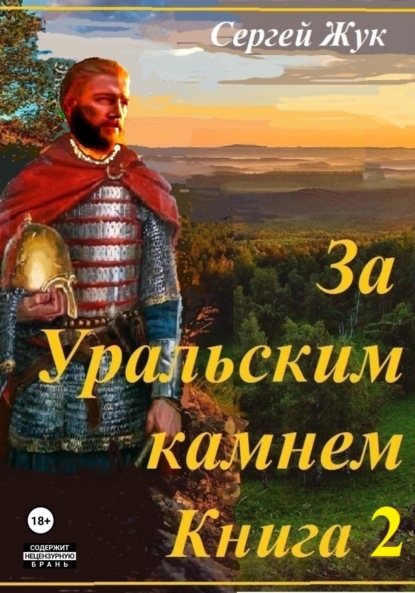
- -
- 100%
- +
От бухарских купцов он узнал, что в Великой степи сейчас неспокойно. Монголы, джунгары, калмыки, киргизы ведут непрерывные войны друг с другом. Потрепанные в боях голодные орды, чтобы спастись, устремлялись в Великую степь. Кыпчакские племена, что издавна проживают в этих степях, хоть и не жалуют незваных гостей, но терпят по своей малочисленности, а порой и заключают союзы против русских, для разорения их городов и острогов.
Путешествие в составе каравана бухарских купцов виделось Турай-ад-Дину относительно безопасным. Не станут купцы рисковать своим товаром и возьмут многочисленную охрану из тех же кипчаков. Да и посольские охранные грамоты пригодятся. С монголами и джунгарами у Самарканда заключен вечный мир, и те не станут причинять беспокойство столь высокому посланнику, у которого имеются грамоты к самому монгольскому Алтын хану.
Турай-ад-Дин поддержал и Оксану в желании следовать в Сибирь. Господину в дороге веселее, и польза будет, особенно в первое время, по прибытии в русские сибирские владения.
Всему есть окончание, так уж определено Творцом. Вот и кажущиеся бесконечными хлопоты по сбору в дорогу подошли к концу. Караван бухарских купцов тронулся северным караванным путем в город Тюмень. Город расположился на границе русских владений с Великой степью и являлся южным форпостом наряду с только что основанным Красноярским острогом.
Северный караванный путь переживал не лучшие времена. Русские города из-за недостатка воинских людей не в состоянии были обеспечить его безопасность, а русские посольства настаивали на торговле в Москве, куда купцы из Самарканда, Бухары, Хорезма добирались водным путем через Каспийское море, а далее по Волге. После присоединения Астрахани и Казани еще царем Иваном Грозным этот путь был относительно безопасным и удобным, несмотря на свою протяженность. Если кто и доставлял беспокойство купцам, так это казаки с Дона и Днепра, что еще не встали под руку московского царя и жили вольницей.
Сейчас лишь редкие купцы, соблазненные большой выгодой, решались отправиться в Сибирь. Да и как не решиться, если в городах Тобольск, Тюмень, Томск потребно все, и товар разбирается без остатка, а взамен отдается пушнина по ценам в несколько раз ниже московских. Соблазн велик, и нет-нет да и найдется среди купцов смельчак, что отправится через дикую Великую степь.
7
Конец ноября 1628 года. Великая степь.
Южная окраина степи не ведает лютых морозов, и снег лишь изредка, ненадолго покрывает землю, но в это осеннее время глаз не радует. Летнее солнце давно высушило траву, и лишь метелки сухого ковыля да гонимые ветром клубки перекати-поля оживляли ландшафт.
Караван вытянулся цепочкой на север. Груженые верблюды, эти незаменимые на торговых путях животные, следуют друг за другом. На них восседают лишь погонщики и женщины. Мужчины, будь то стражник или купец, предпочитают коней. Под ними лучшие арабские жеребцы, на таком степь всегда под контролем: в бою ловок, а в крайнем случае и от смерти унесет.
День за днем двигается караван. Встречаются лишь редкие стойбища кочевников и их тучные стада. Южная степь – раздолье для скотоводов. Корма для животных в изобилии круглый год, и лишь изредка приходится перекочевывать на новое место.
Тимофей всегда в движении – то ускачет в степь, то вернется. Он возбужден, как никогда, кажется, молодая кровь вотвот закипит в его жилах. Степные просторы поразительны. У себя во дворце он и не ведал об их размахе, не ведал и этих чувств. Все его существо жаждало открытий, познания мира, опасных приключений.
Турай-ад-Дин хоть и разделял с Тимофеем все в части познаний, но приключений, особенно опасных, не жаждал. Поэтому, если и удалялся вместе с Тимофеем в степь, только для того, чтобы убедиться в отсутствии опасности. Для этого он прихватил небольшую подзорную трубу и при каждом удобном случае внимательно осматривал степь. К его радости, встречались только стойбища мирных скотоводов, которые не только были им рады, но и продавали за небольшую плату необходимые продукты, и запасы путешественников почти не расходовались. А запасы были сделаны основательно. Прежде всего это самаркандская лепешка, знаменитая со времен похода в Индию Александра Македонского.
Легенды рассказывают, что Александр был поражен тем, что самаркандские лепешки, даже пролежав несколько месяцев, не черствеют и сохраняют все свои чудесные свойства. Отправляясь в Индию, он повелел взять с собой лучших самаркандских пекарей с их мукой и водой. Но испеченные в походе лепешки, чем дальше от Самарканда, становились все хуже и хуже. Александр усмотрел в этом измену и казнил пекарей. С тех пор считается, что тайна лепешки заключается не только в мастерстве пекарей и качестве продуктов, но и в таинстве самой Самаркандской земли.
Кроме лепешек, была припасена тушеная баранина. Доверху наполненные кувшины заливались курдючным жиром, и таким образом мясо сохранялось длительное время, даже в жаркую летнюю погоду. Ну и, конечно, мясо, вялено-копченое в тантыре, где обрабатывается дымом от веток можжевельника и практически не имеет ограничения в сроках хранения. О сушеных фруктах и овощах и говорить не приходится. А вот о рисе необходимо упомянуть. Богатое питательными свойствами рисовое зерно твердо, как никакое другое, и во время приготовления увеличивается в объеме в несколько раз. Это свойство очень ценно для путешественников. Используя сушеный лук и морковь, добавив тушеной баранины с курдючным жиром, получается походный вариант плова, и хоть он уступает по вкусовым качествам традиционным рецептам, тем не менее весьма питателен, и путешественник даже при одноразовом питании не пострадает от голода. По некоторым легендам, честь открытия плова достается Александру Македонскому, но это весьма сомнительно.
Оксане, как наложнице Самаркандского господина, приходилось в путешествии несладко. Неудобное восточное женское платье, включающее чадру и подобающие украшения, сковывало движения, следовать приходилось в караване на верблюде, где для нее установили крытую кибитку, более похожую на плетеную корзину. Все это она переносила стойко, ведь мысль о том, что с каждым шагом верблюда, с каждым днем пути она приближается к русским землям, к своим единоверцам, была сильнее неудобств. Единственно, что ее расстраивало, так это невнимание Тимофея. Путешествие захватило его целиком, и лишь изредка во время остановок он уделял ей немного времени, что вполне объяснимо.
Воспитание восточного вельможи не способствует проявлению внимания к ближнему, а путешествие поглотило Тимофея полностью. Каждую ночь в сновидениях он видит, как по заснеженной дороге, среди дремучей тайги, несутся сани, запряженные тройкой лошадей, а днем наяву – караван верблюдов, неумолимо бредущий по степи. Как это далеко, но ощущение, что они двигаются навстречу друг другу, было ярким и зримым.
С каждым днем становилось все холоднее. Сначала донимал мокрый снег, теперь он не таял, а хлопьями ложился на землю. Степь изменилась до неузнаваемости, снег покрыл все пространство. Местные племена откочевали к руслам рек, озерам, к горам, где можно в дубравах или ущельях укрыться от надвигающихся метелей. Здесь кочевники пережидают зимы и отсюда промышляют ясак с сибирских народов, чинят разор русским поселениям. Степь обезлюдела.
Караван продолжал идти. Обратно уже не повернешь. Не хватит ни сил, ни запасов продовольствия.
Вот и северная окраина Великой степи. На Тюмень каравану идти по междуречью, что образуют реки Абуга и Ишим. Стали попадаться все чаще густые дубравы и березовые рощи.
Неожиданно путешественники обнаружили следы конного отряда, что сильно всех взволновало. Наткнулись на недавно оставленное стойбище кочевников, где стая волков обгладывала скелет лошади. Ясно, что лошадь съедена не от хорошей жизни. Кочевник на такое пойдет только в крайнем случае. Значит, где-то рядом кочует голодная орда. Был послан отряд кипчаков на разведку, но он как в воду канул. За ним разбежались и остальные наемники. Осталась лишь малочисленная личная охрана.
Караван продолжал движение на север, до Тюмени оставалось пять – семь дней пути. Страх наткнуться на дикую, голодную орду был столь велик, что метель, которая могла закрыть и замести их следы, стала теперь в радость. Та, что недавно застилала глаза снегом и обжигала морозом лицо, теперь была защитницей и вселяла слабую надежду. Но проведению было угодно послать испытание путешественникам.
8
Начало декабря 1628 года. Дорога на Верхотурье.
Историческая справка. Верхотурье как острог был основан в 1598 году по повелению царя Бориса Федоровича Годунова как конечная станция большого Сибирского тракта. Место выбрано в верховьях реки Туры. Отсюда и название — Верхотурье. Река Тура здесь уже полноводная, и вниз по Туре можно добраться до Иртыша, затем до Оби и далее. В 1628 году город играл роль главной Сибирской таможни и перевалочной базы, где скапливались грузы для последующей отправки в сибирские города или Центральную Россию.
Князь Петр Шорин и его попутчики уже перевалили через Уральский Камень и приближались к городу Верхотурье. После Вологды их путешествие шло гладко и с серьезным по тем временам комфортом.
Даже привычный в походах к седлу Петр пересел в сани, а его конь, привязанный к ним, бежал рядом. Хоть и зазорно воину следовать таким образом, но соблазн больно велик. Ох, и бравая девка Дарья, а шустра, так и слов нет! Петр – на коне, и Дарья рядом, Петр – в сани, и она за ним. А вдвоем в санях любо, не поймешь, что больше греет: овчина или горячий поцелуй. Казаки, что в охране, ухмыляются украдкой, себе в бороду, но зависти нет. Рядом следуют молодухи, одна краше другой, здесь не зевай. Если уговоришь ее по-хорошему и у князя добро получишь, то можно и женку приобрести.
С харчами проблем никаких нет. Обживается Сибирь потихоньку. В хуторах и деревушках, что хоть и редко, но встречаются дорогой, предложат тебе любую снедь: и сибирские пельмени, что мешками намороженные висят в амбарах, и свежие испеченные пироги, и расстегаи – всего вдоволь.
Ямщицкая служба работает справно на удивление. Коней меняют быстро. Отдохнувшие, сытые животные не хотят стоять на месте, чуть ли не рвут упряжь, переходя на рысь, а то и в галоп. Обоз сопровождает охрана. Не менее десятка казаков всегда рядом. Сибирцы, что проживают вдоль Сибирского тракта, давно усмирены. Их среди ямщиков более половины. Русские не забижают, а с теми, что крещеные, вообще наравне. На тракте более опасаются своих, что воровским делом промышляют. С охраной спокойно: не станут своим животом рисковать, если только обманным путем уведут, так тут уж держи ухо востро.
Казаки, что в охранении, к службе относятся серьезно. Сами не балуют и другим не дают. Люди они бывалые, не единожды в степь на ордынцев приходилось хаживать. Знают, что человеку в Сибири надо быть всегда начеку, как и зверю в тайге. Опасность не страшна, если встречаешь ее лицом к лицу. Сноровки и отваги в этом деле у русского человека достаточно, но если проспал или прозевал, то стрела прилетит в спину или нож татарский ударит.
Можно порадоваться за Вульфа. На одной из ямщицких ям, где пришлось задержаться по причине вынужденной замены полозьев у саней, ему наконец удалось опробовать изготовленное вологодским кузнецом копье.
Рано утром Вульф и Дарья, собрав все необходимое для испытания копья, отправились в чисто поле. С ними под предлогом необходимости охраны, чисто из любопытства, увязалось несколько казаков. Те не могли взять в толк, зачем понадобилось столь необычной длины металлическое копье, с которым неудобно управляться даже самому здоровому мужику. Все объяснения Вульфа насчет метания бомб с помощью огненных стрел были для них абсолютно непонятны и отдавали чертовщиной.
Вульф с помощью Дарьи, которой тоже все было любопытно, воткнул копье острием в землю и наклонил в сторону небольшого холма, что в трехстах саженей возвышался посреди поля. Затем с помощью колец установил на копье стрелу. Та представляла собой тонкую трубу, клепанную из листового железа, начиненную огненным зельем и с закрепленной на конце бомбой.
Все с любопытством наблюдали за приготовлениями, не представляя, что будет.
Вульф зажег факел, запалил им фитиль и отбежал на безопасное расстояние. Вскоре появился дым, затем пламя от загоревшегося зелья. Стрела угрожающе загудела и тронулась с места. Набирая скорость, она скользнула вдоль копья и, сорвавшись с него, устремилась в сторону холма. Стрела воткнулась в снег, в аккурат на его склоне. Немного еще подымила, почадила, а затем раздался взрыв бомбы.
Вульф сиял от радости, Дарья, не удержавшись, прыгала от восторга, онемевшие от ужаса и удивления казаки стояли с открытыми ртами. Триумф был полным.
Потом казаки долгое время рассказывали об увиденном, истолковывая все по-своему, привирая, пока сотоварищи не стали над ними подсмеиваться и обвинять во лжи.
9
Верховья реки Ишим. То же время.
Историческая справка. В 1628 году некогда единое Монгольское государство было разделено на множество княжеств, где властвовали Алтын ханы. Подвластный им киргизский народ в то время проживал в южных степях приенисейской земли. Рядом, в горах Алтая, расположилось сильное государство Джунгария. В монгольских степях кочевали калмыки, многочисленный народ, претендующий на самостоятельность. Все они люто ненавидели друг друга и вели постоянные войны, отличающиеся крайней жестокостью, когда уничтожались целые племена и народности. Потерпевшие в этих войнах неудачу орды калмыков, спасаясь от полного уничтожения, уходили в Великую сибирскую степь. Там, в союзе с местными кочевыми племенами, они представляли серьезную опасность для русских территорий.
Прокатился ряд восстаний, поднятых сибирскими татарами при поддержке киргизов и калмыков. Эта опасность была отвращена только благодаря провидению: русские не смогли бы справиться с таким большим числом врагов. Единственное преимущество русских заключалось в том, что их противники не знали своих собственных сил и были недостаточно объединены.
Укрывшись среди густых дубрав от пронизывающих зимних ветров в верховьях реки Ишим, стоял лагерь калмыков. Арбы были поставлены кругом, таким образом представляя неплохую защиту от нападения других ордынцев. Внутри круга расположились юрты, крытые верблюжьим войлоком. Кругом горели костры, дымя сырыми дровами. Собранный сухой хворост припасли на случай вынужденной кочевки. Не лучшие времена переживало племя. Грозный Алтын хан напал на их род, огнем и мечом решив уничтожить их народ. После страшных боев остатки племени ушли из родных мест.
Вот уже третий год, как кочуют они в чужих степях. Залечили раны, женщины опять рожают детей. Приходилось подчиняться местным ордынцам, ногайским татарам. И хоть те не требовали с них ясака, но приходилось поддерживать их в набегах на русские города. Для калмыков то дело привычное. У кочевников два занятия: скотоводство да военные набеги на соседей. Грабить русские города, а вернее, окрестные поселения, – дело выгодное и на первый взгляд неопасное. Налетит неожиданно калмыцкая орда, пограбит беззащитные посады, пока русские соберутся с силой, и уйдет опять в степь, угоняя скот и полон. Но русские упрямы, не давали спуску, шли в степь и били ордынцев, разоряя их стойбища. Дивились поначалу калмыки, когда русские малым числом пришли, и сами пошли на них. Страшен оказался северный сосед. Бородатые, закованные в железа русские воины, владеющие огненным боем, были непобедимы. Большим числом пали тогда ордынцы, остальные спаслись, убежав в степь. Теперь только тысячными ордами и по крайней нужде шли в набег на русские города, а потом одно спасение – уйти далеко в степь, но и там доставала их казацкая сабля и пуля.
Об этом, сидя в теплой юрте, размышлял тайша Талай. Очень много у калмыков врагов. По ту сторону Алтайских гор из родных степей угрожают монголы: здесь, с юга – Казахская орда; с севера – русские.
В союзниках одни ногайские да барабинские татары. Склонялся тайша Талай к дружбе с русскими, но пока не время: слишком многие калмыцкие тайши против, некоторые даже ратуют за возвращение и продолжение войны с монголами, что окончательно уничтожит калмыцкий народ.
Эти думы были прерваны появлением слуги, который, низко кланяясь, вошел в юрту.
– О бесстрашный и мудрый тайша! Твои доблестные воины схватили казаха, который, умирая, успел сказать, что по степи идет бухарский караван, полный несметных богатств.
Алчно заблестели глаза у тайши. Захватить караван бухарских купцов – это большая удача. При мысли, что он сможет скоро откушать плова, которого не видел слишком долго, у него даже побежали слюни. Призвал он к себе воинов и велел разослать по степи отряды в поисках каравана.
Именно в это время, когда в стойбище калмыков не осталось ни одного воина и тайша Талай из осторожности приказал затушить все огни, бухарский караван, скрадено пробиравшийся сквозь пургу, неожиданно для всех наткнулся на стойбище.
То, что здесь началось, трудно представить. Свирепо, с надрывом залаяли псы. Коровы, бараны, верблюды, кони взревели с жертвенным отчаянием. Калмыки и бухарцы, решив, что настал их последний час, бросились спасать себя и близких. Сумятицу усиливали ночная тьма и завывающая метель. Не видя и не понимая происходящее, люди метались, выли от отчаяния, доводя вакханалию до предела.
Тимофей в эти минуты вспомнил об Оксане. Отыскав верблюда, на котором в плетеной клетке билась девушка, он схватил его за поводья и погнал своего коня, увлекая животных в степь.
Турай ад Дин в этой суматохе самообладание не терял. Он беспокоился только о господине. Не потеряв ни одного верблюда с поклажей, он спешно последовал за Тимуром.
Бухарцы применили старый испытанный способ – бросили несколько верблюдов с ненужной поклажей. Ордынцы, пока ее не разберут и не поделят, преследовать не будут. Это, как кусок мяса, брошенный волкам, чтобы задержать стаю. Сам караван, разделившись на части, тоже устремился в степь.
Так распорядилось на этот раз Провидение. Натешившись вдоволь, оно сжалилось над людьми, воздав всем по заслугам. Бухарцам – спасение жизни и их добра. Тайше Талаю – вожделенный мешок с рисом, который отыскался в поклаже одного из брошенных верблюдов.
Глава третья
Тимофей Шорин
1
Город Тюмень. Декабрь 1628 год.
Историческая справка. В начале 1586 года по велению царя Федора Иоанновича, последнего из рода Рюриковичей, из Москвы за Уральский Камень был отправлен отряд служилых людей во главе воевод Василия Сукина и Ивана Мясного. В походе участвовали Ермаковские казаки с уцелевшими в боях атаманами Матвеем Мещеряком и Черкасом Александровым, которые были вынуждены уйти из Сибири после гибели Ермака Тимофеевича в 1585 году.
29 июля 1586 года было начато строительство Тюменского острога, ставшего первым русским городом в Сибири. К строительству привлекли и местных татар. Строились на чистом месте, на правом берегу Туры. Площадка для города была выбрана на редкость удачно. Просторный мыс, ограниченный с запада оврагами Тюменки, а с восточной стороны – крутым берегом Туры, господствовал над окружающей местностью и легко мог быть укреплен. За неделю соорудили острог — вертикально вкопали в землю плотно пригнанные друг к другу заостренные бревна. В то же лето ратники выкопали ров с южной, полевой, стороны, насыпали земляной вал, а внутри острога поставили съезжую избу, жилые дома, амбары и церковь Рождества Богородицы. Для возведения более капитальных крепостных сооружений времени не было.

