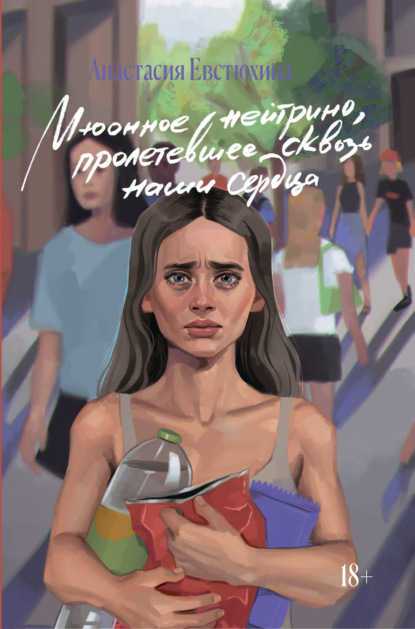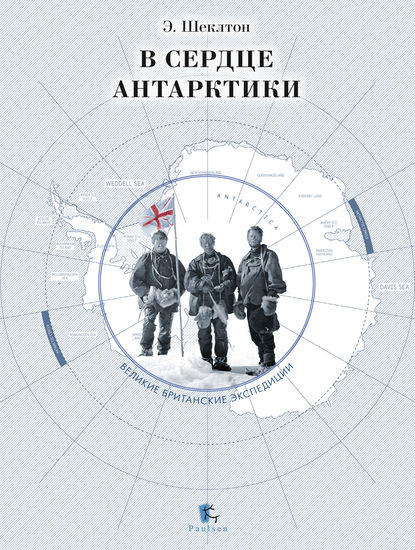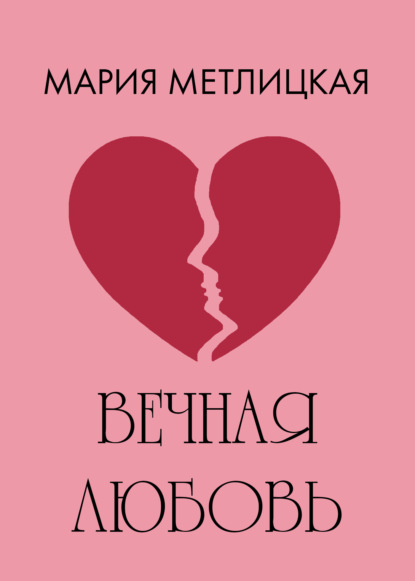Жатак
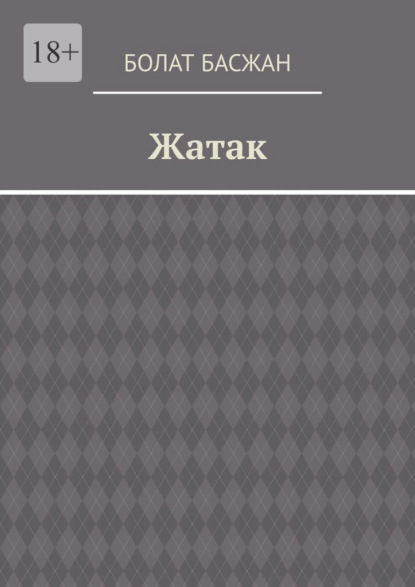
- -
- 100%
- +

© Болат Каиргельдинович Басжан, 2025
ISBN 978-5-0065-6744-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Жатак
«Такие несчастные жатаки исключительно живут в северной части города, в тесных, сырых и темных землянках. При виде этих человеческих жилищ невольно задаешься вопросом, неужели в таких норах живут люди? При входе в землянку вы увидите самую бедную обстановку, какая только может существовать; вместе с людьми увидите телят, ягнят, козлят, которые своим убогим видом как бы дополняют печальную картину человеческого жилья. Вечно нуждаясь в средствах, обитатели этих трущоб, чтобы удовлетворить своим жизненным потребностям, прибегают к разным непохвальным способам добывания себе денег. На кое-как заработанные гроши они „алыпсатарничают“ и ловко обирают или обманывают своих степных братьев, которые слишком доверчиво относятся к ним в надежде, что те им свои люди – не обманут и не обидят, и на добытые правдой и неправдой гроши пьянствуют, покупают табак и играют в азартные игры. Особенно распространены у них игры: в „орлянку“ и игра в „три листика“. Городские жатаки целый день проводили в игре в „три листика“, в особенности с приезжими из степи казахами. При этом они пускали в ход мошеннические проделки, благодаря которым ничего не подозревавшие простодушные степняки оказывались обобранными до последней копейки».
«Киргизская Степная Газета» (№14, 1895 г.)
«Жатаки» – обедневшая часть казахского кочевого общества, вынужденно перешедшая к оседлому образу жизни.
Жатаками казахи называли тех своих сородичей, которые оставили кочевой образ жизни и перешли на оседлый. Одни из них занимались торговлей, преимущественно, со своими же сородичами-степняками и, при известной ловкости и изворотливости, часто богатели, обзаводились своими домами, лавками и капиталами. Другие занимались ремеслом и трудом добывали себе хлеб. Некоторые жатаки достигали известной степени зажиточности и охотно приписывались к городскому мещанскому обществу. Большинство же жатаков жили в крайней бедности. Основная часть жатаков – это обедневшие казахи-скотоводы, лишенные средств к существованию, прокармливавших свою семью за счет наемного (в основном сезонного) труда или перешедших к землепашеству под влиянием хозяйственных перемен внутри скотоводческого общества.
Основными причинами формирования жатачества (отходничество) были падеж скота от бескормицы, углубление социальной дифференциации аульной общины, которые в совокупности предопределили рост численности обедневших крестьян – жатаков, занятых теперь земледельческим трудом. Проникновение товарно-денежных отношений в экономику казахского аула, постепенное разорение скотоводов и увеличение численности казахов, не имеющих скота, превратили земледелие в наиболее выгодную форму хозяйства, обеспечивающую хлебом не только повседневные их нужды, но продажу части хлеба на городском рынке.
Наряду с земледелием жатаки стали принимать участие в сезонной работе по строительству первых железнодорожных линий в Казахстане, что оказалось весьма важным для приобретения технического и вообще производственного опыта, разрушения хозяйственной замкнутости казахского аула, массового отрыва жатаков от натурального хозяйства. Также большая часть казахов бедняков в поисках средств к существованию уходила в города и в последствии явилась одним из источников формирования и роста местного рабочего класса.
В целом, жатачество сформировалось как особая социальная прослойка в общественно – классовой структуре казахского аула и способствовало углублению хозяйственной дифференциации скотоводческого хозяйства.
Кочевые народы высоко ценили свою свободу, вольность и независимость. В этом смысле они были настоящими «кочевыми патриотами». Традиции подвижной жизни, мобильное имущество и технологии, кочевая нация с прямыми выборами, особое степное общество, мировоззрение, социальное устройство, население и прочие особенности отличали их от оседлых народов.
Кочевые народы гордились своим особым статусом. С точки зрения кочевника – слезть с лошади-верблюда, потерять скот, перебраться из юрты в землянку – значит потерять свой смысл жизни, утратить человеческий образ. Это считалось настоящей личной трагедией, катастрофой.
Поэтому слово «жатақ» означает именно такую ситуацию – утрату кочевого образа жизни, потерю человеческого достоинства – или буквально «лечь, слечь». Кочевой народ – это «подвижный, свободный, вольный, независимый» народ. А «лежащий» народ – это «выродившиеся, упавшие с лошади, опустившиеся до ходьбы пешком» люди. Именно отсюда казахская пословица «жаяуға кез-келген жол алыс» (любой путь слишком далек для пешего).
Что же происходило с теми частями кочевого народа, которые становились «жатақами»? Конечно, некоторые из редких счастливчиков снова богатели, покупали скот, садились на лошадей, и снова становились «людьми». Это был самый большой успех для жатақа. Но таких было очень мало. Чаще всего жатақи «ложились» навсегда. Конечно, жатақи не умирали от голода. Как бы то ни было, они находили способ выжить. Они могли зарабатывать на жизнь попрошайничеством, батрачеством или земледелием. Но их статус необратимо менялся.
Через некоторое время потомки жатақов привыкают к «лежачему» образу жизни. Их мировоззрение уже не «подвижное, свободное, степное» – а «привязанное к одному месту». Понемногу они привыкают к новой жизни, осваивают новые профессии и становятся «полностью оседлыми». Накопив денег, покупали землю, строили дом, заводили огород, или занимались ремеслами, или поступали на службу в оседлом обществе, или вовсе переезжали в города – так вчерашние кочевники становились «новыми оседлыми».
Глава I
Наверняка тот день Жаксылык запомнил на всю жизнь, а связан он был с приездом в город Петропавловск. Два дня пути он провел в дороге, покидая родной аул, что находился в степях неподалеку от Борового, на расстоянии 240 верст к югу от Петропавловска, в Акмолинской области. Дорога тянулась бесконечной полосой через степную равнину, и единственным способом добраться до города оставался почтовый тракт, по которому проезжали ямщики, чиновники и редкие торговцы. Лошади то неторопливо шли шагом, то переходили на рысь, утопая копытами в пыли тракта. Жаксылык сидел, раскачиваясь в такт движению телеги, и сжимал в руках узелок с нехитрыми пожитками. Впереди ждал город – шумный, чужой, полный возможностей и испытаний. Он не знал, что встретит там, но твердо решил: назад дороги нет. По почтовому тракту до города Петропавловска обычно ездили на почтовых лошадях, если не было собственного экипажа. Люди состоятельные предпочитали путешествовать на протяжных, нанимая вольных ямщиков. Почти каждый извозчик мог указать таких ямщиков или сам предлагал услуги, обеспечивая наем лошадей и сопровождение до Петропавловска или ближайших станций. Жаксылык не был богат, поэтому его путь лежал на простых почтовых лошадях. Он сидел в легчанке, укутанный в чапан, а холодный степной ветер пронизывал насквозь. Позади оставался родной аул, а впереди – незнакомый город, куда он ехал в поисках новой жизни. Эти способы передвижения занимали немало времени и имели множество недостатков, но выбора у путников не было. Дорога по почтовому тракту могла занять от двух до трех суток, в зависимости от погоды, выносливости лошадей и прочности экипажа. Приходилось делать остановки на постоялых дворах, где можно было покормить лошадей и немного отдохнуть. За неимением крытых экипажей путешествовали чаще всего в «легчанках» – телегах с плетеными кузовами. Они плохо защищали от ветра и пыли, поэтому дороги по весенней распутице или зимнему морозу превращались в настоящее испытание. Жаксылык всю дорогу кутался в свой чапан, пытаясь сохранить тепло, но холод пробирался до самых костей. Он не спал почти всю ночь, прислушиваясь к скрипу колес и ритмичному стуку копыт по утоптанной дороге.
На протяжении всего почтового тракта до Петропавловска встречалось лишь два значительных села. Первое – Богодуховское, располагавшееся в 90 верстах от города, неподалеку от Джамантузской станции. Второе – Азат, почтовый пункт, находившийся в 80 верстах от Борового. Между Азатом и Боровым был еще один небольшой поселок, но после него начиналась бескрайняя степь, где путникам приходилось рассчитывать только на себя, лошадей и случайных попутчиков.
От села Азат до Петропавловска дорога тянулась через необозримые просторы, среди высоких сухих трав и редких курганов. Единственными признаками жизни были пикеты – почтовые станции, представлявшие собой две-три избушки с хлевами для лошадей и наскоро сколоченными ночлежками. В этих местах редко встречались путники, и ночь в степи могла быть особенно тягостной – ветер выл в проймах телеги, а вдалеке порой слышался вой волков.
В хорошую, ясную погоду путь до Петропавловска не представлял особых трудностей. Лошади уверенно шли по укатанной дороге, экипаж мягко покачивался на рессорах, а степной ветер освежал путников. Однако стоило погоде испортиться, как дорога превращалась в настоящее испытание.

Ямщики вынужденно сворачивали с основного тракта, выбирая объездные колеи, хоть и ухабистые, но менее топкие. Грязь засасывала колеса экипажа, лошади скользили, с трудом вытягивая повозки из вязкой жижи. Ветер гнал в лицо холодный дождь, а порой и снег, который тут же превращался в месиво под копытами. В такие дни даже крепкому и здоровому человеку было нелегко выдержать дорогу, а больному оставалось только надеяться на отсрочку поездки или вовсе отказаться от нее, если жизнь была дороже цели путешествия.
От пикета Аксуйского дорога уходила в бескрайнюю степь, где взор терялся в золотых просторах ковыля. Степь была ровной, лишь местами слегка всхолмленной, и казалось, что она тянется до самого горизонта, сливаясь с небом в легкой дымке. Пейзаж не менялся на протяжении долгого пути – ни деревьев, ни водоемов, только гулкий скрип колес по сухой земле и редкие силуэты табунов, пасущихся вдали. Но ближе к станции Джамантузской степь начинала оживать. Появлялись небольшие березовые рощицы, словно островки зелени среди желтой равнины. А неподалеку от самой станции неожиданно вставал перед путниками небольшой, но густой сосновый бор – единственное напоминание о лесах, что оставались далеко позади.
До аула Азат Жаксылык добирался на вольных ямщиках, платя по 10 копеек за версту. Это был распространенный способ передвижения среди тех, кто не мог позволить себе нанять лошадей сразу на весь путь. Вольные ямщики хоть и брали дороже, но давали возможность гибко договариваться о цене и условиях поездки. Однако с Азата начинался уже официальный почтовый тракт, и дальше путь требовал точного расчета. Прогонная плата составляла 3 копейки за версту на каждую лошадь, плюс 10 копеек государственного сбора за перегон с одной лошади, 12 копеек за экипаж, и, конечно, обязательный «на чай» – без этого доброжелательного жеста можно было нарваться на недовольство ямщиков, а в дороге лучше было иметь их расположение. На станциях приходилось ждать, пока сменят уставших лошадей, а если свободных не оказывалось, то задержка могла растянуться на часы. Но, несмотря на все неудобства, путь продолжался, и Петропавловск становился все ближе.
Вся дорога до Петропавловска обошлась Жаксылыку примерно в 20 рублей – немалые деньги для него и его семьи. Однако решение было принято заранее, и для этого пришлось продать всю скотину, что оставалась у них, а также занять денег у местного бая под высокий процент. Конечно, было бы выгоднее ехать с попутчиком, что позволяло бы сэкономить, но для этого нужно было либо найти его заранее, разместив объявление, либо ждать подходящего человека. Некоторые, кто искал попутчиков, ожидали по несколько дней. Но Жаксылык не хотел тянуть, его цель была ясна – как можно скорее попасть в город Петропавловск.
Старый ямщик, оглядывая попутчика, не скрывал своего пристального взгляда.
Жаксылык был среднего роста, но из-за своей худобы и длинных ног выглядел значительно выше. Его рубаха была запачкана, а выцветшие рукава едва доставали до запястья. На плечах висел стеганный шапан с шерстяной подкладкой, а на ногах – залатанные штаны, которые рассказывали о продолжительном использовании. На голове носил тюбетейку, скрывающую короткую стрижку. Лицо, худое и иссохшее, отражало усталость, а глаза выдавали многолетнее бремя жизни. Он словно был выжат годами, несмотря на свой молодой возраст. Все, что у него было – это небольшой узелок и совсем немного провизии.
– Бежишь от кого? – с улыбкой спросил старый ямщик, наблюдая за молчаливым попутчиком. Жаксылык молча, взглянул на него и отвернулся, не говоря ни слова.
– Ну, значит, бежишь, – пробормотал ямщик себе под нос и слегка дернул вожжи.
– От кого мне бежать? В город, в Петропавловск, на работу, – наконец заговорил Жаксылык.
– На работу – это хорошо! Бывал уже в Петропавловске? – продолжил разговор ямщик.
– Нет, первый раз, – ответил Жаксылык, слегка оживившись.
– А работу-то нашел? Кто-то ждет тебя? – не унимался старик.
Жаксылык снова замолчал, укутался в свой шапан и закрыл глаза, пытаясь уединиться от лишних разговоров. Жаксылык, устроившись в углу экипажа, тихо сидел, погруженный в свои мысли. Лошади уверенно тянули повозку по дороге, а за спиной медленно исчезали мягкие холмы и леса Борового. Этот вид, знакомый с детства, щемил сердце. Он понимал, что, возможно, больше никогда не увидит эти места. Прощание с аулом было поспешным и тревожным. Он ушел не потому, что хотел забыть прошлую жизнь, а потому, что стремился к лучшему будущему. Рассказы пастухов о городе будто поселили в нем мечту, которая, несмотря на все опасения, не давала покоя. Ему представлялся город как место, где жизнь течет по-другому – легче, богаче, насыщеннее. Там, по словам очевидцев, люди могли заработать честным трудом и ни в чем себе не отказывать. Но в глубине души Жаксылык знал, что его план – риск. Он продал почти все, что осталось у семьи, с трудом выторговав деньги на дорогу. От этих мыслей становилось горько: родители остались в своем старой юрте, без скота, с ещё меньшими запасами на зиму. Но он убедил себя, что это временные трудности. Если ему удастся устроиться в городе, он сможет отправить деньги родным и в скором времени перевезти их к себе.
Его представления о городской жизни грели душу. Он видел перед собой светлый образ: большие, уютные дома с просторными комнатами, улицы, вымощенные камнем, базары с изобилием товаров и еды, люди в красивых одеждах, с гордо поднятыми головами. В городе не нужно было часами гонять скот по степи, не приходилось мерзнуть зимой, разыскивая пропавших овец. Жизнь там казалась сказкой, особенно для того, кто всю жизнь провел в ауле, где каждый день был борьбой за выживание.
Однако дорога напоминала о реальности. Все его планы были построены на неопределенности. Впервые Жаксылык уезжал так далеко и в полном одиночестве. Его никто не ждал, работы он не нашел заранее, а денег в кармане не было. Веки Жаксылыка наливались тяжестью, но сон не приходил. Лицо его напряглось: сердце то замирало, то стучало быстро. Страх не оставлял его – страх неизвестности, страх за будущее, за родителей, которых он оставил в тяжелом положении. Но глубоко в груди теплилось другое чувство – вера. Вера в то, что он сможет справиться. Что все жертвы, которые он принес ради этой поездки, оправдаются. Жаксылык держался за эту надежду, как за единственную опору, и ждал, когда ямщик доставит его в новый, незнакомый мир.
Жаксылыку повезло с погодой и ямщиком, и они довольно быстро и без приключений добрались до пункта назначения. Почти всю дорогу Жаксылык молчал, лишь изредка перебрасываясь парой фраз со старым ямщиком, который пытался разговорить попутчика. Жаксылык торопился, потому что боялся, что отец передумает его отпускать, и вся его история о работе в городе вскроется. Но, несмотря на все сомнения, Жаксылык был уверен, что поступает правильно, и что в их семье снова появится достаток, как это было когда-то. Он мечтал со временем перевести родителей в город, чтобы они больше не жили в суровых степных условиях, чтобы не приходилось каждый день пасти скот и работать в холоде, искать пропавших животных. Он слышал рассказы других пастухов о жизни в городе: там люди не знали забот, жили в богатых домах, ели вкусную еду, носили красивые одежды и лечились в больницах. Там дети учились в школах, и все было так, как он представлял себе в мечтах. Все эти рассказы о городской жизни наполняли сердце Жаксылыка восторгом и надеждой на лучшее будущее, что и заставило его покинуть родной аул и отправиться в город в поисках новой жизни.
Глава II
Экипаж бодро катил по утренней дороге, вдалеке уже виднелись очертания города: крыши домов, узкие трубы, над некоторыми вился дым. Город начал появляться перед Жаксылыком, величественный и чуждый, как нечто совершенно новое и непознанное. Он не мог отделаться от чувства страха и неуверенности. Его мир, наполненный простыми радостями и трудностями, был далек от того, что он видел вокруг. Небо было ниже, а дома – больше. Улицы, казалось, только начинали просыпаться.

– Дед, у вас работа есть? – неожиданно заговорил Жаксылык.
Удивленно глянул на него старый ямщик и ответил: – Есть у меня один купец знакомый. Мужик строгий, но справедливый. Если захочет, возьмет тебя. А нет – хоть посоветует чего. Только, джигит, не растеряйся перед ним, умным выгляди, понятно?
Жаксылык нервно тер руки, сидя в телеге. Его сердце стучало так, будто оно хотело вырваться наружу. Он пытался переварить слова ямщика, но тревога о будущем не давала ему покоя. Город был чужим и невероятно пугающим. В голове крутились мысли: «Что я скажу этому купцу? А если он меня прогонит? А если даже на подсобную работу не возьмет?»
– А где найти этого купца? – спросил Жаксылык, не отводя взгляда от пыльной дороги.
– О, его все знают. Я сам тебя отвезу, сделаю доброе дело!
Жаксылык кивнул, но молчал. Дыхание его стало тяжелее, руки сжались в кулаки. Он думал о том, как сможет заговорить с незнакомым человеком, ведь он всегда был неловким в разговорах с незнакомцами.
– Вот и город, держись, джигит, – перебил его мысли ямщик, когда они въехали на узкие улицы. Лошади замедлили шаг, и город загудел вокруг: скрип телег, стук копыт, оживленные голоса торговцев. Глаза Жаксылыка метались из стороны в сторону. Всё казалось огромным: дома с высокими фасадами, вывески с витиеватыми буквами, блестящие витрины.
– Отец, спасибо тебе за помощь, – сказал Жаксылык, его голос прозвучал тверже, чем он сам ожидал, но внутри всё дрожало. Повезло мне с ямщиком, это хороший знак подумал Жаксылык.
– Эх, джигит, дай Бог тебе удачи! И я был молод, и тоже мечтал о большом городе, но вот уже двадцать лет в пути, и всё как-то не складывается. Не забывай, что в жизни все зависит от упорства. А ты держи голову высоко, смотри на людей прямо в глаза, не давай им почувствовать твою слабость, – добавил старый ямщик, слегка улыбаясь, хотя в его глазах было что-то грустное, словно он пытался передать свою мудрость молодому человеку, который вот-вот вступит в новую, непредсказуемую жизнь. Жаксылык кивнул. Он понимал, что слова ямщика – это не просто пожелание, это напоминание о том, что не так просто будет пробиться в этом новом для него мире. Но его решимость не угасала. Он вздохнул и оглянулся на величественные стены города. Всё, что его окружало, было для него новым.
Жаксылык с каждым шагом все глубже ощущал контраст между этим городом и его родным аулом. Улицы, вымощенные булыжником, будто чередующиеся с солнечными пятнами и тенями, создавали атмосферу живого, постоянного движения. Звук копыт, который казался таким громким и напоминал ему о том, что его жизнь тоже вот-вот войдет в этот круговорот. Он с интересом наблюдал за людьми, которые уже начали свой день. Торговцы, суетящиеся у своих лавок, выкладывали товар, беседовали друг с другом, словно это было обыденным делом. В их глазах Жаксылык не видел ничего необычного – только уверенность и привычку к жизни, которую они вели. Люди, несомненно, были частью этой городской гармонии, а он… он был пока чужд этому месту.
Его взгляд устремился к зданию, к которому они направлялись, – большому купеческому дому, который тоже выглядел величественно на фоне других. Всё здесь было таким грандиозным и устоявшимся. Каждая деталь, от мозаики на воротах до сверкающих окон, говорила о богатстве и статусе. Это было двухэтажное кирпичное здание, первый этаж которого использовался под магазин и складские помещения. На втором этаже жила семья владельца дома. Купцы были очень состоятельны, занимали видное место среди местных жителей и пользовались всеобщим уважением. Лошади тихо застопорились перед большими воротами. Это место было далекое и чуждое, но одновременно манящее.
– Приехали, джигит, это дом Алибая Мухамеджанова. Ты подожди меня здесь, – сказал ямщик, спрыгивая с телеги и не обращая особого внимания на состояние попутчика.
Жаксылык, не спеша, тоже спрыгнул с телеги, ощутив твердую землю под ногами. Он чуть сжал кулаки, пытаясь взять себя в руки. Он сделал шаг вперед, с надеждой, что его ждет тот, кто, может быть, поможет. Жаксылык, почувствовав какое-то странное беспокойство, стоял у ворот, ожидая, что будет дальше. Он внимательно смотрел, как ямщик стучит в дверь.
Входная дверь приоткрылась, и старый ямщик вошел в дом. Жаксылык медленно подошел к двери, не совсем уверенный в том, что его ждёт внутри. Он увидел, как старый ямщик исчез в доме, и на мгновение оставался стоять на месте, прислушиваясь к звукам, доносящимся изнутри. В доме было тихо, словно всё происходящее там было частью незримого ритуала, скрытого от чужих глаз. Он шагнул в сторону и остановился у входа, где его взгляд случайно встретился с огромными деревянными дверями и колоннами, которые украшали фасад дома. Это был не просто дом – это было символическое место, окружённое историей и статусом.
Но тут снова появился старый ямщик, его лицо, приоткрытое в улыбке, рука в жесте приглашения.
– Джигит, – сказал он, – иди, не бойся. Проходи.
Жаксылык вздохнул, несколько раз провёл рукой по лбу и с решимостью шагнул внутрь. Впервые он видел такие хоромы изнутри. Жаксылык осторожно ступил через порог, чувствуя, как пол под ногами пружинит от мягкости ковров. В доме была необыкновенная чистота и опрятность. Он осмотрелся, пытаясь впитать каждый уголок этого места. Стены, выкрашенные в светлый цвет, казались почти сияющими, а картины и молитвы, красиво оформленные на них, наполняли пространство духовной атмосферой. Изречения из Корана, написанные каллиграфическим шрифтом, выглядели как нечто священное, придавая дому ощущение уюта и почтительности. Весь пол был устлан кошмами, а поверх них еще красивыми коврами. Комнатных цветов было много. У одной из стен была кровать с балдахином, которая до потолка была нагромождена подушками. У другой стены стояли сундуки, один на другом, образуя целую пирамиду. Сундуки были окованы белой жестью с разными украшениями.
Посреди комнаты на ковре стоял круглый приземистый стол, на очень коротких ножках. Такой же был у них в ауле, Жаксылык на минуту вспомнил родных. Стол был накрыт скатертью с множеством блюд и различных сладостей: казы (колбаса, начиненная кониной), пирожки с малиной, хворост, мармелад, урюк, конфеты, миндаль, орехи, фрукты, варенье. За два дня в пути Жаксылык был готов съесть все, что было на столе. Такого разнообразия еды он видел впервые. Его удивляло, что у людей, которые жили в таких домах, совсем не было забот и проблем.
Жаксылык почувствовал, как его желудок сжал острием голод, но вместе с этим в груди заволновалось чувство странного волнения. Он сидел за этим столом, окружённый дивным изобилием, которое так контрастировало с его недавним скромным обедом в пути. Тут было всё, что он мог только мечтать: ароматное мясо, сладкие пирожки, сухофрукты, такие, которые он не видел ранее. Соседний стол, тоже накрытый изысканными угощениями, напомнил ему о доме, о том, как его мать всегда ставила на стол любимые угощения – это было то, что давало ощущение дома и тепла.
– Давай, джигит, ешь, не стесняйся! – усмехнулся молодой человек, сидящий напротив, – Такого добра тебе не видать в степях.
Жаксылык неловко улыбнулся и, наконец, потянулся к тарелке, ощутив, как его тело почти в благодарности откликается на вкусноту.