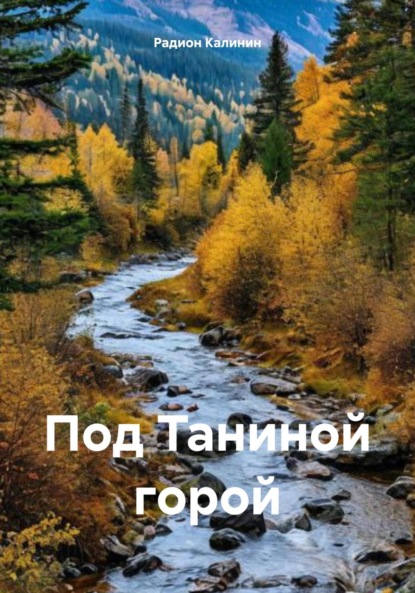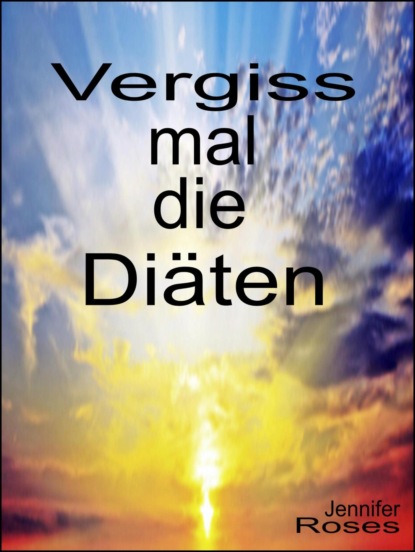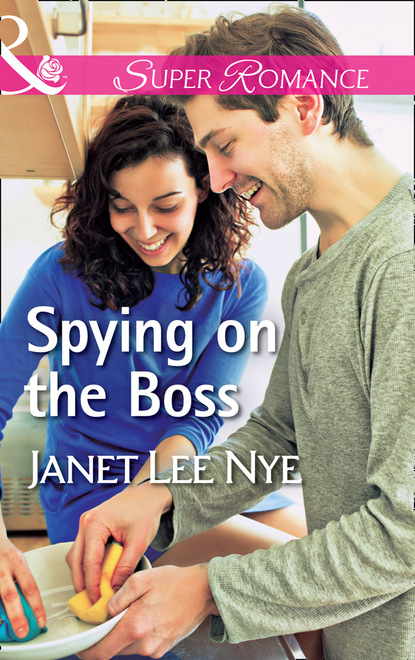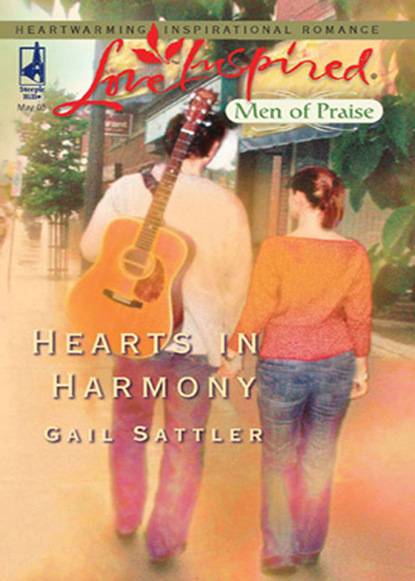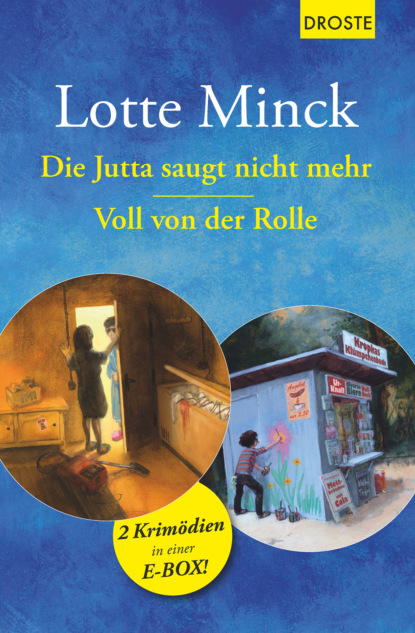- -
- 100%
- +

Радион Калинин
Под Таниной горой
Отцу и матери,
братьям и сестрам,
их сыновьям и дочерям – посвящается
Предисловие
Чудный, незабвенный, неповторимый по своей суровой красоте уголок уральской природы встретит вас, приехавшего в Коптело–Шамары, хоть зимой, хоть летом, хоть весной, хоть осенью. С одной стороны смотрит на вас пологая Танина гора, с другой – крутая Балабанова, с третьей – круглая Синяя. А между ними то шумит, то втихомолку катится горная Сылва – река.
Все, о ком упоминается в этом сборнике очерков, либо родились, либо выросли, либо жили под Таниной горой. Для меня, моих братьев и сестер этот уголок земли милее и дороже всех на свете. Здешним воздухом дышал каждый из нас в младенчестве и детстве, здешняя земля исхожена нашими босыми ногами, здешние дожди омывали наши русые головы, здешние морозы румянили наши бледные лица, здешняя трава полита нашими слезами.
Танина гора, Гарюшки, Нагайский лог – это наша родина, маленький кусочек великого Союза Советских Социалистических Республик, большая частица биографии каждого из нас.
Заранее оговорюсь, что очерки не претендуют на подробное и всестороннее описание жизненного пути наших родителей, братьев и сестер. В них /очерках/ я сделал первую попытку рассказать, где мы родились, в каких невероятно бедных, нищенских условиях жили, как рвались к учению, как постепенно вставали на ноги. Не будь Великой Октябрьской социалистической революции, не будь Советской власти – прозябать бы нам и нашим детям в темноте и невежестве, жить бы в голоде и сырости, перебиваться бы с хлеба на квас, носить бы по-прежнему лапти, холщовые штаны и рубахи.
Приезжая на родину, никто из нас не минует отцовского дома, дома невеселого детства, с сожалением примечая, что дом этот уже покосился, врос в землю. Но память детства, память горьких лет неизменно влечёт нас всякий раз к этому старенькому деревянному дому, из окон которого, то с радостью, то с тревогой смотрели тятя и мама, ожидая нас, замерзших, посиневших, вывалявшихся в снегу, из школы, либо из дальних мест, наконец, с войны. Разве забудешь ступеньки крыльца, на которых сидел тятя, обуваясь в лапти. Разве не поглядишь на лавку, на которой сидела мама, держа нас на коленях, приговаривая: «Не плачь, милый сын», и на которой встретила свой смертный час.
Вот почему и теперь мы решительно стучимся и заходим в отцовский дом – нашу колыбель. Его стены, пол, потолок, матница, брус, печь, простенки, окна, лавки, сени, дверь обдают таким теплом, какого не испытаешь и в жаркий летний день. И вспомнишь ты в эту минуту, как ползал по грязному полу, как неуверенно переставлял неокрепшие ножки, держась за табуретку или тюрик, как самостоятельно перелез по брусу с печи на полати, как впервые выбежал на улицу, как увидел вошедших в избу Ваню Красного, Филю Кашика, Петю Пеновича или Калину глухого, как первый раз понесся в школу, как, выгибаясь на табуретке, падал на раскаленную железную печку, как мама не раз «счувала» тебя за шалость, как она кормила шаньгами, как тятя возвращался с ярмарки из Осова с кренделями, как Олеха Палахин с гиком и свистом подскакивал к дому на лошади, как ходил по малину в Гарюшки или за Соленую речку, как искал в гнездах куриные яйца, как спал на сеновале или в сенях, укрывшись пологом, как радовалась мама каждому нашему приезду, стараясь угостить получше.
Нет, невозможно забыть, нельзя пройти мимо отцовского дома. Дом этот – святая святых каждого из нас. Он вмещает в себя годы, историю нашего взросления, трудные дни и веселые часы. Здесь мы издали свой первый крик, произнесли первое слово, отсюда мы сделали первый шаг в жизнь. В доме этом – наши печали и радости, наши слезы и смех, наши нужды и достатки. В доме этом начиналась биография каждого из нас, и куда бы не забросила нас судьба, сердце непременно будет тянуться к этому незаменимому, дорогому, заветному месту, где каждый метр земли, каждый кубометр воздуха пропитан нашим дыханием, нашей кровью, нашей жизнью.
В этом доме мы впервые услышали родную – уральскую – речь. Может, кому-то и не понятны такие слова, как «еко место», «нафунил», «сопет», «всяко место», «ухайдакала», но нам они ясны без переводчика. Может, только в нашем доме или в нашей местности говорили и говорят: не «устал», а «пристал», не «красиво», а «баско», не «уборная», а «нужник», не «пищит», а «пишшыт», не «щи», а «шти», не «щель», а «шшель», не «дождит», а «дожжит», не «вчера», а «вчерась», не «прошлым летом», а «летось», не «прошлой зимой», а «зимось», не «прошлой осенью», а «осенесь», не «прошлой весной», а «веснусь», не «упал», а «валехнулся», не «полотенце», а «рукотерник», не «умывальник», а «рукомойник», не «кальсоны», а «подштанники», не «фартук», а «запон», не «ремень» и не «пояс», а «опояска», не «кочерга», а «клюка», не «немного», а «невного», не «муравьи», а «мураши», не «мороз», а «стужа», не «стирать», а «стираться», не «говорить», а «баять», не «портянка», а «онучи», не «сугроб», а «сумет», не «послушный», а «пословный», не «укорять», а «выкомуривать», не «хочется», а «гребтится», не «чешется», а «свербится», не «на самом деле», а «взаболь», не «откуда», а «откуля», не «оттуда», а «оттуля», не «лужа», а «лыва», не «коса», а «литовка», не «юбка», а «станавина».
Пожалуй, только в нашей местности говорят: хлеб-от, овес-от, осот-от, пирог-от, творог-от. Или: в амбаре насыпан горох да чё да.
Возможно, только в нашей местности говорят на манер украинского языка: мисяц, виял, сиял, ричка /вместо: месяц, веял, сеял, речка/.
Вместо величания человека по имени – отчеству «заглаза» /заочно/ называли человека этак слегка дружески, но в то же время с оттенком пренебрежительности. Имена мужчин и женщин в таких случаях оканчивались на «ша»: Петьша, Савотьша, Никша, Миньша, Китша, Кольша, Огруньша, Оганьша, Саньша, Марша. Если на «ша» не получалось, то окончание звучало на «ха»: Олеха, Лавруха, Макариха, Гришуха, Кормуха, Лариха, Ортюха, иногда на «га»: Мосяга, Оносяга, Матюга, а то и на «ко»: Пенушко, Лёвушко, Марушко. Женщин в этих случаях звали по собственному их имени и имени мужа: Катя Гришиха, Федя Ваниха, Катя Лавриха, Паруша Китиха, Евгенья Пашиха, Маряша Дияниха.
Зачастую отчество превращалось в прозвище или в уменьшительно – ласкательное прилагательное: Гришка Ваничкин, Ваня Николин, Полька Ларькин, Манька Пудова, Мишка Климин. В тех случаях, когда произношение имени и отчества не давало подходящих сочетаний, не было кратким или благозвучным, произносилось имя в сочетании с настоящей фамилией: Пашка Шамарин, Колька Лапенков, Дунька Попкова.
Имена детей произносились мягко, ласкательно и почти всегда с окончанием на «я»: Васькя, Митькя, Дунькя, Манькя, Ванькя, иногда на «о»: Санко, Иванко, Канко. Были случаи, когда детей звали только по имени их отца: Оверята, Софронята, Сидорята.
О людях навязчивых говорили: «Пристал, как банный лист к заднице» или «как репей к п…». О людях вредных отзывались: «С ним связываться, что в крапиву с… садиться». Если кому – либо везло или он богато жил, про него говорили: «Ему дивья» или «Дивья, всего полно». Про тех, кто выражался нецензурными словами, говорили: «Он матерится, матькается, матюкается». Человек, имевший мало денег, произносил: «Ну, куда их подернешь». О тихих, замкнутых отзывались: «В тихом озере черти водятся» или «Тих бандит, да вонько несет». Любимую девушку называли ухажоркой, симпаткой, гулеванкой, милашкой, шмарой, барышней, шалашовкой, – смотря по тому, в каких отношениях с ней находишься. Любимого парня – ухажором, кавалером, миленком, гулеваном.
Давно я не живу на Урале – с октября сорокового года, точнее, с того дня, как призвали меня в ряды Рабоче–Крестьянской Красной Армии. Но по родному уральскому разговору безошибочно узнаю своих земляков всюду – в Москве и Алма-Ате, в Ленинграде и Баку, в Таллине и Тбилиси, во Владимире и Сухуми, в Курске и Одессе, в Кольчугине и Судаке, в Калуге и Муроме, в Загорске и Иванове. Естественно, и земляки узнают меня.
Прощаться с покойником полагалось, не открывая его лица. Перед смертью человека клали под образа /под иконы/. Крышку гроба не заколачивали под тем предлогом, что покойник в свое время должен будет встать на страшный суд. Покойника, как и всюду, обмывали чистой водой, одевали в новое белье, обували в новые лапти.
Вспоминая детство, как не воскликнешь: какая чарующая прелесть – зимняя дорога в лесу! Легкий возок столь же легко, осторожно, певуче поскрипывает. А справа и слева, спереди и сзади – разлапистые ели, сплошь одетые в белое. Солиден, могуч, внушителен вид ели или пихты, бережно накрытой пушистым и мягким снегом. Кажется, не дерево это стоит, а дед – Мороз, нарядившийся в охренную овчинную шубу. И сколько бы ты ни ехал лесом – ни одной минуты не покидает тебя эта строгая, величественная, суровая красота русского леса, стоящего на страже и одинокого путника, и группы путников, и одинокой подводы, и десятка подвод. Вспорхнула птица, налетел ветер или задел человек за сук дерева – и оно мягко, чуть слышно, с тихим шуршанием сбрасывает с себя охапку снега в столь же мягкий, чуть податливый снег, толстым слоем приютившийся у подножия деревьев.
Чудо – ехать по зимнему лесу в морозный час. Мечтается и думается душевно, чисто, забористо. Затекла нога – вскакивай и беги рядом с санями или кошевой. Уже через каких-то пять минут почувствуешь, как начинают гореть ноги, руки, все тело, а лицо покрывается румянцем, будто от ярких лучей солнца. Хочешь – иди след в след, оставленный конскими копытами. Желаешь – ступай по гладкой, словно отполированной дорожке – следу полозьев. Снег скрипит, не переставая. Но этот скрип – не тележный, не деручий, не назойливый. Снежный скрип – ласковый, бодрящий, веселящий, наполняющий душу радостью и легкостью.
Уютно, блаженно, весело ехать по лесной дороге и в пургу. Макушки деревьев, беспрестанно качаясь на ветру, шумят, внося сладость в человеческую душу. Едется прекрасно, успокаивающе, убаюкивающее. В чистом поле и над лесом волнуется, кидается из стороны в сторону, дуется вьюга, а здесь, внизу, на дороге, под надежной защитой лесной стены, тишина.
Величественна дорога, когда плывут по ней, словно по белому морю – океану, высокие и широкие воза сена. Плывут они медленно, величаво, задевая снег, покачиваясь на неустойчивой дороге, а иногда и валясь набок. В лесу от возов сена и соломы – следы на сучьях. К весне эти клочья сена и соломы не побрезгует съесть ни лошадь, ни корова, ни овца.
Плохо, если лопнет завертка в пути. Помаешься, померзнешь, покряхтишь в такие минуты возле подводы. Потому-то заботливый хозяин, прежде чем пуститься на лошади в дальний путь, не раз обойдет вокруг саней или кошевы, потрогает сбрую руками, постучит по копыльям ногами, подергает, повиляет то, что ему кажется непрочным.
Когда воз с сеном падает набок, ездок или все ездоки сбегаются и подставляют свои туловища под накренившийся воз. Иногда с первой попытки, а то и не сразу удается поставить дровни с сеном на ноги. Помогают в этом незаменимые «Раз, два – взяли! Еще раз – взяли!». Другой раз какой-либо шутник или озорник выкрикивает такое, что уши вянут, а воз встает на свое место: «Сикнула, пернула, даже кожу сдернула. Раз, два – взяли!»
Любо было детворе пристроиться на санках или просто стать на кромки полозьев и ехать за столь большим, теплым, пахучим прикрытием. Любили мы в детстве искать в привезенном сене пиканные дудки. А иногда попадались то ягоды шиповника, то веточка земляники, то листочек лопуха, то маленькая, детского возраста, елочка или березка.
Сено метали на сарай или сваливали прямо под крышу. На дне сеновала всегда оставалась труха – средство для лечения простуды…
Не останавливаясь и не спрашивая нашего согласия, годы идут вперед. И, пока живы, мы бессчетное число раз будем восклицать:
– А помнишь, как мы ели гороховую кашу?
– А помнишь, как лечили горло, облизывая горячую поварешку?
– А помнишь, как собирали пиканы, срезая их тупым ножиком–квашенником?
– А помнишь, как больно было маме, когда у нее распух палец?
– А помнишь, как впервые попробовали и тут же выплюнули горькую брагу?
– А помнишь, как пересолили кашу, что от нее даже собака отвернулась?
– А помнишь, как чуть не угорели в бане?
– А помнишь, как чуть было не заблудились на болоте под Оносовым угором?
– А помнишь, как бегали по траве под дождем?
– А помнишь, как Антон ухитрился утащить из дому лагун с брагой в болото и устроил там выпивку?
– А помнишь, как Алимпиада придавила бревном ногу, а мама шла ей навстречу с ковшом воды?
– А помнишь, как тятя, уйдя на охоту, чуть было не заблудился?
– А помнишь, как Петр играл на самодельной балалайке?
– А помнишь, как Иван, сидя на полатях, кричал: «Мама, рибы»?
– А помнишь, как играли в прятки?
– А помнишь, как впервые проскакали верхом на лошади?
– А помнишь…
Записки свои начинаю главой «Наша Родина». Заранее приношу извинения за неточности, которые мог допустить при описании.
Выражаю глубокую благодарность товарищу и другу по довоенной работе в редакции Шалинской районной газеты Елизавете Андреевне Поповой, которая отпечатала настоящее произведение.
I. Наша Родина
Старожилы не раз рассказывали, что деревенская женщина по имени Татьяна, взяв берестяной чуман /вид корзины/, пошла в лес за землянкой /земляникой/, да так и не вернулась. То ли заблудилась, то ли стала жертвой дикого зверя, то ли умерла с голоду – так никто и не узнал. Только родные и жители окрестных деревень больше её не видели. И с тех незапамятных пор гору, на которую поднялась и ушла затем в дремучий лес Татьяна, стали звать Таниной.
Не знаю, помечена ли эта гора на топографических картах под таким же названием или обозначена цифрами горизонтали. Но, как бы то ни было, эта гора мне дороже самых высоких гор на свете.
Последний раз я был на Таниной горе в июне шестьдесят шестого. Отцветала черёмуха. Зацветала шипига /шиповник/. Набирали силу хлеба. Тянулась к солнцу трава. Мало сказать, что с горы без бинокля прекрасно видно на много километров во все стороны. Отсюда не хочется уходить. Невозможно оторвать глаз от бескрайних уральских лесов, от милых сердцу елей и пихт, берёз и осин, от рек и речушек, от гор и оврагов, от той неповторимой суровой красоты уральской природы, которую, к нашему великому огорчению, мы порой и не замечаем.
Пока я шагал по склону горы, взбираясь всё выше и выше, ёлочки протягивали мне ветки, словно подавая руку. Ласкались цветы земляники, улыбаясь открыто и торжественно. Полной грудью вдыхали аромат кусты шиповника – нашей уральской розы, ужившейся рядом с колючей елью. Зайчишка, выскочив из лесу, присел на задние лапки. С минуту глядел в мою сторону, будто встретив старого знакомого. Неведомо было его заячьему уму, что в детстве нас – Трофимовых ребят, обзывали зайчатами.
А впервые приняла меня эта гора на свои сильные плечи, когда мне, чумазому, мало смыслившему в жизни, едва набралось года три от роду. А потом уже не было, пожалуй, ни одного дня в длинном году, чтобы гора не встречала нас, русоволосых, не чувствовала шершавых наших пяток, не слышала наших ребячьих голосов.
До чего удивительна эта гора! Бок её, обращённый на севере к реке Сылве, наиболее крут. Словно защищаясь от мороза, северных ветров и колючих снегов, он сверху донизу прикрылся зеленью. Зимой на лыжах тут не проскочишь – деревья будто схватились за руки, преграждая путь. Да и не всякий пеший продерётся сквозь эту чащобу. Тут и ели, и пихты, и рябина, и черемуха, и ольха, и осина, и можжевельник, и калина. Растут они, не претендуя ни на тепло, ни на влагу, ни на простор. На косогоре легко заметить извивающиеся берёзки. Не по своей воле их стволы стали кривыми. Их упругие тела выдержали невероятный натиск снега за долгие и суровые уральские зимы. Этот лесистый бок иной раз и в летнюю пору напоминает вам о зиме. Июльским днём пятьдесят пятого года с ребятишками, которые были мне совсем не с родни и тем не менее увязались за мной, я, продираясь сквозь сучья деревьев и потея, вскарабкался-таки со стороны реки Сылва на Танину гору. И пошёл по её краю, по той невидимой черте, за которой сплошной лес будто сдавливает гору, и она превращается в косогор.
Сверху нещадно палило солнце, воздух был по-летнему горяч. И едва я повернул голову влево, как увидел под деревьями что-то белое. «Может, это заяц», – подумалось мне. Но тут же отбросил эту мысль – беляков в летнюю пору на Урале не встретишь. Возможно, это большой лист белой бумаги, оставленный кем-то. Или кусок холста, обронённый кем-либо. Последнее было ещё маловероятно, так как, насколько я знал, в окрестных деревнях не ткали холст уже лет двадцать. Каково же было моё удивление, когда я в тридцатиградусную июльскую полуденную жару увидел – что бы вы думали? – снег. Самый настоящий снег. А возле него росли, цвели, дышали чудным ароматом подснежники. Нет, что вы ни говорите, а такое вы встретите в середине лета не на каждой уральской – да только ли уральской! – горе. Этот бок горы покат, местами обрывист. Его когда-то пересекали вдоль и поперёк вытоптанные босоногой ребятнёй тропинки.
Были и тележные дороги, до того узкие, что ехавший постоянно задевал за длинные сучья. Зато зайцам и другому зверью живётся тут привольно. Там, где бок горы делается положе, лесом зажаты со всех сторон несколько полян. Их зовут шутьмами. Шутьмы названы именами тех, кто обрабатывал их когда-то: Калинкин шутем, Ортин шутем, Настасьин шутем. Непроходимый лес вырубали, пни корчевали, чтобы запастись столь нужной пашней. Остатки леса, негодные ни на дрова, ни на ограду, сжигали. Потому-то, вероятно, и стали называть те места гарюшками. Каждую весну с горы, шумя и ревя, неудержимо неслись попутно с пнями, палками и сучьями, потоки воды. На пути они высверливали немало глубоких и мелких оврагов. Начинаясь мелкими бороздками, будто морщинками на молодом ещё лице, они вгрызались в каменистый косогор всё глубже и глубже, раздавались всё шире и шире, пока не снюхивались и не объединялись с рекой.
Вместе с ними кончался, сливаясь с водой, и северный лесистый бок Таниной горы – романтический уголок нашего детства. Стоя на горе и глядя прямо на север, не увидишь Сылвы – реки. Она скрыта лесом. Только чуть правее, где начинаются Долгие луга, словно из-под елей и пихт вырывается и блестит на солнце Сылва. А кусты ивняка на берегу напоминают огромные копны зелёного, только что убранного сена. Зато бескрайние лесные просторы и горы, убегающие далеко на север, видны прекрасно. Взору представляются и поля, раскинувшиеся по обе стороны речки Шамарки, ближний и дальний Увалы, Мыс и Еловик, и две соседки – горы, метко названные крестьянами «каравашками» – так они похожи на караваи деревенского хлеба.
Сторона Таниной горы, глядящая на запад, – пологая, почти безлесная. Тут есть где разгуляться ветрам и метелям! Постепенно снижаясь, она простирается туда, где была когда-то построенная без всякого плана, как бог на душу положил, деревня Курьи. В ясную погоду, устремив взор на запад, можно хорошо увидеть белизну воды – это река Сылва, крепко взятая в объятия ивняком, миновав Дмитровское плёсо, подкатывает под самую Танину гору, то лижет, то гложет её, заставляя выставлять напоказ и камни, и корни деревьев, и расщелины – овраги. К западу от Таниной горы упирается в небо Востряк – так называется ровная гора, враз круто обрывающаяся, словно отрубленная топором, к реке Сылве. Чуть юго-западнее – Изволок. Тоже гора. А между ними – огромнейшая, заросшая лесом, полная валежника низина, метко названная яминой. Та ямина в летнюю пору богата малиной. Через ямину, а потом под самым Востряком, недавно построена грунтовая дорога, прочно связавшая Шамары с Урмами. Эту огромную ямину трудно сравнить с той пустяковой яминой возле речки Шамарки, где жили Подураиха и Офонька-келейщик.
Если вы взглянете на юг, то первое, что попадёт вам на глаза, – Синяя гора. На той горе я бывал много раз, глядел по сторонам и под ноги, но ничего синего не увидел. Оказывается, в гражданскую войну на Таниной горе были позиции красных, а на Синей – позиции белых /синих/, и между ними разгорался не один жаркий бой – с треском, во много раз посильнее того, что издают сырые пихтовые сучья. Видимо, гора эта несколько ниже Таниной, потому что в ясную погоду хорошо виден через Синюю гору посёлок Шамары. Гора эта, кроме всего прочего, – кладбище наших предков.
А теперь, не спускаясь с Таниной горы, посмотрим на восток. Художника бы сюда, кинооператора или фотографа! Запечатлеть бы прелесть панорамы, открывающейся перед вашим взором! Но давайте рассмотрим всё по порядку, чтобы не растерять, не пропустить и не забыть ничего. Сторона горы, обращённая к восходу солнца, крута настолько, что лошадь, подымающаяся на гору, остановится бессчётное число раз, если её не подхлестнёшь витнем /кнутом/. Человек, если даже и не нажил одышки, шагает так, словно за спиной у него мешок с картофелем. Автомобиль подымается, забуксовав не один раз, хотя у него исправны тормоза и не лыса резина. Снежный комок, величиной с кочан капусты, пущенный по свежему сырому снегу вниз, постепенно обрастает и делается настоящей копной и, едва прокатившись десятую часть пути, разлетается вдребезги, словно снаряд на осколки. Санки, оседланные детворой, мчатся со скоростью невероятной до тех пор, пока полозья глубоко не вопьются в снег. Тогда образуется «куча мала» или «хабазина», как мы любили называть ребячью свалку в детстве. Лыжник мчится с горы что есть духу. Да и как не мчаться, если без малого три километра – всё под гору да под гору, вплоть до Нагайского лога. А за ним уже новая – Левушкова гора.
Вдали серебрится, манит, ласкает взор полоска, бегущая мимо домов, раскинувшихся на угорке, мимо тополей, мимо колхозного клуба. Это Сылва – река упирается в суровую, мохнатую, крутую Балабанову гору и, не в силах побороть её каменистой груди, убегает вправо, на юг, к Шамарам, охватывая деревню Ивановичи уже с другой стороны.
С Таниной горы легко разглядеть чудесные по своей неподдельной красоте перелески и поля, звавшиеся раньше переменами: Сенихина перемена, Левушкова перемена, Обская /общая/ перемена, Пашки Шайдурова перемена, Вани Николина перемена, Калинкина перемена. И глубокие, тёмные даже в яркие солнечные дни, прохладные, заросшие деревьями овраги, разделявшие эти перемены: Юдшин овраг, Нагайский овраг /лог/, Кормухин овраг. Через эти поля и овраги каждый год вытаптывают тропинку и ходят по ней в Шамары.
Балабанова гора не уступает по высоте горе Таниной. Сторона её, опускающаяся к реке, скалистая. Местами даже неприхотливые ель или пихта – и те не нашли себе места на её каменном боку. По тропке, примостившейся на боку обрывистой горы, ходят теперь доярки из Шамарки и Дубровки на ферму в Петровичи.
А за рекой и Балабановой горой – сплошное лесное царство. Когда-то мы там с интересом наблюдали ворохи дыма, выбрасываемого паровозом. Теперь дым клубится только от лесных костров – уже с десяток лет, как курсируют по Свердловской железной дороге электровозы. Вдали, укрывшись лесом, раскинулись Козьял и Вогулка.
К востоку от Таниной горы, точнее, под самой горой, простиралась деревня Кузьмичи – родственница по бедности, неграмотности и бескультурью ближним коптело-шамарским деревням: Ивановичи, Петровичи, Ильичи, Игнатьевичи, Лазаревичи, Канюки. Кузьмичи насчитывали два – от силы три – десятка домов, а занимали территорию ни много ни мало около двадцати пяти квадратных километров. Удивляться этому вы не станете, если узнаете, что деревни в полном смысле этого слова не было, а стояли разбросанные то тут, то там деревянные, крытые тёсом избёнки – в лучшем случае в полуверсте одна от другой.
В центре Кузьмичей жил Кузьма Дмитриевич Калинин – брат нашего деда по матери. Вероятно, он поселился тут одним из первых, и деревню назвали его именем. Крайней избой, которой кончалась наша деревня на юго-западе, на склоне Таниной горы, была изба Клементия Андреевича Калинина. У северного подножия Таниной горы, в Гарюшках, жил Фома Яковлевич Калинин, председатель Коптело-Шамарского сельсовета предвоенных тридцатых годов. Последним домом к юго-востоку от Таниной горы считался дом Корнила Филатовича Калинина. А восточная сторона воображаемой деревни кончалась домом Мелентия Ефтефеевича Калинина.
Столь же разбросанной по косогорам и оврагам, зажатой рекой Сылвой, болотом и глубокими оврагами, была деревня Ивановичи.
Только перед войной, в тридцать девятом году жители Кузьмичей и Ивановичей сселились в излучине реки Сылва. Вместо торчавших поодиночке изб и избушек выросли две длинные улицы. Покойный Корнил Филатович, или Кормуха, как его звали соседи, войдя в избу, переместившуюся на новое место, от неожиданности раскрыл рот, перекрестился и зажмурился: изба, в которой он прожил без малого семьдесят лет, словно раздалась от электрического света. Нет, не сладко жилось Корнилу Филатовичу, его братьям и сёстрам, другим деревенским мужикам, перебивавшимся с картошки на капусту, если тот, у кого стол накрывался побогаче, не без довольства и некоторой иронии произносил: