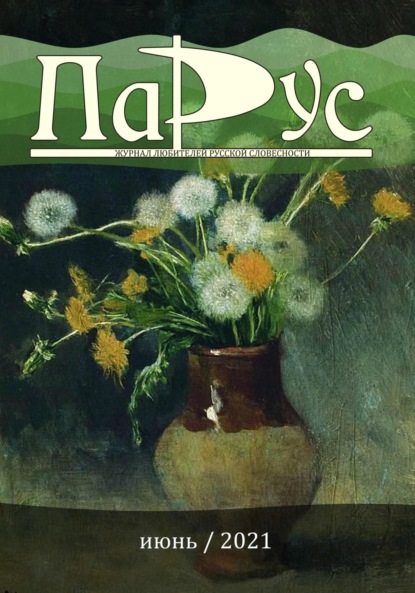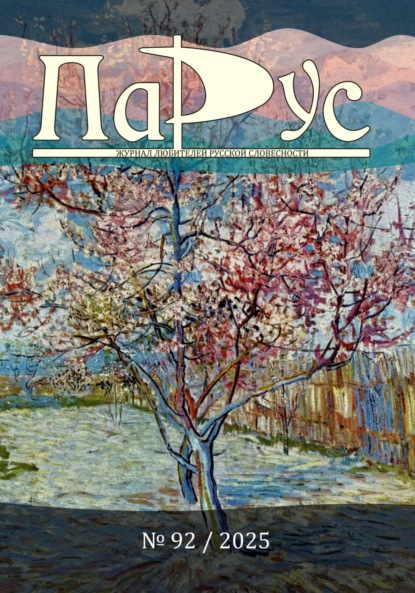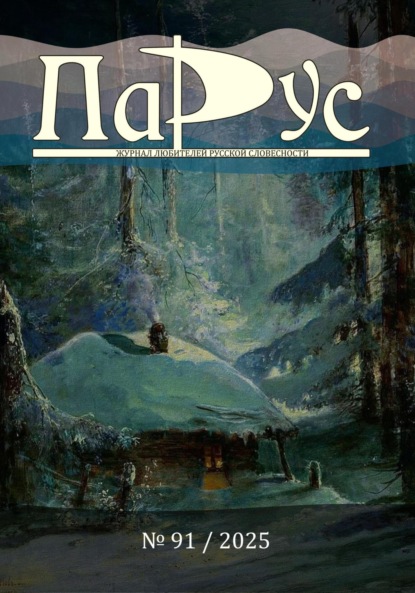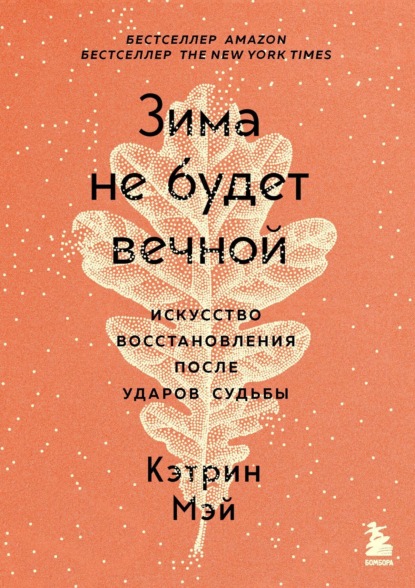Журнал «Парус» №76, 2019 г.
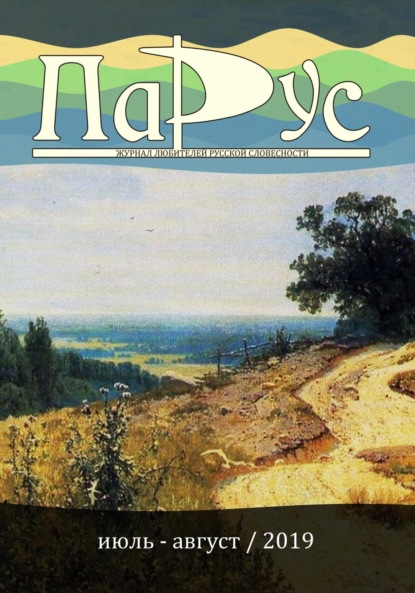
- -
- 100%
- +

Цитата
Аполлон МАЙКОВ
ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
Осенние листья по ветру кружат,
Осенние листья в тревоге вопят:
«Всё гибнет, всё гибнет! Ты черен и гол,
О лес наш родимый, конец твой пришел!»
Не слышит тревоги их царственный лес.
Под темной лазурью суровых небес
Его спеленали могучие сны,
И зреет в нем сила для новой весны.
1863
Художественное слово: поэзия
Дмитрий КУЗНЕЦОВ. В заколдованной полумгле
ЕВПАТОРИЯ, МАЙ 1916-ГО
– Вот и свершились пророчества
Старца с недобрым лицом:
Видите, Ваше Высочество,
Толпы пред самым дворцом?
– Что вы, к чему наваждения…
Беды от нас далеки!
Это отца в День рождения
Чествуют лейб-казаки.
– Слышите выстрелы с криками?
Кто-то под стук сапогов
Церкви с иконными ликами
Рушит по воле врагов.
– Полноте, что за истории
Вам померещились вдруг…
…Жёлтый песок Евпатории
Сыплется с царственных рук,
Словно упала из Вечности
В чёрный провал пустоты
Лёгкая горсть человечности,
Радости и красоты.
ГУМИЛЁВ
И клялись они Серпом и Молотом
Пред твоим страдальческим концом:
«За предательство мы платим золотом,
А за песни платим мы свинцом».
А. Ахматова, 1921 г.
1. В старинном парке
В старинном парке вечер лунный,
Шумит листва, журчит вода,
А он идёт такой же юный,
Как в те далёкие года.
На чёрном бархате акаций
Блестят ночные фонари.
Ему сегодня восемнадцать,
А скоро будет двадцать три.
О, Господи, как мы похожи:
И жизнь одна, и цель одна.
Неужто выпадут мне тоже
Любовь, поэзия, война?
А может, это только снится,
И нет его, и нет меня?
Лишь пожелтевшие страницы
В мерцанье лунного огня.
2. Колдовская ночь
То ли время скользит по кругу,
То ли я не в своем кругу,
Только вновь ни врага, ни друга,
Лишь зима и дома в снегу.
Да в полоске ночного света,
В заколдованной полумгле,
Том расстрелянного поэта
Всё лежит на моем столе.
Кто он был в той далекой жизни:
Дворянин, офицер, герой,
Слишком верный своей отчизне,
Слишком гордый?.. И мне порой
Снова снится – залив бездонный,
Дымный берег чужой земли,
И кильватерною колонной
В бой идущие корабли.
Гром орудий и скрежет стали…
А потом – в пелене огня
Чья-то пуля из дальней дали,
Что сквозь годы летит в меня.
Видно, только она излечит
Всё, что сердцем не превозмочь.
Я встаю, я иду навстречу
В петербургскую злую ночь.
3. Расстрел
Раненым зверем во тьму рвануться,
Чайкой растаять у финских скал…
Поздно! К минувшему не вернуться.
Гибельной ямы зовёт оскал.
Серые тучи по стылой тверди…
Вспышка, молитва, удар свинцом.
Тот, кто не раз улыбался смерти,
Ныне целует её лицо.
В это лицо он глядел с усмешкой
Средь абиссинских песков и там,
Где офицерской судьбой, как пешкой,
Время швыряло по всем фронтам.
Это лицо возникало часто
Над вереницей сырых ночей
В годы, когда укреплялась каста
Прежде невиданных палачей.
Вспышка. Молитва… В моей тетради
Буквы цветут лепестками роз,
И, в потускневшее небо глядя,
Снова и снова шепчу вопрос:
– Ну а теперь, когда осторожно
Время заносит твой гордый след,
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?
4. Память
Я не помню обид,
Хоть прощения нет
Тем, кто вышел на свет
Ради чёрного дела.
Ведь и церковь стоит,
Где молился поэт,
Мой любимый поэт,
Накануне расстрела.
Ведь и память жива,
И не стёрты стихи,
А у старого рва
Больше залпы не грянут.
Но пустые слова
Так безбожно сухи,
Но порою трава
Снова мнится багряной.
АНГЕЛ
В небе – звёзды, как алмазы,
В мире – сумрак ледяной.
«Ангел мой зеленоглазый,
Почему ты не со мной?
Неужели в этой стуже
Мне тебя напрасно ждать?
Ангел милый, ты мне нужен,
Только вот не угадать:
Где ты ныне, с кем ты ныне,
Что вернёт мне образ твой?
Без тебя я, как в пустыне —
Чёрной, снежной, роковой…
Знать, навеки в жизни зыбкой
Душу ты мою взяла
Взглядом, голосом, улыбкой,
Взмахом белого крыла!»
Так твердил в жару бредовом,
Ротой брошенный один
В отступлении под Гдовом,
Подпоручик Кабардин.
Не узнали, не успели
Или просто не смогли…
Но ушли. И еле-еле
Он поднялся от земли.
Прошептал слова молитвы,
Услыхав далёкий вой, —
Умирать на поле битвы —
Это русским не впервой!
Застонал, перекрестился…
И почудилось ему,
Будто ангел опустился
Сквозь редеющую тьму.
БАЛЛАДА О СТАРОМ ГОРОДЕ
Как золото на черни,
Как высохший листок,
Лежит в глуши губернии
Старинный городок.
Лежит уделом княжеским,
Не мал и не велик.
Там с пением монашеским
Стихает птичий клик.
Там башенки церковные,
Соборов купола,
Там вечные и кровные
Обиды и дела.
А улочки горбатые
Уводят крутизной
В те годы, виноватые
Непризнанной виной,
Когда по зорьке розовой,
Грубы и тяжелы,
Боярыни Морозовой
Звенели кандалы
И в яме, мёрзлой дланию
Крестя упрямый лоб,
Твердил свои послания
Мятежный протопоп.
На зов далекий следуя,
Что слышится окрест,
Поеду я, поеду я
В заброшенный уезд,
Где намертво кончается
Сто первая верста,
И колокол качается,
И снова два перста
Взлетают. Тени Каина
Тревожат алтари.
О, сколько здесь утаено,
Упрятано внутри
Блаженного чудачества!
Неясен и непрост
Оплот старообрядчества,
Раскольничий форпост.
И уж не верой пламенной
Смущает он Царя,
А страшной ямой каменной
У стен монастыря.
Зияет бездна чёрная,
Коварна и близка,
И слышится упорная
Мольба еретика.
Сливаясь в дикий крик, она
Летит к закату дня:
– Ужо вам, слуги Никона,
Попомните меня!
Семь бед на вас, усердные
Холопы и князья!
…И брызжет злоба смертная
Со строчек «Жития»
Колодника несчастного,
Упавшего на дно,
Да от заката красного
Тревожно и темно.
И с этою тревогою,
Что веет у холмов,
Я прохожу дорогою
Меж сумрачных домов.
А рядом нечисть, ахая,
Пугает со смешком
То дыбою, то плахою,
То каменным мешком.
– Пусти, вертеп раскольничий,
Оставь же, наконец:
Я не царёв окольничий,
Не дьяк и не стрелец.
Пришёл по вольной воле я
В твою седую глушь.
Остынь, не мучай более,
Не тронь невинных душ.
И не зови к высокому
Последнему костру,
Напрасно угли рок ему
Вздувает на ветру.
Пока Святая Троица
Из сумрака видна,
Умирится, устроится
Усталая страна.
Уж ей ли, горе мыкая,
На мир глядеть с тоской?
Стояла Русь Великая
И явится такой! —
Когда кипящим золотом,
Венчая бой со злом,
В сознании расколотом
Закроется разлом.
ГОРЬКИЕ СТРОФЫ
30 октября – День памяти жертв политических репрессий
«В час вечерний, в час заката,
Каравеллою крылатой…»
Помнишь строки перед казнью,
Что в застенке родились?
Помнишь проклятые даты,
Где новейшие пилаты,
Души смешивая с грязью,
От былого отреклись?
Помнишь «бедных» и «голодных»,
Благодетелей народных?
Помнишь «горьких», сладко пивших
С палачами из Чека?
Всех «бездомных» и «безродных»,
Всех бездельников природных,
Всех, Россию погубивших
За понюшку табака?
До чего скромны и милы
Эти люмпены-громилы, —
Смотрят ласково с портретов
На грядущий свет зари…
А когда-то что есть силы
Пролетарские гориллы
Били мальчиков кадетов,
Оскверняли алтари.
И теперь ещё иные
Пишут книги заказные,
Представляя в добром свете
Мрачный гений Ильича.
Их бы – в те года чумные,
Где тифозные больные,
Где потерянные дети
Мрут, от голода крича.
Им бы – лагерные нары
Как итог партийной свары,
«Десять лет без переписки» —
Подрасстрельную статью
Да тюремные кошмары,
Чтоб на дне бессрочной кары
Ели варево из миски,
Пайку скудную свою.
Лишь испробовав на шкуре
Злую суть советской дури,
Можно сбросить с глаз завесу
И осмелиться тогда
Отразить в литературе
Все терзания и бури,
А не петь осанну бесу
Без сомнений и стыда.
_________________
Строки «В час вечерний, в час заката…» принадлежат Николаю Гумилёву, написавшему накануне расстрела свои последние стихи. Ну, а что касается заказных книг о красных вождях, то вот открыл как-то в книжном магазине некий вновь написанный том про Сталина и читаю в предисловии: «Уже за то мы должны быть благодарны Иосифу Виссарионовичу, что за годы его правления Русская Православная церковь обогатилась столькими новомучениками…» Это ж такой необольшевицкий цинизм, что и сам чёрт поперхнётся!
КРАСНО-БЕЛЫЙ РАЗГОВОР В ИНТЕРНЕТЕ
Советская дама за столик садится,
Советская дама – не дама, броня!
Советская дама страною гордится,
Советская дама ругает меня.
Мол, я не горжусь, а гордиться бы надо:
У нас вон – и танки, и ядерный щит,
Мол, я не гожусь для трибун и парада,
И муза моя не поёт, а пищит.
Пищит моя муза о красном терроре
Под яростный рык о счастливом совке,
Пищит моя муза в неистовом хоре
Поющих про штык в заскорузлой руке.
А кем-то уж яма раскопана хмуро,
А лысый бандит – он живей всех живых…
Советская дама глазами лемура
Сурово глядит из глубин сетевых.
– Простите, мадам, мне для гордости мало
Гражданского пафоса. Горько, увы,
Но там, где знамёна полощутся ало,
Мне видятся кровь и расстрельные рвы.
Мне слышатся стоны у лагерных вышек,
Мне чудятся болью хрипящие рты…
Для гордости нужен серьёзный излишек
Раскормленной глупости и пустоты.
Нас семьдесят лет приучали гордиться
И в свете зари ждать грядущую мзду.
Но мне посчастливилось снова родиться
В свои двадцать три – в 90-м году.
Немало из нас было сбито на взлёте,
Зато уцелевшим – себя не менять.
Наверно, сейчас Вы меня не поймёте,
Да Вы б и тогда не сумели понять.
Пока Вы меня упрекаете в злобе,
На властных верхах запасён «ход конём»,
А злоба живёт в человечьей утробе
И вдруг прорывается смертным огнём.
Рванёт! И тогда уже не возродиться
Ни красным, ни белым, ни синим годам…
Ну, что же, мадам, продолжайте гордиться,
Пока ещё время осталось, мадам.
ГОСУДАРИ
5 мая 2018 года в России накануне вступления в должность президента прошли оппозиционные митинги под лозунгом «Он нам не царь!»
«Он нам не царь!» – конечно, он не Царь.
Он вам не царь, он нам не Царь. Но всё же
Таких Царей, какие были встарь,
Хоть через век, но возврати нам, Боже!
«Он нам не царь!» – не Царь и не герой…
О, если бы принять из Божьих рук
Таких Царей, как Александр II,
Таких Царей, как сын Его и внук!
А мы опять на митингах орём,
Кипит от злости разум наш увечный.
«Он нам не царь!» – не быть ему Царём:
Он временный, а временный – не вечный.
Когда-нибудь, всё мелкое круша,
Настанет час последнего итога.
Пока же – только Царская душа
Спасает нас у Божьего чертога.
КРЫСЫ
Хамелеонам новейшего времени
Разум крысиный – надёжный щит
В самую злую ночь:
Там, где разбитый корабль трещит,
Крыса сбегает прочь.
Если же море штормит вокруг,
Смыться надежды нет,
То непременно и как-то вдруг
Крыса меняет цвет.
Вот и не крыса она, смотри:
Полуживая тля,
Даже не видимая внутри
Общего корабля.
Серая, красная – всё равно,
Где и кому служить:
Крысе известно давным-давно,
Как наплаву прожить.
Стихнет гроза, отгремят шторма,
Вспыхнет звезды рубин, —
Сколько нетонущего дерьма
Выплывет из глубин,
Вновь перекрасится, а затем
Сгрудится у руля…
Крыса – вне наций и вне систем
Общего корабля.
Крыса на власть обрела патент:
В новые дни и встарь
Крыса – диктатор и президент,
Маршал и секретарь.
Крыса – министр всевозможных дел,
Тускло глядящий вниз.
Всяк, кто случайно её задел,
Станет едой для крыс.
Но лишь повеет крутой норд-ост
Бурей издалека,
Крыса, дрожа, прикрывает хвост
Полами пиджака,
Смотрит опасливо и косит
Глазом в простор ночной,
Новая шкура её висит
Рядышком, за спиной.
***
Что там, за окнами? Грохот, свист…
Это – из давних дней
Слышно: играет сигнал горнист,
Ржанье и храп коней,
Сабельный звон, пулемётный стук,
Чей-то надрывный крик,
Выстрелы, стоны… Зачем же вдруг
Весь этот шум возник?
Только ответа на сей вопрос
Сходу найти нельзя,
Только по коже бежит мороз,
Только, в ночи сквозя,
Времени ветер взрывает сны
И ворошит года,
Грозное эхо былой войны
Снова летит сюда.
Песни, команды и дробь подков —
С прошлым живую связь —
Слышали мы на сломе веков,
Белыми становясь.
Слышали мы… И вот – тишина.
Нет уже звуков тех.
Ближе, всё ближе другая война:
Каждого против всех.
Против чужих и против своих,
Против самих себя,
Чтоб не нашлось на Земле двоих,
Тех, что зажгут, любя,
Перед распахнутой бездной зла
Тёплый огонь свечи.
…Дышит в окно ледяная мгла,
И – тишина в ночи.
ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН
П. Катериничеву
Смешили друзей анекдотами,
Подруг угощали вином,
И рай с золотыми воротами
Нам виделся сказочным сном.
Шутили с бесёнком-проказником,
Наукой смущали умы.
Но жизнь оказалась не праздником,
А пиром во время чумы.
И вот всё дурим да кривляемся,
И в души вливаем бурду,
А после ещё удивляемся:
За что это будем в аду?
А если и будем – когда ещё!
И дьявол с чугунной рукой
Ведёт нас, господ и товарищей,
По торной дороге мирской.
Ведёт нас по гибельной прихоти,
Да так, что и выхода нет.
Но что-то нам шепчет о выходе
На тихий евангельский свет.
Но что-то сквозь муть прорывается,
Взлетает неясной тоской
И светлым огнем разливается
Над торной дорогой мирской.
Евгений РАЗУМОВ. Горстка поэзии
***
Внуку Саше
Май. Черемуха. Оттуда (с неба) сыплются стрекозы.
Нет?.. Ну, бабочки, Сашурик, и, наверное, жуки.
И не надо мне о смерти думать буковками прозы.
Я о жизни буду думать этой смерти вопреки.
Ведь иначе всё нелепо будет (и не будет тоже):
и черемуха (под небом, а не где-нибудь в гробу),
и стрекозы, что по небу разлетятся, мальчик, всё же,
и минувшее (подай-ка мне подзорную трубу)…
Нет?.. Тогда очки и кепку из материи из белой.
Мы посмотрим на планету. Мы посмотрим на часы.
Время радоваться солнцу. Не беги как угорелый.
Видишь – клевер, шмель летает… Это?.. Капелька росы.
Повторяемость в природе – старику и то утеха.
Значит, август за июлем не закончится всегда.
Даже смерть – и та, наверно, вроде эха, вроде эха…
Май. Черемуха. Молитва. И куда-то – провода.
***
На закате (жизни этой)
плакать ли (по жизни той)?..
Я кормлю себя конфетой,
что обернута слюдой.
Это вкусно и реально
(ирреально иногда).
Есть и ванная, и спальня,
и (присутствует) еда…
«Что еще для организма
надо?..» – говорит Ламарк.
У Ламарка даже клизма
есть и душ Шарко (в подарок).
Но – закат… (откуда слезы?..)
Но – несбывшееся… (тут.)
Ни поэзии. Ни прозы.
Просто цветики цветут.
Просто птичка (на оградке).
Просто циферки (в кустах).
И пчела во все лопатки
мчится в улей (в двух верстах).
***
На месте испарившейся любви —
крупинка соли, вытекшей из глаз.
До Краснодара, поезд, не зови!..
Там – пустота, которая – Кавказ.
Там – города, куда и рельсов нет.
Зачем же ехать поездом туда,
где камни спят под миллионом лет,
где с гор стекает времени вода?..
Зачем же ехать мне, грызя вагон
от Нелюбви, которая пришла?..
На тридцать лет опаздывает он.
Холодный. Из железа и стекла.
И зря на нем написано – МАЙКОП.
Пустой перрон. И некому читать.
Про то, что было (или – быть могло б).
(Когда тебе – допустим, двадцать пять.)
***
Человек из-за окошка смотрит в сторону луны.
Там несбыточное что-то уронило семена.
(Тридцать лет тому назад уж.) Но – дожди запрещены
на Луне (планета это). (Да и жизнь запрещена.)
Потому «сварю-ка кофе» – так подумается мне.
Откушу кусок щербета, что от жизни от земной.
То есть нечего маячить, понимаете, в окне.
Хватит и того, что было-приключилося со мной.
На Земле (планета это), где и Бог есть, и вода.
На Земле, где кипарису – десять тысяч лет уже.
«Ты постой под кипарисом», – говорю себе тогда.
(Тридцать лет спустя. Хотя бы, понимаете, в душе.)
Чтобы что-то щебетало – о несбыточном, о том,
от чего подушка мокнет (хоть дожди запрещены).
Помычи в ответ, дружочек, в кипарис беззубым ртом.
Да заколоти окошко – то, что в сторону луны.
***
П. Корнилову
№ 2 – напишу на тетради,
написал на которой – РОМАН.
«Фу, опять о двуспальной кровати!..» —
скажет кожаный (с виду) диван.
Там сидели когда-то: Тургенев,
Лев Толстой, Мережковский, поди.
Он скрипуч. Он, наверно, шагренев.
У него, может, жаба в груди.
Что же ерзаю на табурете
я такой литератор сякой,
ни «Отцы» не пишу я, ни «Дети»
этой самой, спрошу я, рукой?..
И никто не ответит отсюда,
где карман возле сердца пришит.
«Попроси Льва Толстого покуда.
Может, он пописать разрешит».
Это голос Корнилова Павла
в ноосфере, наверно, жужжать
начинает. «Роман-то не явно
про двуспальную, Павел, кровать», —
устремляю глаза в ноосферу.
Улыбается. Кто-то. «Ну-ну».
…Обнимая Холодную Веру,
И. Мозжухин отходит ко сну.
***
Ю. Бекишеву
Это будет, возможно, легендою, Юра,
где мы, ясно, бродили (а может быть, хмуро).
(Это как посмотреть из бинокля сюда.)
Мы, наверное, были чуток не отсюда —
ты и Саша Бугров (я – наверное, буду,
если в Вечности третье отыщется «да»).
Не в поэзии дело одной – разумею,
но в страдании душ, где еще птолемеи
что-то в небе искали, живя на земле.
Вот и мы… понимаешь… «Да я понимаю».
Это голос откуда?.. Кого?.. (Николая
Гумилева, должно быть.) (Улыбка пчеле.)
Но страдание душ – эфемерно по сути.
Не печорины мы ведь, не «лишние люди»,
если близится 70 (цифра в уме).
Что же нас отличало от этой лягушки,
озирающей Шаговский пруд?.. Тень чекушки,
что допьем на поминках (по той Костроме)?..
КОВРИГА
Имея на руках (неоспоримо) книгу,
я (все-таки) пишу другую, но – свою.
«Зачем, зачем, зачем?..» – я, дожевав ковригу
(похоже – бытия). От мысли устаю —
не знаю, мол. Зачем охотники по снегу
бредут, бредут, бредут четыреста уже
календарей?.. Душа дается человеку
поводырем. Ага. А человек – душе?..
Не знаю. Бытия чтобы жевать ковригу,
глотая эль судьбы (метафора, ага)…
Разгадывать слова (допустим – «поелику»)…
Смотреть на тень свою, что ловит мотылька…
А впрочем, ведь зима… и надобно спуститься
под горку на ледок, где люди и коньки…
где подле западни разгуливают птицы
(вороны в основном)… Последние деньки
гуляет здесь душа (ну, предположим, годы).
Не нагулялась, нет. Зачем они ползут
вдоль Нидерландов – две груженые подводы?
…Коврига – где она?.. (Вчера лежала тут.)
ЗУБЫ
Улыбнусь белозубым фарфором —
дескать, оченно нравится мне:
эта девушка в поезде скором,
эта дама, допустим, в окне.
«Допускаем, – ответит и дама,
и гудок паровоза Майкоп —
Армавир, – но, увы, телеграмма
опоздала. Всемирный потоп».
«А чего же тогда паровозы
как бы едут туда и сюда?..»
Это – память. Житейская проза», —
отвечает ковчегу вода.
«Может, старость?..» – фарфоровым зубом
откушу я кусок от халвы.
«Может, нечего здесь однолюбам
вспоминать допотопность травы?..» —
говорит ветерок Арарата.
География. Старость. Халва.
Армавир. Телеграмма. Расплата.
Улыбайся – во все тридцать два.
***
Человек глядит – трава. По траве ползут жуки.
Значит, лето. Значит, зря – с непокрытой головой.
Человек идет, идет и уходит в старики.
А когда-то пахло тут пахлавою и халвой.
Это молодость была возле дерева в цвету.
Человека и т.д. И скворечника над ним.
До сих пор от пахлавы – что-то сладкое во рту.
Но – уходит человек, и – уже невосполним.
Как, допустим, Лев Толстой. Из Астапова везут
не его уже, а тень, а чего-то там еще.
Вот и я сегодня бос. Получается – разут.
Но никем еще – босой – очевидно, не прощен.
А жуки-то ведь уйдут. И скворечник упадет.
И никто и никогда не заменит мне себя.
Человек глядит – трава. А в траве написан год.
Не по мрамору, а так – краски белой поскребя.
Что же думает трава обо мне и Льве Толстом?..
Так подумаю, когда под ногой – сентябрь уже.
Странно: думать хлорофилл не велит ей о пустом.
А зачем тогда мы шли, получается, к душе?..
***
Внуку
Время закончится за листопадом —
то, где кузнечики, то, где стрекозы.
Саша, я буду, наверное, рядом —
горстка поэзии с горсткою прозы.
Я не умру (в понимании Брема,
Дарвина или хирурга Петрова) —
просто останусь, наверное, немо
там, где кузнечики прыгают снова,
там, где стрекозы кружат над тобою,
мальчик трехлетний, которому надо
ехать куда-то. (И это судьбою
станет – не дверцею детского сада.)
Я не умру – просто деревом стану.
(Ведь и березы живут, и рябины.)
Август. Пора бы рассыпать каштану
хоть небольшую орехов корзину.
То-то попрыгаем мы, набивая,
ими карманы брючишек, Сашуля!
Август. Природа покуда живая.
…Может, билеты (вокзалу) вернули?..