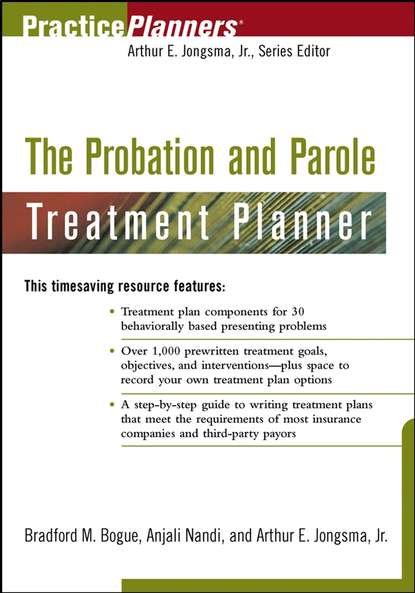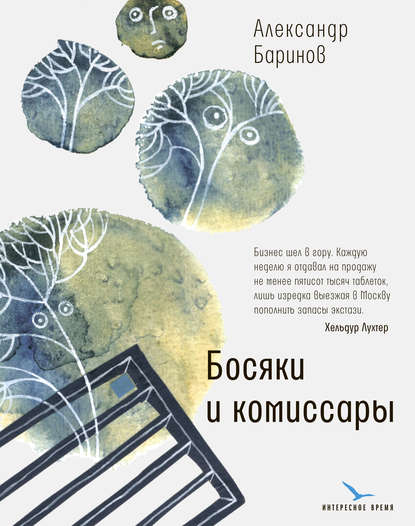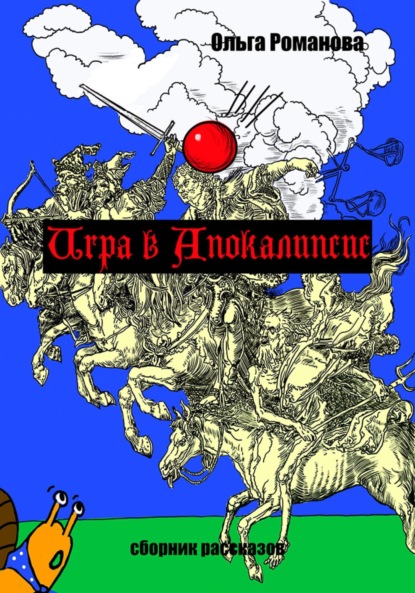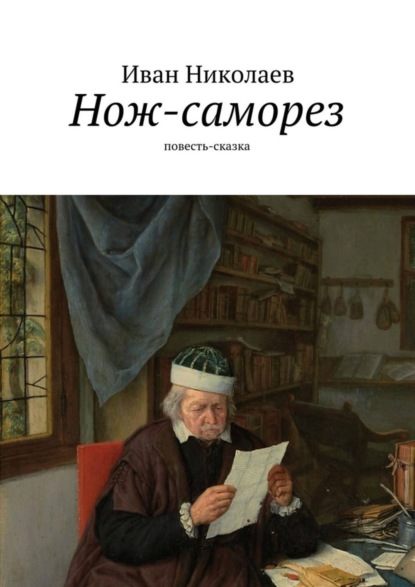Кататимно-имагинативная терапия. Том III, Часть 2
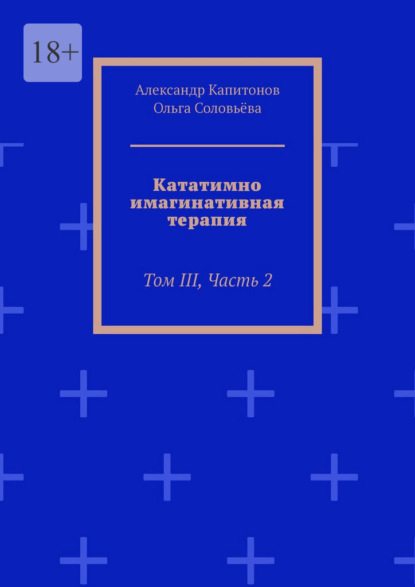
- -
- 100%
- +

© Александр Капитонов, 2025
© Ольга Соловьёва, 2025
ISBN 978-5-0068-0829-4 (3-2)
ISBN 978-5-0067-8463-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие ко второй части
Младший школьный возраст, охватывающий период от семи до одиннадцати лет, представляет собой критически важную и динамичную фазу в развитии личности ребёнка, характеризующуюся интенсивным расширением социального горизонта за пределы семейного круга и активным формированием когнитивных и эмоциональных компетенций, необходимых для успешной интеграции в мир правил, отношений и знаний. Этот период знаменует начало систематического обучения, где ребёнок сталкивается с необходимостью усвоения сложных социальных норм, выстраивания отношений со сверстниками и авторитетными фигурами вне семьи, а также развития самоконтроля и морального сознания, что создаёт уникальный контекст для психотерапевтической поддержки.
Именно в этом возрасте происходит особенно активное и значимое формирование коллективного бессознательного индивида, постулированного К. Г. Юнгом как глубинного слоя психики, содержащего универсальные, наследуемые архетипические паттерны и образы, общие для всего человечества. Ребёнок, погружаясь в школьную среду, детский фольклор, массовую культуру и литературу, начинает интенсивно интериоризировать эти коллективные символы, мифы и сценарии, которые становятся мощными структурирующими факторами его восприятия себя, других и мира, влияя на формирование ценностей, страхов, идеалов и моделей поведения.
Кататимно-имагинативная психотерапия (КИТ), с её опорой на спонтанный поток образов, возникающих в расслабленном состоянии сознания, предоставляет уникальный и высокоэффективный инструмент для работы с внутренним миром ребёнка этого возраста, позволяя мягко и безопасно, через язык символов и метафор, исследовать актуальные конфликты, тревоги, ресурсы и процессы, связанные с этим интенсивным усвоением коллективных паттернов и социальных ролей.
Классические Основные мотивы КИТ – такие как умиротворяющий и ресурсный Луг, символизирующий течение жизни и эмоций Ручей, олицетворяющий цель и преодоление Гора, воплощающий самость и внутреннее состояние Дом, и представляющий порог к бессознательному Опушка Леса – остаются незыблемой основой работы, обеспечивая диагностику базового эмоционального состояния, уровня энергии, контакта с ресурсами и структурой личности ребёнка.
Однако, учитывая специфику младшего школьного возраста и ключевую роль процессов социализации и усвоения коллективных архетипов, работа со Специальными мотивами КИТ приобретает особую, подчас первостепенную значимость в дополнение к Основным. Эти мотивы фокусируются на конкретных, социально нагруженных и архетипически значимых ситуациях, конфликтах и ролях, с которыми ребёнок сталкивается в своей новой, расширенной реальности: мотивы власти и подчинения, справедливости и несправедливости, помощи и предательства, нарушения и наказания, изгоя и лидера.
Для глубокого понимания динамики, разыгрываемой в этих Специальных мотивах, и их терапевтической проработки чрезвычайно плодотворным и обоснованным является их сопоставление с концепциями теории игр и транзактного анализа Эрика Бёрна. Бёрн описал, как люди (и дети в частности) бессознательно вовлекаются в повторяющиеся, стереотипные паттерны взаимодействия – «игры» – для получения предсказуемых эмоциональных «выигрышей», часто ценой негативных последствий – «расплаты».
Специальные мотивы КИТ, такие как «Преступник», «Жертва», «Спасатель», «Преследователь», «Судья», «Герой», «Изгой» и другие, напрямую отражают эти архетипические ролевые позиции и сценарии межличностных транзакций, которые ребёнок начинает активно тестировать, проживать и интериоризировать в процессе социализации, часто воспроизводя знакомые ему из коллективного опыта (сказки, истории, семейные паттерны) модели.
Возьмём для примера мотив «Преступник», актуальный для исследования границ дозволенного. Обоснование его важности в 7—11 лет заключается в том, что эпизодическое нарушение правил, проверка границ – нормальная часть развития автономии и понимания социальных норм; однако систематический обман, скрытые разрушительные действия становятся тревожным сигналом о внутреннем конфликте, неразрешённой потребности или дефиците эмпатии и прогнозирования последствий.
Проработка этого мотива в КИТ помогает ребёнку не просто осознать факт нарушения, но глубоко понять важность правил и границ для безопасности и доверия, развить эмпатию по отношению к жертве своих действий, осознать реальные и эмоциональные последствия своих поступков (как для других, так и для себя), и, что критически важно, научиться находить законные и социально приемлемые пути для удовлетворения своих желаний и потребностей.
Этот мотив и его динамика могут быть точно описаны через призму транзактного анализа Эрика Бёрна. Типичной «игрой», разыгрываемой в этом сценарии, является «Прятки с правилами». Суть такой игры заключается в том, что основной «Выигрыш» для ребёнка заключается не столько в обладании запретным объектом или результате действия, сколько в азарте самого процесса нарушения и уклонения от предполагаемого «наказания». Он получает мощные, хотя и деструктивные, эмоции: ощущение власти («Я могу это сделать, несмотря на запрет»), острые переживания риска («А поймают или нет?»), иллюзию превосходства и ловкости («Я смог всех обмануть! Я хитрее их!»), и, конечно, получение желаемого запретным путём.
Фигура «Полицейского» в этой игре представлена взрослым (учитель, родитель) или другими детьми, которые занимают позицию карающего Родительского эго-состояния (КР) или иногда Взрослого, констатирующего факт нарушения (В). Их роль – обнаружить нарушение и применить санкции. Однако, как подчеркивает Бёрн, «Расплата» за игру для «Преступника» всегда тяжела и неизбежна: это потеря доверия со стороны значимых взрослых и сверстников, реальное наказание (лишение привилегий, осуждение), глубокое, часто вытесняемое чувство вины и стыда, социальная изоляция («С ним не хотят дружить/играть»), и, что самое опасное, риск закрепления асоциального поведения как основного способа взаимодействия с миром для достижения целей.
Для эффективной и глубокой проработки таких сложных архетипических и игровых динамик в КИТ с детьми младшего школьного возраста предлагается инновационная методика интеграции имагинации с элементами психодрамы, опирающаяся на знакомые детям литературные произведения, соответствующие их возрасту и затрагивающие актуальные темы. Эта интеграция позволяет прожить конфликт, а не только о нем поговорить.
Идеальным материалом для работы с мотивом «Преступник» служит сказка А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Этот текст насыщен эпизодами, где главный герой активно нарушает правила и границы, что делает его прекрасной проективной площадкой для ребёнка. Примеры таких эпизодов: побег от Карабаса-Барабаса, доверчивость и жадность на Поле Чудес (нарушение здравого смысла и договоренностей с лисой Алисой и котом Базилио), и, особенно показательный, воровство жареной курицы у Карабаса-Барабаса.
Суть интегративной методики заключается в том, что ребёнок под руководством терапевта не просто представляет стандартный мотив КИТ (например, встречу с «Преступником» на Опушке леса), а погружается в конкретный, хорошо известный эпизод из рассказа (например, кражу курицы Буратино) и мысленно перемещается из роли в роль, проживая сцену с разных точек зрения, используя технику смены перспективы, заимствованную из психодрамы, но реализуемую в пространстве имагинации КИТ.
Практический пример работы с эпизодом кражи курицы: Сначала терапевт помогает ребёнку войти в роль Буратино. Ребёнок имагинирует голод, запах курицы, страх перед спящим Карабасом, мощный импульс взять еду. Терапевт может спросить: «Что ты чувствуешь, Буратино, глядя на эту курицу? Опиши свой голод. Как стучит твое деревянное сердечко, когда ты видишь Карабаса? Какая мысль проносится в голове: „Взять? Он же спит! Никто не узнает!“?» Ребёнок проживает азарт нарушения: «Я быстро схватил её! Я хитрый и ловкий!»
Затем происходит ключевое перемещение – смена роли. Ребёнок под руководством терапевта входит в роль Карабаса-Барабаса, который просыпается и обнаруживает пропажу. Теперь он имагинирует ярость Карабаса: «Где моя курица?! Кто посмел?!» Терапевт помогает прочувствовать ощущение нарушения личных границ, беспомощность, горечь утраты и бешенство: «Что сжимается у тебя внутри, Карабас, когда ты видишь пустое место? Опиши свою ярость. Что ты хочешь сделать с тем, кто украл?» Ребенок может выразить это словами: «Я его разорву! Это мое! Как он посмел?!»
Далее возможен переход в роль объекта действия – самой курицы (или другого пострадавшего). Ребёнок представляет себя курицей, которую «внезапно схватили и унесли». Терапевт спрашивает: «Что чувствует курица? Опиши ощущение чужих рук, потерю своего места, беспомощность?» Это мощный инструмент для развития эмпатии к жертве. Дополнительно можно войти в роль наблюдателя (например, Пьеро), который видит поступок друга: «Пьеро, что ты чувствуешь, глядя, как Буратино крадет курицу? Страх за него? Стыд? Непонимание?» («О нет, что же он наделал! Теперь Карабас его убьет! Как же так?»)
После проигрывания ролей следует аналитическое обсуждение, направляемое терапевтом и основанное на прожитом опыте имагинации: «Какие конкретные правила нарушил Буратино в этом эпизоде?» (Взял чужое без спроса, вторгся в чужое пространство). «К чему это привело сразу?» (Ярость Карабаса, погоня). «А были ли другие эпизоды, где Буратино нарушал правила?» (Побег от Карабаса – нарушение «договора» быть куклой; Поле Чудес – нарушение договоренностей с Алисой и Базилио, обман папы Карло). «Когда его хитрость была „во благо“ (или необходима для спасения), а когда „во вред“ (принесла страдания ему и другим)?» (Побег – во спасение; воровство курицы, обман на Поле Чудес – во вред). «Как Буратино постепенно учился отличать „хорошие“ поступки от „плохих“?» (Через последствия: боль, страх, потерю друзей, а потом – через поддержку Мальвины, Пьеро, сверчков, осознание любви папы Карло и ценность дружбы).
Таким образом, данное пособие детально раскрывает специфику применения КИТ для детей 7—11 лет, делая особый акцент на использовании Специальных мотивов как ключа к работе с формирующимся коллективным бессознательным и социальными архетипами, их осмыслении через призму транзактного анализа Эрика Бёрна для деконструкции деструктивных игровых сценариев, и практической методике интеграции имагинации КИТ с психодраматическим ролевым проигрыванием в контексте знакомых литературных сюжетов, что позволяет ребёнку на глубоком, эмоционально-образном уровне осознать последствия своих действий, развить эмпатию и найти здоровые способы удовлетворения потребностей и разрешения конфликтов в сложном мире социальных правил и отношений.
Теоретические основы интегративного метода КИТ для детей младшего школьного возраста
Теория игр Эрика Бёрна
В рамках психокоррекционной работы с детьми младшего школьного возраста (7—11 лет) метод КИТ занимает особое место, позволяя через работу с образами выйти на глубинное, часто невербализованное содержание внутреннего мира ребёнка. Интеграция в этот процесс теоретического аппарата транзакционного анализа, и теории игр Эрика Бёрна, предоставляет специалисту мощный диагностический и интерпретационный инструментарий для анализа устойчивых паттернов поведения, проявляющихся в символическом поле.
Как подчёркивает Бёрн, игры – это не осознанные манипуляции, а стереотипная серия транзакций со скрытой мотивацией, ведущая к предсказуемому драматическому исходу, который подтверждает негативный жизненный сценарий (скрипт) личности. Целью игры является получение «вознаграждения» – интенсивного, пусть и негативного, чувства, которое структурирует время и подтверждает изначальное «экзистенциальное» предубеждение человека о себе и других. Для ребёнка этого возраста игра становится бессознательным языком, на котором он выражает внутренние конфликты, сценарийные решения и ролевые модели, усвоенные в родительской семье.
Кататимная работа, где ребёнок в расслабленном состоянии представляет образы, позволяет наблюдать сценарные паттерны в чистом, символическом виде. Психологическая игра здесь может разворачиваться не в прямом взаимодействии с терапевтом, а в рамках имагинативного сюжета. Ребёнок не просто фантазирует; он проигрывает в образах свои устойчивые транзакционные модели. Задача терапевта – распознать структуру игры в нарративе и её эмоциональном подтексте, что позволяет выявить и проработать дезадаптивные сценарии до их окончательной кристаллизации.
Ярким примером может служить универсальная детская игра в «Прятки». В своём психологическом, бёрновском значении, она может символизировать глубокий конфликт, связанный с потребностью в признании и страхом перед ним, с переживанием покинутости («меня ищут недостаточно усердно») или, напротив, тотального контроля («меня найдут в любой момент»).
Если данный паттерн, закрепленный в игре, не будет осознан и трансформирован в детстве, он рискует интериоризироваться в устойчивый жизненный сценарий. По мере взросления его форма может становиться всё более социально опасной. Например, сценарий «Я невидим / Меня не любят / Со мной поступают несправедливо» может искать своего подтверждения уже не в детской забаве, а в асоциальном поведении. Бывший ребёнок, который привык получать «поглаживания» через динамику «скрывания» и «обнаружения» в форме наказания, во взрослой жизни может бессознательно стремиться к той же схеме.
Это может эволюционировать в криминальное поведение: совершение преступления (акт «прятания», сокрытия себя или последствий своего действия) с последующим ожиданием «поиска» со стороны правоохранительных систем. Финальный «разрыв» игры – арест и публичное разоблачение – становится извращенной формой «быть найденным», то есть замеченным, признанным, пусть и в роли преступника. Это кардинально подтверждает исходное негативное самовосприятие («я плохой») и приносит то самое интенсивное, предсказуемое «вознаграждение», ради которого и запускается вся игра. Как отмечает Бёрн, «игра – это, по сути, процесс маневрирования, основанный на двойной трансакции, и должен иметь двойной итог»1, где социальный и психологический итоги диаметрально противоположны.
Таким образом, понимание структуры и функций психологических игр является необходимым для психотерапевта, работающего в методе КИТ с детьми. Это позволяет:
Диагностировать скрипт-программы: Увидеть за конкретными образами (монстр, запертая дверь, потерявшийся персонаж) не просто страх, а активный сценарный процесс.
Интерпретировать материал: Связать спонтанную имагинацию с реальными моделями взаимодействия ребёнка в семье и школе, которые носят игровой характер.
Прорабатывать конфликты на символическом уровне: Предлагать в образе новые, более здоровые варианты завершения игры (например, не быть пойманным монстром, а найти с ним общий язык), что закладывает основу для изменения сценария в реальной жизни.
Работа по распознаванию и «разложению» игр в процессе кататимной психотерапии является действенным методом профилактики девиантного и делинквентного поведения, так как затрагивает самый корень будущих асоциальных поступков – бессознательную потребность в реализации негативного жизненного сценария.
Важнейшим аспектом является анализ ролевой структуры игры, проецируемой в образах. Ребёнок может занимать в кататимных сценах позицию Жертвы, Преследователя или Спасателя, что является прямым отражением ролей из драматического треугольника С. Карпмана, развившего идеи Берна. Идентификация этой роли позволяет работать с базовым сценарным убеждением.
Для ребёнка с игровой установкой «Я невидим» (сценарий непослушания) характерны образы заброшенных домов, затерянных тропинок, прозрачных существ. Его игра в реальности направлена на получение подтверждения своей незначимости через игнорирование со стороны окружающих. В КИТ терапевт может предложить сценарий, где этот дом находят, а существо обретает видимую форму.
С генезисом агрессии и потенциальной делинквентности часто связаны игры с позицией Преследователя. В образах это монстры, разрушители, охотники. Ребёнок через такую игру может компенсировать переживание собственной униженности, усвоенной в реальности. Задача терапии – вывести эту агрессию из деструктивной игровой плоскости в конструктивное русло (например, превратив монстра в защитника).
Диагностическим маркером деструктивной игры в КИТ является не только содержание образа, но и эмоциональная реакция на его изменение. Сопротивление позитивным изменениям в имагинативном сюжете (например, нежелание, чтобы героя находили) свидетельствует о глубокой вовлеченности в игру и получении вторичной выгоды от негативного сценарного исхода.
Задача терапевта заключается в том, чтобы, отслеживая проигрывание сценария в образах, и отказаться участвовать в нём на уровне контрпереноса. Ребёнок бессознательно будет пытаться вовлечь терапевта в свою игру, например, провоцируя на критику (роль Критикующего Родителя) или скуку (прерывание контакта). Осознавание этой динамики позволяет удержать терапевтические отношения в режиме «Взрослый-Взрослый».
Работа с игрой в формате КИТ является не только коррекционной, но и развивающей. Она способствует формированию у ребёнка мета-позиции по отношению к собственным поведенческим шаблонам, развивая рефлексию и способность к самодетерминации, что является краеугольным камнем психического здоровья.
С точки зрения социальной адаптации, отработка деструктивных игровых паттернов в кабинете терапевта предотвращает их перенос в группу сверстников, где они могут стать источником буллинга, социальной изоляции или, напротив, попадания в асоциальные группы, где сценарий получит мощное подкрепление.
Связь между детскими играми и тяжёлыми формами девиаций в зрелом возрасте подтверждается исследованиями в области криминальной психологии. Как отмечает Ю. М. Антонян, «в основе многих насильственных преступлений лежит бессознательная потребность преступника… воспроизвести и завершить травматическую ситуацию детства, но уже из роли активного участника»2, что полностью соответствует бёрновской логике игры.
Следовательно, своевременная психотерапевтическая работа с игровыми паттернами методами КИТ является не просто клинической практикой, а формой первичной профилактики делинквентности, позволяющей переписать деструктивный жизненный сценарий на этапе его формирования.
Синтез кататимного метода и трансактного анализа создаёт полную методологическую платформу для решения этой задачи, предлагая и инструмент доступа к бессознательному (образ), и язык для его интерпретации (теория игр).
Таким образом, теория игр Э. Бёрна предоставляет для КИТ существенный концептуальный каркас для анализа, деконструкции и трансформации дезадаптивных сценариев, выступая ключевым элементом в системе профилактики девиантного развития личности ребёнка.
Психодрама
Психодрама, созданная Якобом Леви Морено, представляет собой глубокий терапевтический подход, основанный на действии и импровизации, который находит свое уникальное применение в работе с детьми младшего школьного возраста при интеграции с кататимно-имагинативной психотерапией.
Теоретической основой этого синтеза выступает «теория ролей» Морено, согласно которой личность проявляется и развивается через совокупность исполняемых социальных и психических ролей. Как отмечал сам основатель метода, «роль не является фиксированным образованием, а представляет собой динамическую конфигурацию, способную к трансформации и развитию»3. Именно эта пластичность ролевой структуры личности становится ключевым моментом в терапевтической работе с детьми 7—11 лет, находящимися в активной фазе ролевого развития.
Кататимно-имагинативная психотерапия, разработанная Х. Лёйнером, создаёт идеальные условия для адаптации принципов психодрамы к особенностям детского восприятия. Как подчеркивает Лёйнер, «образы кататимного переживания представляют собой не просто фантазии, а символическое выражение актуальных конфликтов и глубинных потребностей личности»4. В состоянии глубокой релаксации ребёнок естественным образом погружается в мир символических представлений, где могут разворачиваться полноценные психодраматические процессы, перенесенные в пространство воображения.
Особую ценность в работе с детьми младшего школьного возраста приобретает техника имагинативного ролевого обмена, адаптированная для работы в кататимном пространстве. Ребёнок, представляя себя в образе, например, могучего дуба, может мысленно поменяться ролями с налетающим ветром, что позволяет пережить ситуацию конфликта с разных перспектив. Такой подход, по словам Г. Хорна, «даёт возможность трансценденции собственной точки зрения и развития способности к децентрации»5, что особенно важно для детей в период развития конкретного операционального мышления.
В отличие от классической психодрамы, где обмен ролями происходит физически, в КИТ этот процесс осуществляется исключительно на уровне воображения, что создаёт дополнительные терапевтические преимущества. Ребёнок, встречая в имагинативном путешествии угрожающий образ, может мысленно встать на его место, понять его мотивы и намерения. Этот процесс, как отмечают исследователи, «способствует интеграции отвергаемых аспектов личности и редуцирование внутренней напряженности»6. Например, работая с образом «страшного монстра под кроватью», ребёнок через технику ментального ролевого обмена может обнаружить, что этот монстр, на самом деле, охраняет вход в волшебную страну или защищает от настоящих опасностей.
Важнейшим аспектом становится развитие способности к ментальному диалогу между различными частями личности. Ребёнок учится не просто пассивно переживать образы, но активно вступать с ними во взаимодействие, задавать вопросы, получать ответы. Этот внутренний диалог представляет собой сущность психодраматического процесса, перенесённого в плоскость имагинаций. Как отмечает А. И. Захаров, «в процессе имагинативного диалога происходит не просто обмен информацией, а глубинная трансформация отношений между различными аспектами психики ребенка»7.
Техника имагинационного дублирования также находит своё применение в модифицированном формате. Терапевт может направлять ребёнка к тому, чтобы представить, что бы сказал его внутренний защитник или мудрый советчик в данной ситуации. Это способствует развитию внутренней поддержке системы и способности к саморегуляции. По словам Е. В. Сидоренко, «имагинативное дублирование позволяет создать внутреннего помощника, который остаётся с ребёнком и после завершения терапевтической сессии»8.
Особую значимость такой подход приобретает при работе с социальными страхами и трудностями в общении. Ребёнок может в имагинациях проигрывать сложные ситуации, ментально примеряя роли других участников взаимодействия. Например, представляя себя на месте учительницы, которая сделала замечание, или одноклассника, который не хочет делиться игрушками. Это позволяет приобрести новый опыт и развить более эффективную стратегию поведения. Как отмечают Джонсон и Джонсон, «ролевая пластичность является ключевым фактором социальной адаптации в младшем школьном возрасте»9.
Для детей, переживших психологическую травму, имагинативный ролевой обмен позволяет безопасно подойти к болезненному опыту. Постепенно меняясь ролями с элементами травмирующей ситуации, ребёнок из пассивной жертвы превращается в активного участника своего исцеления. Этот процесс, по словам В. В. Козлова, «создаёт условия для переструктурирования травматического опыта и формирования новой, адаптивной идентичности»10.
Процесс имагинационной психодрамы способствует развитию эмоционального интеллекта и способности к эмпатии. Проживая ситуации с разных точек зрения, ребёнок учится понимать мотивы и чувства других людей, что особенно важно в младшем школьном возрасте. Как подчеркивает Д. Гоулман, «способность к ментальной смене перспективы является фундаментом эмоционального интеллекта»11.