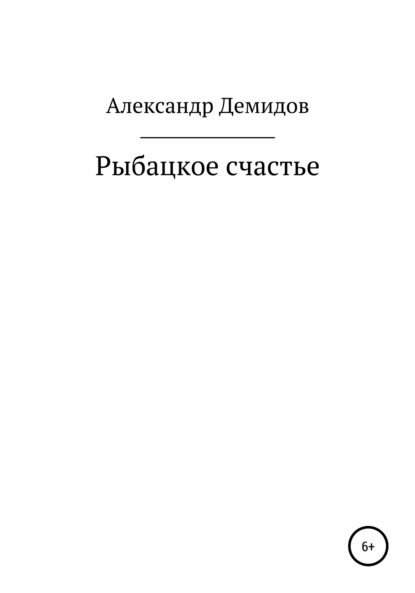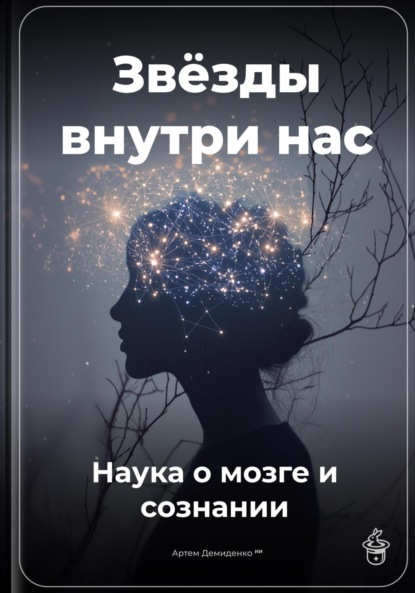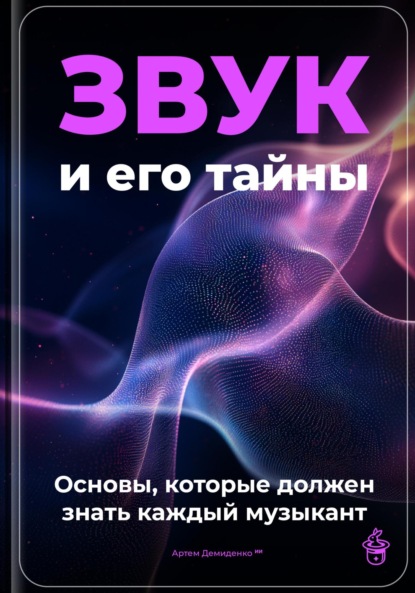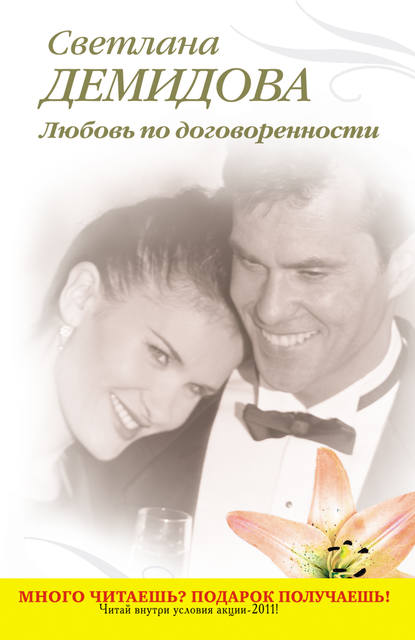Кататимно-имагинативная терапия. Том III, Часть 2
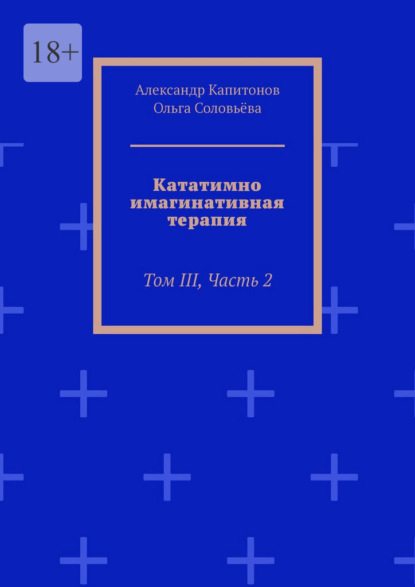
- -
- 100%
- +
Второй уровень определяется как развивающееся символическое. Именно на этом уровне происходит настоящая «революция» в сознании ребёнка: он начинает активно и творчески использовать предметы-заместители (например, простая палочка может в его руках стать и мечом, и шприцем, и волшебной палочкой, а обычная коробка – гаражом, домом или даже ракетой), в его играх появляются более-менее развёрнутые сюжеты, которые часто отражают повседневную жизнь или знакомые сказочные сюжеты. Ключевым достижением этого этапа является устойчивое понимание условности игры, что проявляется в частых репликах типа «Это же понарошку!».
Однако сюжеты всё ещё могут оставаться фрагментарными, они часто быстро и непоследовательно сменяют друг друга, сильно завися от случайных предметов, попадающих в поле зрения ребёнка. Этот уровень представляет собой минимально необходимую базу для крайне осторожного, сильно адаптированного применения КИТ. Вся работа на этом этапе требует от терапевта использования только очень простых, максимально конкретных мотивов (таких как «лужайка», «ручеёк», «домик»), проведения коротких сессий и активного, почти обязательного включения других модальностей – например, рисования или лепки сразу после представления основного образа для его лучшего закрепления в реальности.
Третий уровень по праву считается уровнем зрелого символического мышления. Игра ребёнка здесь характеризуется сложными, логичными и последовательными сюжетами, которые могут планироваться им заранее и развиваться на протяжении нескольких сессий, иногда даже недель. Использование символов становится по-настоящему гибким и творческим, оно часто дополняется абстрактными обозначениями пространства (например, ребёнок может сказать: «Этот ковёр – это море, а этот стул – неприступная скала»). Сама игра начинает активно и напрямую отражать rich внутренний мир ребёнка – его скрытые страхи, неразрешённые конфликты, сокровенные желания и сложные отношения в семье.
Важнейшим признаком является постепенное появление способности к элементарной рефлексии по поводу игры. Этот уровень, безусловно, является оптимальной и наиболее желательной базой для полноценной работы в методе КИТ у детей младшего школьного возраста. Ребёнок, достигший его, уже обладает развитой способностью к устойчивой символизации, глубокому пониманию метафор и устойчивым зачаткам рефлексии, что в совокупности позволяет терапевту работать с гораздо более широким спектром мотивов, включая те, что могут отражать актуальные внутренние конфликты.
Не менее важным, а в некоторых случаях даже более тонким индикатором готовности к КИТ является способность ребёнка понимать метафоры и воспринимать символический, скрытый смысл сказок и историй. Эта сложная способность формируется у детей постепенно, поэтапно, и её тщательная диагностика позволяет максимально точно оценить действительный уровень развития абстрактного, отвлечённого мышления, что напрямую коррелирует с возможностью работы с образами. Более подробно теория и практика оценки понимания метафор разобраны в томе III, часть 1.
Низкий уровень понимания метафор характеризуется исключительно буквальным, конкретным их восприятием. Ребёнок интерпретирует метафору как прямое описание физической реальности (например, фраза «сердце из камня» понимается им буквально: «ему, наверное, тяжело ходить, надо камень вынуть»). Такой уровень является абсолютным и безусловным противопоказанием к применению КИТ в любом его виде, так как работа с образами будет вызывать лишь страх, confusion и сопротивление.
Средний уровень демонстрирует контекстуальное понимание метафор, но с обязательной опорой на собственный, часто ограниченный личный опыт. Ребёнок уже улавливает общий эмоциональный посыл высказывания или сказки, но объясняет его через простые характеристики или конкретные ситуации из своей жизни (например, объясняя, почему утке из сказки «гадкий утёнок» было «сердце из камня», ребёнок говорит: «она злая, потому что гнала утёнка, вот как та тетя в магазине, которая на меня кричала»). Этот уровень представляет собой своеобразный порог минимальной готовности к крайне осторожному и сильно адаптированному применению КИТ. Работа на этом этапе требует использования только максимально конкретных, осязаемых и обязательно ресурсных образов, а также полного отказа от сложных, абстрактных символов, которые ребёнок просто не в состоянии переработать.
Достаточный, или высокий, уровень отражает уже сформировавшееся абстрактно-обобщённое понимание метафор. Ребёнок не только осознаёт метафору как условность, но и способен объяснить её переносное значение в терминах внутренних качеств, состояний и эмоций (так, фразу «сердце из камня» он объяснит как «бессердечная, жестокая, ей всё равно на чувства других, она не умеет любить и жалеть»). Этот уровень, бесспорно, является оптимальным для полноценной и глубокой работы в методе КИТ, поскольку ребёнок уже способен воспринимать спонтанно возникающие образы не как нечто пугающее и реальное, а как репрезентации своих собственных внутренних состояний, что и составляет суть терапевтического процесса в КИТ.
Особое место в диагностическом арсенале занимает оценка способности к символизации через работу с неструктурированными материалами, такими как песок, глина, краски или пластилин. Этот метод, основанный на классических принципах проективного подхода, позволяет выявить глубину способности ребёнка к символической переработке своего опыта. Как и в предыдущих случаях, здесь также можно выделить три последовательных уровня, подробно описанных в томе III, часть 1. Для успешного применения КИТ принципиально важно, чтобы ребёнок достиг как минимум переходного уровня, когда появляются элементы первичной символизации, а в идеале – символического уровня, где материалы используются осознанно для выражения сложных внутренних состояний.
Отдельная и крайне важная задача диагностики – это оценка способности к рефлексии, однако у детей младшего школьного возраста она фокусируется в первую очередь на её аффективной и образной составляющих, а не на сложном, взрослом самоанализе. Для этого в ходе непринуждённой беседы терапевт мягко задаёт ребёнку вопросы о его чувствах в разных, в том числе и гипотетических, ситуациях («Что ты почувствовал, когда у тебя получилась эта сложная фигура из песка?», «Как ты думаешь, что чувствует этот герой на картинке?»). Основным критерием готовности здесь является умение ребёнка хотя бы минимально опознавать и вербализовать базовые чувства в себе и других, а также устанавливать простые связи между этими чувствами и конкретными событиями или возникшими образами.
Крайне информативным диагностическим признаком является наблюдаемая способность ребёнка связывать созданные им самим образы или сюжеты игры со своим внутренним миром. После завершения творческого процесса или игровой сессии терапевт осторожно, без давления спрашивает: «Что это для тебя?», «Как ты себя чувствовал, когда это строил/рисовал?». Ребёнок, готовый к КИТ, как правило, демонстрирует способность установить хотя бы простую, но прямую связь между созданным образом и своим актуальным чувством в процессе деятельности (например: «Мне было спокойно, когда я лепил этот домик» или «Этот дракон страшный, я немного испугался, когда его делал»).
Также в ходе наблюдения следует обращать пристальное внимание на наличие у ребёнка естественного любопытства к собственному внутреннему миру и мирам других. Наличие спонтанных вопросов о значении тех или иных образов или о причинах чувств и поступков персонажей («А почему он такой злой?», «А что это значит?») является хорошим прогностическим признаком и указывает на развивающуюся рефлексивность. Пассивное принятие всего происходящего без подобных вопросов, наоборот, может свидетельствовать о недостаточной готовности психики к глубинной работе, требующей определённого уровня самоисследования.
При итоговой оценке готовности ребёнка к работе в методе КИТ необходимо всегда учитывать возможные абсолютные и относительные противопоказания, напрямую связанные с дефицитом развития абстрактного мышления и рефлексии. К абсолютным противопоказаниям, полностью исключающим применение метода, традиционно относятся: выраженная интеллектуальная недостаточность (умеренная и тяжёлая степень), тяжёлые расстройства аутистического спектра (РАС) с низким уровнем функционирования, а также органические поражения центральной нервной системы, сопровождающиеся грубым нарушением когнитивных функций.
Относительные противопоказания, в свою очередь, не исключают работу полностью, но требуют от терапевта особой, повышенной осторожности, тщательной оценки и обязательной адаптации метода. К этой группе относятся: лёгкая степень интеллектуальной недостаточности и пограничный интеллектуальный статус, высокофункциональный аутизм и синдром Аспергера (где часто наблюдается диссоциация между развитым логическим мышлением и дефицитом аффективной рефлексии), различные задержки психического развития (ЗПР), наличие в анамнезе тяжёлой психологической травмы, приведшей к регрессу, а также возраст на нижней границе диапазона (6—7 лет), когда функции ещё только формируются.
Финальный алгоритм оценки готовности и принятия взвешенного решения представляет собой комплексный синтез данных, полученных из всех перечисленных источников: сбор подробного анамнеза у родителей, наблюдение за спонтанной и направленной игрой, использование проективных методик и специально построенная диагностическая беседа о чувствах и образах. На основе этого синтеза терапевт отвечает на главный вопрос: соответствует ли уровень абстрактного мышления и рефлексии ребёнка минимальным критериям, необходимым для КИТ? Итоговое решение может быть трёх видов: 1) Готов (уровень развития полностью соответствует критериям, можно планировать курс КИТ), 2) Условно готов (минимальные критерии едва достигнуты или есть обоснованные сомнения, требуется максимальная адаптация метода, постоянная поддержка другими методиками и Не готов (уровень ниже критериев, показаны альтернативные методы терапии).
Таким образом, тщательная диагностика уровня развития абстрактного мышления и рефлексии ребёнка – это не просто процедура, а акт клинической ответственности. Без достаточного развития этих функций метод КИТ не только неэффективен, но и потенциально вреден. Этически оправданным выбором для неготового ребёнка является обращение к другим, более соответствующим его уровню развития, терапевтическим подходам, таким как недирективная игровая терапия, песочная терапия (Sandplay) или арт-терапия, сфокусированная на стабилизации и развитии символической функции.
Общие замечания по работе с Основными мотивами
Работа с Основными мотивами представляет собой глубокий и систематизированный подход в детской терапии, направленный на установление контакта, диагностику внутреннего мира ребёнка и активизацию его естественных целительных ресурсов. Этот метод, основанный на силе воображения, позволяет мягко и ненавязчиво исследовать эмоциональное состояние ребёнка, выявляя как области благополучия, так и потенциальные зоны напряжения, которые могут быть не доступны при прямом вербальном контакте. Фундаментальной целью данного процесса является создание безопасной и принимающей терапевтической атмосферы, где ребёнок чувствует себя в достаточной защищённости, чтобы позволить своему внутреннему миру раскрыться перед специалистом.
Краеугольным камнем всего последующего взаимодействия является установление надёжного раппорта и подготовка ребёнка к путешествию в мир образов. Психолог должен действовать не как директивный руководитель, а как внимательный и чуткий сопровождающий. Перед началом процедуры крайне важно убедиться, что ребёнок физически расположен комфортно: он может сесть в удобное кресло или даже лечь на мягкий ковёр, если это способствует его расслаблению. Предложение закрыть глаза является рекомендацией, а не требованием; для некоторых детей темнота может быть пугающей, и они предпочтут оставаться с открытыми глазами, что необходимо уважать и принимать.
Инициация процесса начинается с простых и понятных инструкций, поданных в форме приглашения к игре. Спокойный, плавный, немного замедленный голос психолога сам по себе становится терапевтическим инструментом, настраивая нервную систему ребёнка на умиротворённый лад. Фразы типа «Давай поиграем в одну волшебную игру» или «Представь, что мы включаем сейчас внутренний кинотеатр» создают необходимый игровой и магический контекст, снимая возможное напряжение от «серьёзного» занятия. Этот этап критически важен для формирования доверия и любопытства.
Не менее важным элементом введения является явное установление права ребёнка на контроль и безопасность. Прямое упоминание того, что «ты всегда можешь открыть глаза или мы поменяем картинку», даёт ребёнку ощущение власти над процессом. Это знание само по себе снижает тревогу и делает маловероятной необходимость реального использования этого права, поскольку ребёнок чувствует себя защищённым. Психолог подчёркивает, что не существует «правильных» или «неправильных» образов, а ценным является любой отклик, который возникает.
После подготовки следует этап непосредственного предъявления мотивов – фундаментальных архетипических образов, таких как Луг, Ручей, Гора, Дом, Опушка леса. Эти образы выбраны не случайно: они являются универсальными символами базовых человеческих потребностей и ресурсных состояний – безопасности, энергии, опоры, защиты, жизненной силы. Каждый мотив предъявляется последовательно, между ними выдерживаются достаточные паузы, позволяющие ребёнку полностью погрузиться в рождающийся образ, исследовать его и эмоционально отреагировать.
Психолог предлагает мотивы с помощью нейтральных, открытых вопросов, избегая наводящих и подсказывающих формулировок. Вопрос «Какой он, этот луг?» предпочтительнее, чем «Он зелёный и солнечный, правда?». Подобная нейтральность позволяет внутреннему миру ребёнка проявиться в своём истинном виде, без искажений ожиданиями взрослого. Терапевт мягко поощряет описание, используя вопросы: «Что ты вокруг себя видишь?», «Слышишь ли ты какие-то звуки?», «Что тебе хочется сделать?», «Какое там настроение?».
Особое внимание уделяется не только визуальному каналу, но и кинестетическим и аудиальным ощущениям. Вопросы о том, тёплая ли трава на лугу, мягкая ли она, чувствуется ли ветерок на коже, помогают ребёнку глубже войти в состояние и сделать образ многомерным и живым. Это способствует более полной активизации сенсорного опыта и укреплению связей между воображением и телесными ощущениями, что является ключом к настоящему ресурсному переживанию.
Эмоциональные реакции и спонтанные желания к действию within образе являются ценнейшим диагностическим материалом. Нейтрально-позитивный паттерн реакции, такой как желание бегать, радоваться, исследовать пространство на лугу, указывает на свободный доступ к ресурсу энергии и безопасности. Напротив, отклонения от этого паттерна – например, если ребёнок видит на лугу грозовые тучи, высокую колючую траву, чувствует страх или желание спрятаться – являются значимыми маркерами внутреннего неблагополучия или наличия неразрешённого напряжения.
Задача психолога заключается не в немедленной коррекции «негативного» образа, а в его принятии и мягком исследовании. Если ребёнок сообщает, что на лугу холодно и тёмно, терапевт может спросить: «А что нужно, чтобы здесь стало светлее и теплее?» или «Хочешь ли ты найти здесь место, где будет уютно?». Таким образом, ребёнок сам становится активным творцом изменений в своём внутреннем мире, что укрепляет его чувство агентности и компетентности.
Процесс фиксации наблюдений требует от психолога особого навыка деликатного внимания. Краткие, но ёмкие notes делаются после обсуждения каждого мотива, чтобы не нарушать контакт и не отвлекать ребёнка постоянным письмом. Фиксируются ключевые слова: описания образов, цветовая палитра, действия, которые ребёнок хочет или не хочет совершать, и, самое главное, его эмоциональный отклик и любые несоответствия ожидаемому ресурсному состоянию.
Например, запись по мотиву «Луг» может выглядеть так: «Трава высокая, изумрудная, солнце светит, но не греет. Хочет сидеть, не бегать. Увидел вдали тёмный лес – насторожился. Настроение спокойное, но настороженное». Эта лаконичная запись содержит в себе мощный диагностический сигнал о возможном дефиците чувства безопасности или энергии, несмотря на внешне благополучный образ.
Последовательность мотивов выстроена таким образом, чтобы постепенно и экологично вести ребёнка от более простых и открытых пространств (Луг) к более сложным и символически насыщенным (Дом, Гора). Мотив «Дома», например, часто напрямую отражает внутреннее представление ребёнка о семье, безопасности и личных границах. Описание дома – уютный он или заброшенный, можно ли в него войти, кто внутри – предоставляет бесценную проективную информацию.
Завершающей фазой работы с мотивами является мягкий и постепенный вывод ребёнка из состояния глубокого imaginal погружения. Психолог не обрывает процесс резко, а плавно возвращает его в комнату: «А теперь мы постепенно возвращаемся обратно, в этот кабинет… Ты можешь пошевелить пальчиками рук и ног… и когда будешь готов, открыть глазки». Важно дать ребёнку время и пространство для этого «возвращения», спросить о его самочувствии, поблагодарить за работу.
Последующий анализ записанных наблюдений позволяет психологу составить целостную карту внутреннего ландшафта ребёнка. Выявляются ресурсные зоны – те мотивы, которые были описаны ярко, позитивно и с желанием активного взаимодействия. Эти образы в дальнейшем могут использоваться как внутреннее убежище или источник силы. Одновременно выявляются и проблемные зоны, требующие проработки.
Таким образом, алгоритм работы с Основными мотивами – это не просто техника, а целостная философия взаимодействия с внутренним миром ребёнка. Это бережный диалог, в котором язык образов становится посредником между сознанием и бессознательным, между актуальными трудностями и врождённой способностью психики к исцелению и саморегуляции. Через эту игру воображения психолог не только проводит диагностику, но и закладывает фундамент для дальнейшей терапевтической работы, основанной на доверии, принятии и активизации собственных творческих сил ребёнка.
Мотив «Луг»
Мотив «Луга» является краеугольным камнем в методике работы с Основными мотивами, поскольку он первым предъявляется ребёнку и выполняет функцию первоначальной диагностики базового чувства безопасности и открытости миру. Этот архетипический образ представляет собой фундаментальное пространство психики, на котором разворачивается внутренняя деятельность ребёнка – будь то игра, отдых или исследование. В норме луг символизирует принятие, свободу, доступ к энергии и покою, выступая проекцией того, насколько безопасно и комфортно ребёнок ощущает себя в своём внутреннем и внешнем мире.
Процесс предъявления мотива начинается после этапа подготовки, когда ребёнок уже расслаблен, доверяет психологу и готов к работе с образами. Формулировка должна быть мягкой, открытой и нейтральной: «А теперь представь перед собой большой-большой луг. Не спеши, просто дай образу появиться… Посмотри, какой он…» Ключевая задача психолога на этом этапе – создать максимально комфортную паузу, позволив внутренней картинке сформироваться без давления и спешки. Тон голоса остаётся плавным и принимающим, подкрепляя атмосферу безопасности.
Нейтрально-позитивный паттерн восприятия луга является показателем хорошего доступа к ресурсным состояниям. Ребёнок описывает пространство, наполненное солнцем, сочной зелёной травой, полевыми цветами, бабочками и птицами. Он часто spontaneously выражает желание активного действия: бегать, кружиться, играть, кувыркаться в траве или же, наоборот, – лежать, смотреть на облака, слушать жужжание пчёл. Эти реакции свидетельствуют о свободной энергии, отсутствии хронической тревоги и способности к спонтанной радости, что является основой психологического благополучия.
Однако далеко не всегда образ луга предстаёт в идиллическом виде. Одним из частых отклонений является пустынный, выжженный солнцем луг с жёлтой, поникшей травой. Такой пейзаж может быть метафорой эмоционального истощения, апатии или депрессивных тенденций. Ребёнок, описывающий такой луг, часто говорит вяло, без интереса, и не проявляет желания как-либо взаимодействовать с пространством. Это может указывать на скуку, пустоту, эмоциональное выгорание, особенно если в жизни ребёнка присутствует чрезмерная академическая или дополнительная нагрузка при дефиците простых детских радостей.
Другим значимым отклонением является мрачный, тёмный луг, покрытый туманом или низкими свинцовыми тучами. Этот образ является прямым отражением высокой общей тревожности, подавленного настроения и, что особенно важно, отсутствия чувства безопасности. Такой ребёнок может говорить тихо, оглядываться, его описания будут лишены цвета и жизни. Этот мотив часто встречается у детей, переживающих хронический стресс в семье или школе, чувствующих себя беззащитными перед лицом непонятных им внешних обстоятельств.
Тревожным сигналом является луг, окружённый забором, высокой стеной или колючей проволокой. Это яркий символ изоляции и искусственного ограничения свободы. Подобный образ нередко возникает у детей, находящихся под гиперопекой, чьи инициатива и самостоятельность постоянно подавляются контролем взрослых. Ребёнок подсознательно проецирует на луг ощущение «золотой клетки», где хотя и нет непосредственной угрозы, но нет и простора для подлинного роста и исследовния.
Наиболее ярко выраженное неблагополучие проявляется в образе луга, полного скрытых или явных опасностей: ям, капканов, ядовитых змей или хищников, прячущихся в траве. Это глубинное недоверие к миру, сформированное, как правило, негативным или травматичным опытом. Ребёнок живёт в постоянном ожидании подвоха, его психика настроена на сканирование угрозы даже в потенциально безопасной среде. Такой образ требует особенно бережного и длительного внимания в терапии.
Задача психолога при столкновении с любым из отклоняющихся образов – не переубеждать ребёнка и не навязывать ему «правильный» солнечный луг, а принять его картину и мягко исследовать её вместе с ним. Вопросы задаются с любопытством и поддержкой: «Интересно, а что нужно, чтобы тучи на твоём лугу разошлись?», «Хочешь ли ты найти способ убрать этот забор?», «Давай подумаем, что могло бы сделать это пространство более безопасным для тебя?».
Этот подход трансформирует диагностическую процедуру в терапевтический процесс. Ребёнок из пассивного наблюдателя пугающего пейзажа становится активным творцом изменений в своём внутреннем мире. Если он решает «включить солнце» на выжженном лугу или «выпустить на волю доброго динозавра», чтобы тот прогнал змей, – это акт самоисцеления, укрепляющий его веру в свою способность влиять на обстоятельства.
Фиксация реакции на мотив «Луг» требует от психолога особой тщательности. В записях необходимо отмечать не только визуальные детали (цвет травы, неба, наличие препятствий), но и, в первую очередь, эмоциональный отклик и желание к действию. Разница между «трава зелёная, хочется бегать» и «трава зелёная, но холодно и хочется пойти домой» – огромна и является ключом к пониманию внутреннего состояния.
Последующая работа строится исходя из выявленной картины. Ресурсный, солнечный луг становится опорным образом, к которому можно возвращаться в течение терапии для подпитки и восстановления сил. Если же луг отражает проблемы, он превращается в объект для дальнейшей проработки: его можно исследовать, преображать, населять помощниками, тем самым постепенно меняя и внутреннее состояние ребёнка.
Таким образом, мотив «Луг» – это не просто мотив, это диагностическая карта внутреннего мира ребёнка и одновременно инструмент для его исцеления. Через этот образ психолог получает доступ к глубинным переживаниям, а ребёнок обретает возможность символически выразить то, для чего у него часто не хватает слов, и начать путь к восстановлению чувства безопасности, энергии и радости бытия.
Мотив «Ручей»
Мотив «Ручей» занимает особое место в последовательности Основных мотивов, выполняя роль ключевого диагностического маркера витальности, эмоциональной гибкости и способности к адаптации. Этот образ является мощным символом жизненной силы, естественного течения чувств и времени, а также внутренней чистоты. В норме ручей олицетворяет собой беспрепятственную циркуляцию энергии и эмоций, позволяющую ребёнку оставаться открытым, любопытным и вовлечённым в процесс жизни. Его появление вслед за «Лугом» позволяет оценить, есть ли у ребёнка доступ к энергии для деятельности на этом безопасном пространстве.