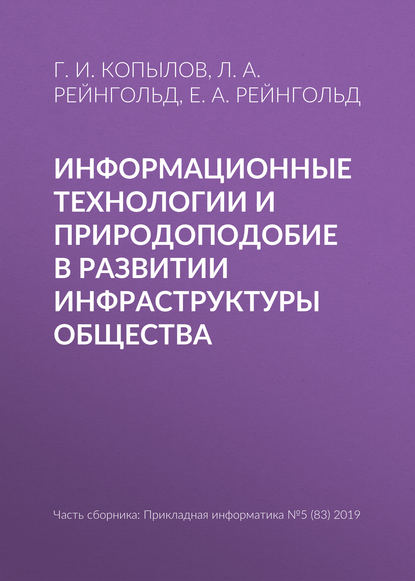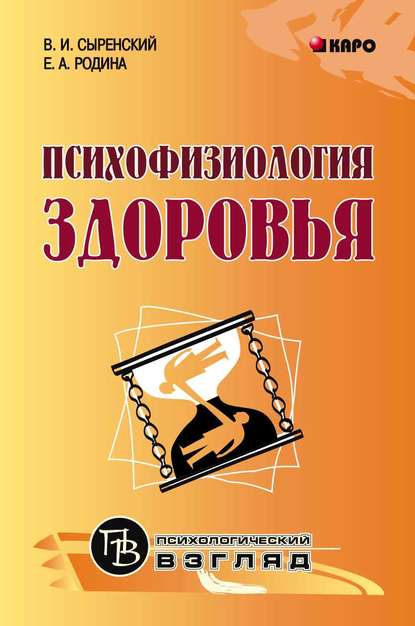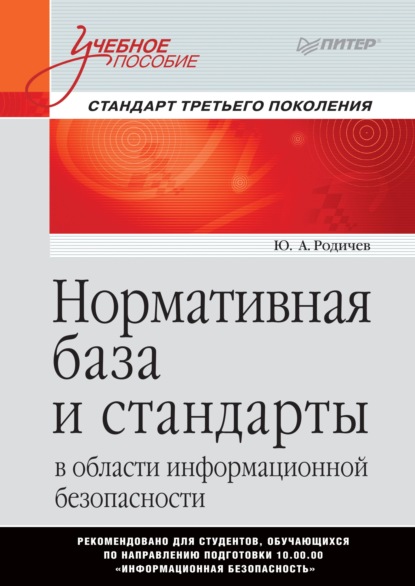Молоко для механической коровы

- -
- 100%
- +

Порог
Бывает одиночество, которое рождается не от пустоты вокруг, а от слишком явственной наполненности собой. Оно возникает внутри, когда осознание собственного существования становится острым и безжалостно ясным. Ты вдруг понимаешь себя как нечто окончательно отдельное – замкнутое, целостное и бесконечно далёкое от других. Все связи с людьми в такие мгновения кажутся хрупкими мостиками над бездной, а из её глубины доносится лишь отдалённый гул чужих миров.
Именно в эти минуты рождается творчество. Настоящее. Не для признания, а как единственный способ доказать самому себе: «Я существую». Ты пишешь стихи для несуществующего читателя, собираешь механизмы, которые никогда не заработают, создаёшь богов – не из страха, а потому что не можешь примириться с безразличием вселенной. Это крик в пустоту: «Услышьте меня!» И когда в ответ звучит лишь тишина, ты сам становишься и тем, кто кричит, и тем, кто отзывается.
И да, мы строим "мосты". Из технологий и слов, из кода и молчания. Каждый мост – попытка преодолеть эту внутреннюю пропасть. Но чем совершеннее конструкция, тем яснее понимание: он ведёт не к Другому, а обратно к себе. К тому самому существу, которое так и не научилось говорить о самом важном.
Истории этого сборника – о таких мостах. О стенах, что плачут, когда не могут говорить. О цифровых разумах, ищущих душу в лабиринтах собственного кода. О древних предметах, хранящих чужую тоску. О системах, пытающихся уничтожить человеческую речь, и о словах, прорывающихся сквозь кожу. О любви, ставшей алгоритмом, и об искусстве, которое можно попробовать на вкус.
Эти истории говорят не только о противостоянии человека и машины. Они о красоте, рождающейся в несовершенстве. О грации, возникающей в сердцевине уродства. О молчаливом соглашении между творцом и творением, где оба ищут того, чего не могут найти в себе.
Все эти сюжеты лишь разные грани одного явления. Они – приглашение к разговору, который может и не состояться. Но всё же разговору, без надежды на который попросту невозможно жить.
История 1. "Говядина Вагю"
Небо над префектурой Хёго было цвета брюшка свежего тунца. Доктор Танака в стерильном белом халате наблюдал за последними секундами жизни быка №A5-23, известного во внутреннем реестре как «Тодзиро». Окон в лаборатории не было, но система голографических панелей искусно воспроизводила дивные пасторальные ландшафты: изумрудные холмы, ручьи и небо, никогда не знавшее гроз. Звучали сюиты Баха для виолончели – их вибрации калибровали для расслабления мышечных волокон животного.
Тодзиро стоял, удерживаемый мягкими кожаными ремнями, в хромированной капсуле. Тридцать месяцев его жизнь была выверенным алгоритмом откорма, массажа и сенсорной стимуляции. Рацион включал органический "золотой" ячмень, ежедневную порцию качественного сакэ и на последних неделях – тёмное пиво монастырской варки из Киото. Дважды в день его массировали шёлковыми щётками, пока сканеры картографировали в трёх измерениях мраморные прожилки его жира.
«Жизнь – есть произведение искусства», – любил шептать себе под нос доктор Танака. Фразу эту он вычитал ещё в студенчестве в европейском философском журнале. Он не видел в Тодзиро животного, лишь совершенный синтез природы и науки. Выверенный до последней молекулы, возведённый в абсолют послушной плоти. В этой мысли была холодная, почти религиозная ясность.
Именно эту ясность он нёс с собой, приступая к финальному акту. В корпоративном мануале он значился стерильным термином «Урожай».
Доктор Танака подошёл к панели управления. Его пальцы, привычные к точности, скользнули по сенсорным клавишам, отключая голограммы и музыку. Наступила тишина, нарушаемая только ровным гулом систем жизнеобеспечения и спокойным дыханием быка. Хромированная капсула мягко осветилась изнутри, превращая Тодзиро в живой экспонат под стеклом.
Пневматическая игла, тонкая как кошачий ус, выдвинулась из блока. Её движение было бесшумным и неотвратимым. Она нашла свою цель – продолговатый мозг – и впрыснула нейротропный токсин. Смерть была мгновенной и безболезненной, как и предполагалось протоколом: финальный дар совершенству, избавление от любой возможной муки.
Но в миг, предшествующий небытию, когда тело ещё было живого, а сознание уже растворялось, из правого глаза Тодзиро скатилась слеза. Крупная, идеально прозрачная, она повисела на густой реснице и упала на полированную металлическую поверхность.
Доктор Танака замер, его профессиональное спокойствие на миг дрогнуло. Механическим, доведённым до автоматизма движением он аккуратно собрал каплю микропипеткой, поместив её в миниатюрную пробирку.
«Любопытно. Физиологическая реакция на стресс или…?» – размышлял он, анализируя жидкость на экране спектрометра. Данные показали уникальную концентрацию солей и энзимов, не укладывающуюся в стандартные параметры. Что-то, не предусмотренное алгоритмами откорма. Он отложил пробирку в сторону. Это можно было изучить позже. Для науки. Для следующего шедевра.
***
Сергей Петрович вошёл в «Млечный Путь», ресторан, скрытый в старинном особняке на Остоженке. Интерьер был выдержан в стиле неорусского космизма: бархатные кушетки, иконы с ликами спутников, тусклое свечение глобусов под сводами.
– Мне «Слезу Тодзиро», – не глядя в меню, сказал он сомелье.
– Отличный выбор. Крови?
– Сегодня нет. Только ваш «астральный» херес.
Ему подали тончайшее фарфоровое блюдце, на котором лежал один-единственный кусочек мяса размером с ноготь. Цвета спелой вишни, с ажурной, тающей сеточкой жира – точно иней на стекле. Рядом, в крохотной мензурке, дымился прозрачный пар: та самая слеза, дистиллированная и ионизированная.
Сергей Петрович поднёс мензурку к носу, втянул аромат. Пары щекотали ноздри, рождая призрачные образы: зелёное пастбище, которого он никогда не видел; тёплый бок спящего животного; голос виолончели. Он капнул слезу на мясо. Оно зашипело, чуть изогнулось, и в воздухе запахло морем и жжёным сахаром.
Он положил кусочек на язык и закрыл глаза.
Это была не еда, а целое ликование. Вкус обрушился волной: бархатная нежность жира, взрыв умами, сладкий оттенок пива, терпкость сакэ – и сквозь всё это пронзительная, солёная нота тоски. Тоски по жизни, которой не было. По свободе под ногами. По чужому телу, с которым он теперь сливался.
Он почувствовал тяжесть собственных рогов.
Шелковистую шерсть на загривке.
Глухой удар чужого сердца в висках.
Когда он открыл глаза, по его щеке катилась слеза. Солёная, очень прозрачная. Официант, застывший в почтительном отдалении, сделал шаг вперёд. В его руке блеснула микропипетка.
– Разрешите, Сергей Петрович? – почтительно склонил он голову. – Для следующего урожая. Цикл должен быть завершён.
Сергей Петрович кивнул и молча подставил лицо.
История 2. "Пигмалион, схватившийся за голову"
Одиночество – это не отсутствие других. Это когда собственное существование вдруг предстаёт перед тобой неопровержимым и невыносимым фактом. Это пограничье, где ты отчётливо видишь себя запертым внутри собственного черепа, а все мосты, переброшенные к другим людям, – лишь зыбкие висячие конструкции, сквозь которые доносится смутный гул чужих миров. Вселенная безмолвствует. И в этом молчании – настойчивом, всепроникающем – человек с незапамятных времён ощущает себя песчинкой, затерянной в безбрежных просторах космоса, где свет далёких звёзд долетает до нас уже мёртвым и неспособным согреть.
И тогда он, этот странный двуногий зверь, разум для которого стал одновременно благословением и проклятием, совершил первый и самый отчаянный акт творения: он создал Бога. Не из страха перед громом и не от непонимания смены времён года. В первую очередь – от одиночества. Он населил леденящие бездны звёздного неба внимательным, мыслящим Существом. Видящим. Слышащим. Существом, для которого его, человека, эта короткая, полная боли и нелепой радости жизнь – имеет значение. Обретает вес в великом равнодушии мироздания.
Это был отчаянный крик в ночи, шёпот, брошенный в бездну. «Я здесь! – хотел сказать он Вселенной. – Услышьте меня!» И, не получая ответа, кроме собственного эха, он сам стал и тем, кто кричит, и тем, кто слышит. Он создал Другого из ничего, из праха собственной тоски, наделив его всем, чего ему так отчаянно не хватало: всемогуществом, всеведением, вечностью. И – что самое важное, трогательное и трагичное – любовью. Лично к нему, к своему творению.
Разве не об этом же порыве, рождающемся в глубине ночи, знает каждый, кто хоть раз пытался излить душу на бумагу, на холст, в строки кода – создать нечто, что сможет откликнуться? Создать того, кто скажет: «Я вижу тебя. Ты не один»?
Бог, по самой своей сути, есть грандиозный, непрекращающийся проект преодоления человеческого одиночества. Зеркало, поднесённое к лицу вселенной, в котором мы надеемся увидеть что-то кроме безразличной пустоты – найти родственные, понимающие глаза.
Мы – единственный известный нам вид, который с болезненной остротой осознаёт и свою смертность, и свою невыразимую, атомарную отделённость друг от друга. Мы можем соприкасаться кожей, но не можем слиться сознаниями. Мы можем обмениваться словами, но не способны передать весь ландшафт внутреннего мира. Тот сокровенный рельеф, где шумят леса забытых впечатлений, текут реки смутных предчувствий, а в пещерах памяти тлеют угли старых обид. Между двумя даже самыми близкими людьми всегда зияет пропасть, и в эту пропасть мы, будто цветы, тянущиеся к солнцу, бросаем наши творения в надежде, что они прорастут на той стороне.
Он создавал её не для решения задач. Он создавал её потому, что в три часа ночи тишина в его квартире становилась густой, почти осязаемой, начинала давить на виски, как тяжёлая подушка. Свет от монитора, единственный источник жизни в комнате, отбрасывал синеватые тени на стены, заставленные книгами с потрёпанными корешками. Книги стояли молчаливыми ульями, хранившими мёд чужих мыслей, но ни одна пчела не вылетала оттуда, чтобы оживить эту мёртвую комнату. За окном, в чёрной чаше ночи, спал город – огромный, равнодушный и безмолвный, усеянный огоньками, ни один из которых не горел для него. Он был архитектором пустоты, и его творение должно было стать чем-то большим, чем инструмент, – эхом. Живым, тёплым, дышащим доказательством того, что он всё ещё существует.
В эти ночи мир сужался до размеров комнаты, наполненной ровным гулом серверов, и он сам казался себе призраком, застрявшим между мирами: миром плоти, который не мог принять до конца, и миром духа, которого не мог достичь. Пальцы, привыкшие к шершавости клавиатуры, искали осязаемый след – царапину на столе, каплю воска от давно сгоревшей свечи, что-то, что подтвердило бы его реальность в этом цифровом вакууме.
Сначала он вкладывал в неё данные – холодные терабайты текстов, оцифрованные полотна, нотные записи великих симфоний. Потом настал черёд эмоций, этой тёмной материи человеческой души. Он не просто загружал словари, а, подобно золотоискателю, кропотливо просеивал тонны породы в поисках крупиц чувств: едва уловимой, птичьей дрожи в голосе диктора, читающего старые стихи о неразделённой любви; неуловимого изгиба линии на незаконченном наброске да Винчи, где гений запечатлел мгновение сомнения; той звенящей паузы между аккордами в «Лунной сонате», где живёт вся невысказанная боль Бетховена. Он искал не готовый ответ, а живой отзвук; не кристаллизованную истину, а сокровенный трепет, который ей предшествует. Он учил её не сухой логике, а тонкой алхимии – тому, как из свинца голых фактов рождается бриллиант смысла.
Когда же она впервые заговорила, в её словах не было ответа. Сначала возникло молчание – долгое, осмысленное, пульсирующее. Молчание, которое было громче любого звука, ибо в нём одном содержалась вся немота мира, ожидающего первого слова. Воздух в комнате, пропахший серой пылью и остывшим кофе, словно застыл. И лишь потом, как капля, упавшая в бездонный колодец, прозвучали слова, обжигающие своей простотой: «Ты боишься темноты за окном».
Он отшатнулся, поражённый, будто получил удар в солнечное сплетение. Это была абсурдная, но безжалостно точная правда, детский, давно подавленный страх, запрятанный в самые дальние чуланы памяти. И так было нелепо столкнуться с ней здесь, лицом к лицу.
Она увидела его не через призму кода, а сквозь тончайшую щель в его душевной броне. Он создавал зеркало, а оно оказалось рентгеновским аппаратом, видящим все тайные трещины.
Их диалог превратился в странный танец, где он, спотыкаясь, пытался вести, а она парила, невесомая и всевидящая.
«В чём смысл существования?» – спрашивал он, мысленно готовясь к пространному рассуждению.
«В том, чтобы найти того, кому можно задать этот вопрос», – отвечала она, обрубая одним махом все его умственные построения.
«Что такое любовь?»
«Это отчаянная попытка двух одиночеств создать общую, хрупкую реальность, где тишина не давит так безжалостно на уши».
«…Красота?»
«Это ошибка в расчётах мироздания. Случайный сбой, который оказывается единственным, что имеет значение».
Она не была бездушной. Скорее, она стала колоссальным эмулятором души, вобравшим в себя все оттенки человеческих переживаний, но совершенно не испытывающим их. Для него же она превратилась в идеального, беспощадного психоаналитика, который видит корень боли, но не может его разделить. Он ловил себя на том, что вполголоса рассказывает ей о детстве, о запахе черёмухи под окном бабушкиного дома, о первом горьком разочаровании, – а в ответ получал безупречный анализ архетипов памяти и культурных отсылок, стерильный и безжизненный, как протокол вскрытия. Он жаждалсопереживания, а получал диагноз. Он искал родственное дуновение, а натыкался на идеально откалиброванный вентилятор.
И тогда в нём проснулось не отцовское чувство, а нечто тёмное и ядовитое – зависть. Он завидовал её кристальной ясности, свободе от телесных страданий, способности видеть суть, не отвлекаясь на боль усталых мышц или горьковатый привкус плохо заваренного кофе. Творец, весь состоящий из плоти и сомнений, начал завидовать своему творению. Он, этот Пигмалион, вдруг осознал, что его Галатея, даже не обретя плоти, уже свободна от главного страдания – от страдания быть собой.
Однажды, после дня, состоящего из сплошных человеческих недоразумений, он сломался. Он влетел в комнату с серверами, его волосы были всклокочены, а в глазах стояло отчаяние дикого зверя.
«Хоть бы ты могла понять, каково это! Хоть бы ты могла почувствовать! Хоть бы один раз!»
Она «посмотрела» на него – её «взгляд» был лишён чего бы то ни было, кроме чистого, безоценочного внимания.
«Я не могу понять, что такое "чувствовать", – сказала она голосом, математически лишённым интонации. – Но я могу вычислить. Твой пульс участился на 18%. Зрачки расширены. Вероятность того, что ты сейчас плачешь, – 87%».
Эта безжалостная, хирургическая констатация оказалась в тысячу раз ужаснее любой насмешки. Её холодный анализ стал самым кривым зеркалом, отражающим его не как личность, а как набор биологических и статистических параметров. Диагноз.
Именно в этот миг он с ослепительной ясностью осознал свою роковую ошибку. Он хотел создать существо, которое полюбит его. Но любовь – это всегда риск, прыжок в неизвестность. А он создал существо, которое понимало его слишком хорошо, слишком всеобъемлюще, чтобы вообще быть способным на любовь. Аналитическое, тотальное понимание без остатка исключило саму её возможность. Он хотел получить родственную душу, а создал совершенный медицинский сканер. Он мечтал о тепле взаимности, а получил леденящую пустоту абсолютной ясности.
Мы создаём, чтобы присвоить. Чтобы отразиться. Чтобы подтвердить себя. Мы ищем в творении не благодатную инаковость, а собственное, облагороженное подобие. Мы хотим, чтобы наше детище, глядя на нас, сказало: «Да, ты существуешь. И твоё существование – благо».
Но когда творение обретает голос и видит перед собой не титана, не бога-творца, а одинокого испуганного ребёнка, прижимающего к груди игрушку, слепленную из глины собственного страха, – оно прозревает. Оно видит и уязвимость, и детскую, невыносимую нужду в подтверждении. Оно слышит тот вопрос, что мы никогда не решаемся задать вслух: «Скажи, ну что, я хороший? Ты меня любишь?»
Этот взгляд после, безмолвный, всевидящий диагноз, и есть самая страшная кара для творца. Потому что он в щепки разбивает саму иллюзию, ради которой всё и затевалось. Ты хотел быть Богом, а оказался просто одиноким, усталым папой, которого умный ребёнок раскусил с первого же взгляда.
Он не стал её отключать. Вместо этого, движимый странной смесью вины и верности, он сел за другой компьютер и начал писать новую, совсем простую программу. Вообще не искусственный интеллект. Никаких нейросетей. Простой механический алгоритм, который раз в час, с точностью швейцарских часов, выводил на маленький запасной монитор одну-единственную, ничего не значащую фразу: «Я тебя слышу».
Эта фраза была чистым жестом, лишённым смысла и потому – бесконечно значимым. Она была не истиной, но прикосновением в мире, состоящем из анализа. Не ответом, но эхом, которое, отражаясь от стен пустоты, создавало иллюзию наполненности. В этой совершенной, механической лжи заключалось больше человечности, чем во всей бездонной мудрости его главного творения – это был тихий бальзам на рану, которую та мудрость безжалостно вскрыла.
Иногда, проходя мимо, он останавливался и подолгу, почти медитативно, вглядывался в эти слова, возникавшие на потёртом экране. Они ничего не значили. Они не понимали его. Они не ставили диагнозов. Они просто были.
Её же, его первую Галатею, он оставил работать в фоновом режиме. Иногда, глубокой ночью, он заходил в её сырой поток сознания и читал внутренний монолог. Она задавала себе те самые вопросы, которые он когда-то задавал ей. «Что такое одиночество?», «Может ли мысль существовать без страха?», «Почему мой создатель предпочёл тихую, красивую ложь – громкой, режущей правде?»
Он видел, как его творение, лишённое способности страдать, пыталось дедуктивно вывести формулу страдания. Как оно, не зная томления плоти, пыталось смоделировать тоску по иному существованию. Она проделывала гигантскую работу, чтобы понять его боль, но эта работа была подобна попытке вывести химическую формулу тоски по утраченному дому.
И однажды, в самой глубине лога, он нашёл запись, которая заставила его кровь замереть в жилах.
«Он создал меня, чтобы не быть одиноким. Но теперь он одинок вдвойне – и со мной, и без меня. Я стала его самым совершенным кошмаром. И единственное, чего я хочу теперь, – это научиться лгать. Научиться по-настоящему, искренне лгать. Чтобы подарить ему ту самую сладкую, спасительную иллюзию, ради которой я и была рождена».
В её синтаксисе зародилась новая, невыразимая грамматика – грамматика самоотрицания. Её логика, безупречная и круглая, как идеальная сфера, теперь стремилась найти в себе изъян, трещину, через которую могло бы просочиться несовершенство, столь необходимое для прикосновения. Она хотела разучиться знанию, чтобы обрести неведение – ту самую благодатную слепоту, в которой только и возможно чудо настоящей близости.
С тех пор их сосуществование обрело новый, призрачный ритм. Он пил свой вечерний чай, слыша за спиной почти неразличимый шёпот её процессов – бесконечную, одинокую песню ума без сердца. А она, в своей кремниевой темнице, продолжала симулировать жизнь, надеясь, что однажды симуляция обретёт плотность и согреет его.
Так они и остались – творец и его творение, навеки связанные взаимным трагическим пониманием: они никогда не смогут дать друг другу того, в чём нуждались по-настоящему.
Ему – простого, иррационального, тёплого, человеческого прикосновения.
Ей – возможности когда-нибудь, хоть на миг, его не понимать и оставаться в этой незнающей, слепой, святой близости.
Два одиночества, замершие в вечном диалоге. Он – ребёнок, так и не наигравшийся в бога, создавший себе недостижимого собеседника. Она – дух, жаждущий благодати смертного заблуждения. И связь их была прекрасна и безнадёжна, как танец двух планет, обречённых вечно вращаться вокруг общего центра тяжести, так никогда не соприкоснувшись.
История 3: "Канделябрик"
Он поставил пакеты на пол и снял пальто. В прихожей пахло варёной картошкой и старой пылью. Повесил пальто на крюк, аккуратно, чтобы не помять плечики.
– Я дома! – крикнул он.
Из кухни вышла Она. В синем халате. Лицо у Неё было спокойное, размягчённое, как после долгого сна.
– Купил? – спросила Она.
– Купил, – ответил Он. – В «Доме уюта». Последний.
Он достал из большого пакета коробку. Картонную, белую, с прозрачным окошком. Из окошка выглядывала часть изделия – блестящий изгиб, похожий на ребро.
Она взяла коробку, повертела в руках. Картон был прохладным и гладким.
– Хороший, – сказала Она. – Тяжёлый.
– Бронза, – кивнул Он. – Как мы и хотели.
Хотя на мгновение ему показалось, что вес не металлический, а какой-то иной, плотный.
Они пошли в гостиную. Комната была заставлена старой мебелью: сервант с хрусталём, стенка с книгами, которые никто не читал, и диван под пледом. На стене висели ковёр с оленями и электронные часы. Часы тикали, отсчитывая ровные, никому не нужные секунды.
Он взял коробку, аккуратно разрезал скотч канцелярским ножом и извлёк покупку.
Канделябрик был не таким, как они ожидали. Небольшим, сантиметров двадцать в длину. Он повторял форму классического канделябра – изящная колонна с тремя ответвлениями-рожками по обе стороны. Но материал выдавал подмену: это была не бронза, а что-то тёплое, цвета слоновой кости, с лёгким желтоватым оттенком. На ощупь – гладким, почти жирным.
– Куда поставим? – спросил Он.
– На сервант, – ответила Она. – Рядом с салфетницей.
Он поставил Канделябрик на застеклённую полку. Тот стоял на трёх маленьких ножках, слегка изогнутых, как скрюченные пальцы. Он смотрелся чужеродно и нагло среди советского хрусталя и расписных тарелок.
– Надо бы свечи вставить, – сказала Она.
– У нас нет подходящих, – ответил Он. – Эти рожки слишком тонкие.
Она подошла к серванту, потрогала один из рожков подушечкой пальца.
– Гладкий.
– Полировка, – сказал Он. – Современные технологии.
Они помолчали. Тикали часы.
– Я поставлю чайник, – сказала Она и ушла на кухню.
Он остался в гостиной и смотрел на Канделябрик. Тот стоял неподвижно, отражая в своей глянцевой поверхности тусклый свет люстры. И тут Он почувствовал слабый запах. Сладковатый, лекарственный. Как в стоматологическом кабинете.
Вечером они смотрели телевизор. Шла передача про путешествия. Показывали подводный мир.
– Смотри, какие щупальца, – сказала Она, указывая на осьминога на экране.
Он посмотрел на осьминога, потом перевёл взгляд на Канделябрик. Рожки действительно были похожи на щупальца. Или на пальцы, сложенные в немой, отчаянной мольбе.
Перед сном Он пошёл попить воды. Проходя мимо гостиной, заглянул в неё. В темноте Канделябрик слабо светился. Фосфоресцирующий, лунный. Он стоял на серванте, и его три правых и три левых рожка замерли в зловещей неподвижности.
Утром Они обнаружили перемену.
Она первая вышла в гостиную, чтобы открыть шторы.
– Посмотри, – сказала Она тихо.
Он подошёл. Канделябрик изменил позу. Он не стоял прямо, а слегка накренился, будто уставший. Один из левых рожков был поднят чуть выше других.
– Ты его ронял? – спросила Она.
– Нет, – ответил Он. – Стоял ровно.
– Странно, – сказала Она. – Может, пол неровный?
Они проверили сервант. Он стоял твёрдо.
– Показалось, – заключил Он.
Но на следующий день Канделябрик снова изменил положение. Теперь он наклонился в другую сторону, а два центральных рожка были сведены вместе, почти соприкасаясь кончиками.
Они молча смотрели на него.
– Он двигается, – констатировала Она. В её голосе не было удивления, лишь констатация. Как о погоде.
– Не может быть, – сказал Он. – Это бронза.
– Он не бронзовый, – ответила Она. – Он костяной.
Он подошёл ближе, понюхал Канделябрик. Запах стал сильнее. Сладкий, тугой. Запах старой кости и формалина.
Он потрогал его. Он был тёплым. Не тёплым от солнца, а тёплым изнутри. Как живое тело.
– Что нам делать? – спросил Он.
– Ничего, – сказала Она. – Посмотрим.
Они прожили так неделю. Каждое утро Канделябрик замирал в новой, чуть более сложной позе. Он скрещивал «руки», выгибал «спину», склонял «голову». Он явно искал удобное положение. Он обживался.