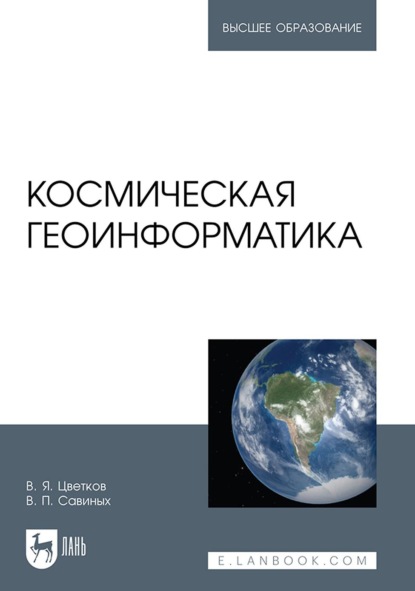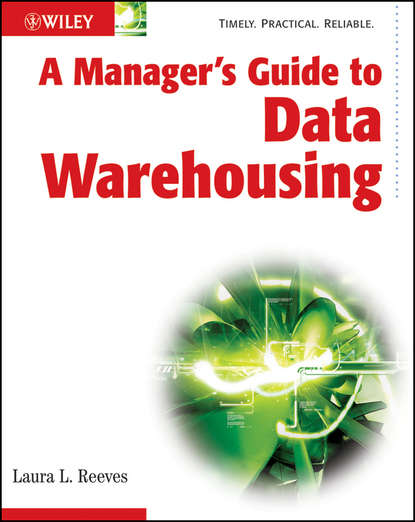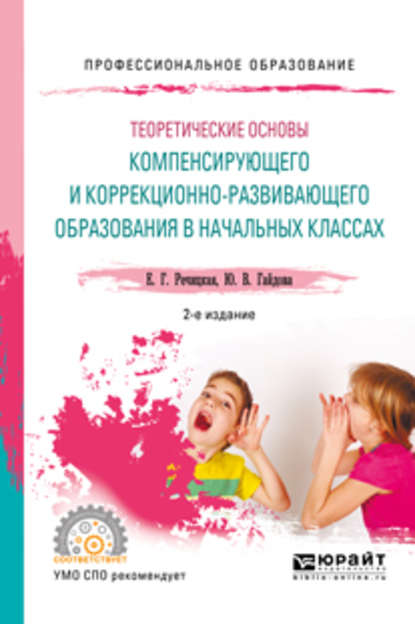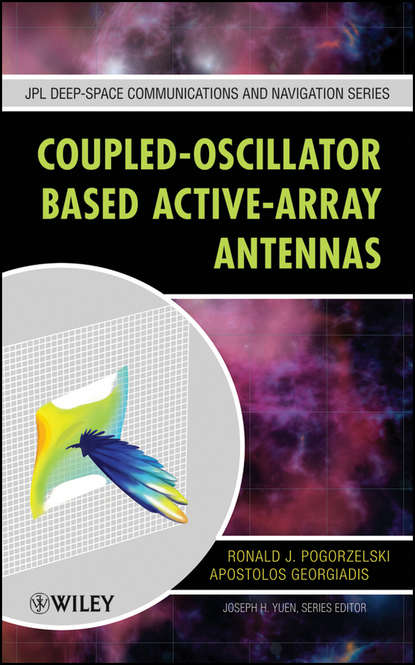- -
- 100%
- +

Часть I. Тень и Плоть
1 глава. Бархат и тишина
Тишина в театре «Эпимелиус» была не просто отсутствием звука. Она была живой, дышащей субстанцией, густой и тягучей, как забродивший мед. Она заполняла собой пространство от запыленного партера до почерневшего купола, впитывая в себя эхо былых аплодисментов и шепот давно ушедших зрителей. Воздух, неподвижный и спертый, пах пылью веков, сладковатой гнилью старого бархата и сухим, терпким ароматом древесины, пропитанной потом и гримом. Лунный свет, холодный и безразличный, пробивался сквозь гигантское запыленное окно под сводом, его серебристый луч, острый как скальпель, рассекал тьму, выхватывая из небытия обломки былой роскоши: позолоченный орнамент на балконе, сверкающий, как слеза; рваный край темно-багрового занавеса, из которого выбивались золотые нити; бледный лик заброшенной гипсовой музы в нише, ее каменные глаза, устремленные в никуда.
В этом призрачном свете медленно кружились мириады пылинок, бесчисленные, как песчинки в пустыне. Их вечный, бесцельный танец был единственным движением в окаменевшем царстве ночи.
Марк Вольнов сидел в пятом ряду, полностью растворившись в темноте. Его высокую, чуть сутулящуюся фигуру не было видно, лишь кончики потертых кожаных ботинок, испещренных брызгами уличной грязи и засохшей краски, попадали в бледную полосу лунного света. Его руки с длинными, нервными пальцами – пальцами художника, привыкшими повелевать материей, – были сжаты в бессильном замке на коленях, суставы выпирали белыми буграми. На нем была темная, почти черная футболка с выцветшим принтом, и джинсы, запачканные памятью о прошлых работах – мазки ультрамарина, охры, киновари. Старая кожаная куртка, мягкая от времени, была наброшена на соседнее кресло, словно сброшенная кожа.
Его лицо, со скульптурными скулами и упрямым подбородком, скрывала тень, но глаза, широко открытые, горели в темноте двумя угольками тления. В них стояла пустота – густая, беспросветная, выеденная изнутри творческим кризисом, длившимся целый год. Он был похож на опустевший алтарь, на котором некогда возносились молитвы вдохновению, а теперь лежал лишь пепел усталости и разочарования. Он приходил сюда ночь за ночью, в свою личную пустыню, надеясь, что тишина в конце концов смилостивится и заговорит с ним. Но она оставалась немой и глухой.
Сначала он решил, что это мираж. Плод бессонницы, усталости и отчаяния. Игра света и тени, пляска воспаленного воображения. Но нет. Движение было слишком реальным, слишком плотным, чтобы быть вымыслом.
Из-за правой кулисы, из самой гущи непроглядного мрака, выплыла она.
Фигура в лунном свете казалась призрачной. На ней было платье – простое, из тонкого шелка цвета темного шампанского, которое он смутно узнал как свое, забытое в углу гримерки. Платье висело на ней мешком, левый рукав сполз, обнажив не просто плечо, а всю ключицу, хрупкий изгиб плеча и часть лопатки – изящную костяную конструкцию, словно созданную рукой гениального скульптора. Ткань мягко колыхалась вокруг ее ног. Ноги были босыми. Ее ступни, бледные и узкие, с высоким подъемом, ступали по шершавым доскам сцены бесшумно, с первозданной, животной грацией. Она не шла, а парила, едва касаясь пола, и лишь легкое шуршание шелка о кожу выдавало ее движение.
Она вышла на середину сцены, в самый эпицентр лунного пятна, и замерла, будто прислушиваясь к музыке, звучащей в ином измерении. А затем начала двигаться.
Это не был танец в общепринятом смысле. Это была плоть, ставшая стихией. Это была молитва, обращенная к ночи. Ее руки взмывали вверх, пальцы впивались в невидимый ток воздуха, а затем опадали, чтобы ладонями, с почти болезненной нежностью, скользнуть по крутым бедрам, впадине живота, упругой груди. Каждое движение было одновременно безумно грациозным и откровенно, дико чувственным. Она говорила телом на языке, который Марк отчаялся когда-либо найти для своих постановок – языке чистой, нефильтрованной эмоции. Тоски. Голода. Свободы. Ее тело было исповедью, вывернутой наизнанку.
Он не помнил, как поднялся. Не осознавал, как его ноги понесли его из темноты зала на освещенную сцену. Он стоял в нескольких шагах, затаив дыхание, боясь, что малейший звук спугнет это видение. Его тень, длинная и уродливая, легла рядом с ее силуэтом, нарушая совершенство картины.
– Кто ты? – его голос прозвучал хриплым, незнакомым ему самому шепотом, который, тем не менее, гулко раскатился по тишине, словно упавший на пол гвоздь.
Она обернулась. Медленно, как в замедленной съемке. И он увидел ее лицо. Это было то же лицо, что он мог бы увидеть днем на улице, но преображенное, искаженное внутренним светом. Лицо, обрамленное распущенными волосами цвета спелого каштана, которые на солнце отливали бы золотом, а сейчас были темными, как влажная земля. Лицо с высокими скулами, прямым носом и губами, которые сейчас были приоткрыты в полуулыбке, полной тайны и вызова. Но главное – глаза. Обычно, как он мог бы предположить, робко опущенные вниз, сейчас они смотрели на него прямо, дерзко, без тени стеснения. В серых, почти прозрачных глазах плясали зеленые искорки – отсветы какого-то внутреннего, дикого костра.
– Призрак, – ее голос был низким, немного хриплым, как шелест бархата о бархат. – Призрак твоих несбывшихся пьес. Твоих несыгранных ролей.
Она сделала шаг к нему. От нее пахло ночным ветром, диким жасмином, что цвел за окном театра, и чем-то неуловимо знакомым – его собственным одеколоном, которым он брызгался утром. Этот микс сводил его с ума.
– Что ты здесь делаешь? – спросил он, и его собственный голос показался ему чужим, слабым.
– Живу, – просто ответила она, и ее пальцы, длинные и изящные, с коротко остриженными ногтями, легли на холодную металлическую застежку его куртки. – А ты лишь существуешь. В этой своей скорлупе. Чувствуется, что ты давно не жил. По-настоящему.
Ее руки скользнули под куртку, ладони, горячие, как уголек, легли на его грудные мышцы сквозь тонкую ткань футболки. Он почувствовал, как по его спине пробежала судорога, а в животе зашевелилось давно забытое, темное тепло.
– Твои кости… – она приблизила губы к его уху, ее дыхание, пахнущее мятой и чем-то терпким, обожгло его кожу, – …твои кости кричат о том, чтобы их коснулись. Они истомились по настоящему прикосновению. Давай утолим их голод.
И прежде чем он успел что-либо ответить, ее уста нашли его. Поцелуй был не нежным, а жадным, исследующим, почти враждебным. В нем не было вопроса, было только утверждение, требование. Ее язык, проворный и влажный, вторгся в его рот, и вкус ее был вкусом запретного плода – сладким, с горьковатым послевкусием. Его руки, будто помимо его воли, обхватили ее талию, прижимая к себе, и он почувствовал, как тонкое тело под шелком откликается ему, изгибаясь, как лоза.
Она, не отрывая от него взгляда, полного торжествующей власти, медленно, с театральной, почти болезненной медлительностью, стала снимать платье. Шелк зашуршал, скользнул с ее плеч, обнажая ключицы, затем грудь, небольшую, но упругую, с темными, набухшими ареолами, тонкую талию, плавный изгиб бедер. Платье упало к ее ногам бесформенным шелковым ореолом. Она стояла перед ним полная, совершенно нагая, омытая лунным светом, и он, завороженный, не мог отвести глаз. Она была воплощением той самой «сырой», животной красоты, которой ему так не хватало, о которой он тщетно мечтал.
Она толкнула его в груду старых бархатных драпировок, сброшенных с декораций. Ткань была прохладной, пыльной и пахла затхлостью. Падая, он задел рукой какую-то деревянную конструкцию, и боль остро кольнула в локте, но он едва заметил ее. Она, не сводя с него глаз, с тем же вызовом, сняла с него куртку, стащила через голову футболку. Ее пальцы ловко расстегнули пряжку его ремня, молнию на джинсах. Все ее движения были властными, не оставляющими места для сомнений, для стыда, для мыслей. Она была стихией, сметающей на своем пути все условности.
Когда он остался так же обнаженным, как и она, она опустилась на него сверху, и мир для Марка сузился до этого лунного пятна на сцене, до запаха пыли, пота и ее кожи, до жара, исходящего от двух сплетенных тел. Ее бедра двигались с древним, первобытным ритмом, она задавала темп, она была хозяйкой этого действа. Она запрокинула голову, обнажив длинную, белую шею, на которой яростно билась жилка. Ее стоны были негромкими, сдавленными, но от этого еще более пронзительными – это были звуки высвобождения, животного, ничем не сдерживаемого наслаждения.
Она наклонилась к нему, ее распущенные волосы создавали вокруг их лиц интимный шатер, в котором было слышно лишь их прерывистое дыхание.
– Я – твоя самая большая тайна, – прошептала она, вонзая в него взгляд, в котором читалась не только страсть, но и невыносимая боль. – И твой самый страшный кошмар. Запомни это.
Она провела указательным пальцем по его пересохшим губам, а затем медленно, не отрывая глаз, опустила руку между их тел, к точке их соединения, влажной и горячей.
– Чувствуешь? – ее голос сорвался на хриплый шепот. – Это – правда. Единственная. Все остальное – просто тишина.
Эти слова, эта пошлая, откровенная демонстрация интимности, свели его с ума. С рычанием, в котором выплеснулся целый год отчаяния, он перевернул ее, теперь доминируя, но это была иллюзия контроля. Она позволяла ему, смотря на него снизу вверх с тем же вызовом, с насмешкой в глазах. Он входил в нее резко, почти жестоко, отвечая на ее вызов, пытаясь докопаться до сути этого фантома, разгадать его, подчинить. В свете луны, падающем на ее плечо, он увидел россыпь мелких веснушек, похожих на коричневые брызги. Эта деталь, невероятно земная, реальная, врезалась ему в память, контрастируя с призрачностью всего происходящего.
Они достигли пика вместе, в оглушительной, немой тишине зала, которая, казалось, вобрала в себя все звуки мира, чтобы затем выплеснуть их в этом мгновении. Ее крик был беззвучным, она впилась зубами в его плечо, оставляя глубокую, багровую метку. Его собственный стон застрял в горле, вырвавшись наружу хриплым, сдавленным выдохом. В финальный миг, на самом гребне наслаждения, он увидел в ее глазах не просто экстаз, а нечто большее – дикий триумф и бездонную, старую, как мир, печаль.
Когда сознание вернулось к нему, он лежал на спине на холодном, пыльном бархате, глядя в черноту купола. Рядом с ним на полу лежало ее шелковое платье. Он схватил его – ткань была еще теплой от ее тела и хранила ее запах – дикий жасмин, его одеколон и что-то еще, неуловимое, чисто женское. Он вскочил, голова кружилась, ноги подкашивались.
– Эй! – его крик прозвучал жалко и гулко в пустоте. – Где ты?
Он обежал сцену, заглянул за кулисы, в гримерки. Никого. Только его собственное отражение мелькнуло в огромном, покрытом пылью зеркале – измученное, бледное лицо, запавшие глаза, в которых застыл испуг и недоумение. Он вернулся на сцену, к груде драпировок. Ничего. Лишь луна, равнодушная и холодная, смотрела на него с небес через грязное стекло. Он остался один. С запахом ее тела на своей коже, с отметинами ее ногтей на спине, с болью от укуса на плече и с шелковым платьем в сжимающейся от трепета руке. С ощущением, что его посетило привидение. Или демон. Или само вдохновение, явившееся ему в облике падшего ангела.
Утро ворвалось в комнату Алисы Демидовой настойчивым, безжалостным лучом солнца, пробившимся сквозь идеально чистое окно. Луч упал прямо на ее лицо, заставив ее поморщиться и медленно открыть глаза. Первое, что она ощутила – странную, тягучую слабость во всем теле, будто она всю ночь таскала мешки с цементом или бежала марафон. Голова была тяжелой, мутной, мысли путались, не желая складываться в четкую картину.
Она лежала на спине, уставившись в безупречно белый потолок. Комната была залита светом, чистым и ясным, не оставляющим места для тайн. Все здесь было выверено до миллиметра. Книги на полках стояли ровными шеренгами, корешки аккуратно выровнены по краю. Подушка на диване лежала строго по центру, его серый чехол был безупречно натянут. На прикроватном столике из светлого дерева стояла лампа с белым абажуром, рядом с ней лежала закладка с видом парижского бульвара, идеально параллельная краю стола. На полу не было ни пылинки, ни соринки. В воздухе витал слабый, успокаивающий аромат меда и лаванды от дорогого моющего средства.
Алиса медленно села на кровати. Простыня была безукоризненно заправлена, одеяло лежало ровно. Она провела ладонью по шелковой наволочке – прохладной, гладкой. Ей было пусто. Всегда, после таких ночей, наступало это чувство – смутной, беспричинной тоски, непонятного стыда, как будто она в чем-то провинилась, но не могла вспомнить, в чем именно. Это было чувство потери времени, вычеркнутого из жизни белого пятна, которое мозг отказывался заполнять.
Она встала и пошла в ванную. Ее ноги были ватными. Отражение в зеркале над раковиной было привычным: бледное лицо, лишенное косметики, с легкими синяками под глазами, влажные, спутанные волосы цвета каштана, собранные в беспорядочный пучок. Серые глаза смотрели на нее устало и отрешенно. Она чистила зубы автоматическими движениями, глядя в пустоту, пытаясь поймать обрывок сна, тень воспоминания. Но в голове была лишь серая, непроницаемая пелена.
Затем, собираясь принять душ, она сняла свою пижаму – простую, хлопковую, с мелким голубым рисунком. И вот тогда она увидела. На внутренней стороне ее левого бедра, там, где кожа была особенно нежной и белой, красовался синяк. Небольшой, размером с монету, но яростно-фиолетовый, почти черный в центре, с багровыми и лиловыми разводами по краям. Он был четким, ярким, инородным телом на фоне безупречной белизны ее кожи.
Алиса замерла, уставившись на него. Она провела пальцем по синяку – он был слегка болезненным, но больше удивлял своей явственностью, своей материальностью. Откуда? Она не ударялась. Она не падала. Она всегда была осторожна. Этот синяк был как улика, оставленная кем-то другим. Как метка, штемпель, поставленный на ее плоти неведомой силой.
Она обхватила себя за плечи, внезапно почувствовав холод. Стыд, всегда дремавший где-то на периферии, накатил с новой силой, горячей, тошнотворной волной. Она стояла перед зеркалом, глядя на свое отражение – на бледную, хрупкую женщину в просторной пижаме, с пустым взглядом и фиолетовой печатью неизвестности на бедре, и чувствовала, как тихая, упорядоченная реальность ее утра дает трещину, сквозь которую пробивается мрак непознанной, пугающей ночи.
2 глава. Чернильное пятно акварели
Солнце, в отличие от своей ночной соперницы луны, не знало снисхождения. Оно заливало улицы города яростным, почти осязаемым светом, выжигая тени, делая мир плоским и лишенным тайн. Лучи его безжалостно отражались от витрин, отполированных капотов машин, до очков прохожих, создавая всеобщую ослепительную мишуру, в которой терялись очертания одиноких душ. Именно в этом сияющем, шумном хаосе Марк Вольнов, пряча усталые глаза за затемненными стеклами очков, искал призрака.
Прошло три дня. Три дня, в течение которых он существовал в странном подвешенном состоянии, на грани сна и яви. Запах дикого жасмина и его же одеколона, смешанный с пылью и потом, преследовал его повсюду. Он чувствовал его в своей гримерке, насквозь пропитанной запахами краски и старого дерева. Он чудился ему на улице, в парке, где цвели какие-то другие, более нежные кусты. Он вставал в памяти каждую ночь, когда он снова сидел в пятом ряду, вглядываясь в пустую сцену, залитую теперь лишь его собственным отчаянием. Шелковое платье, тщательно спрятанное им, он доставал, сжимал в руках, пытаясь вызвать тот самый миг, тот самый образ. Но призрак не являлся. Он был как сон, который невозможно вспомнить.
И тогда, отчаявшись, он решил искать его в мире реальном. Логика была проста и безумна: если это не призрак, а плоть и кровь, то она должна была оставить след. И он начал свой методологичный, одержимый поиск. Он обходил все кофейни в районе театра, все книжные магазины, все скверы, вглядываясь в лица женщин. Он искал те самые веснушки на плече, тот разрез глаз, тот оттенок волос. Он был похож на сыщика, разыскивающего пропавшую грань собственной души.
И он нашел ее. Вернее, не нашел, а столкнулся с ее отражением в кривом зеркале реальности. Это произошло в небольшом, залитом светом читальном зале городской библиотеки. Он зашел туда почти случайно, движимый смутной надеждой, что место, хранящее голоса прошлого, может хранить и его ночное видение.
И он ее увидел. Она сидела за столом у окна, заваленным старыми фолиантами в потрепанных кожаных переплетах. Солнечный свет, падая на нее, делал ее почти невидимой, растворял в своих лучах. Она была одета в простую белую блузку с маленьким, аккуратным воротничком и строгую юбку-карандаш темно-серого цвета. Ее волосы, того самого оттенка спелого каштана, были убраны в тугой, безупречно гладкий пучок на затылке, который обнажал тонкую, почти хрупкую шею. На переносице покоились очки в тонкой металлической оправе. Она склонилась над книгой, и ее поза была полна такой сосредоточенной, замкнутой грации, что казалось, любое резкое движение, любой звук могут разбить ее в осколки.
Марк замер у входа, сняв очки, не веря своим глазам. Это было то же лицо. Тот же овал, те же скулы, тот же рот. Но это была не она. Это была ее негатив, ее бледная, выцветшая копия. Там, где у его призрака в глазах плясали зеленые огоньки дикой свободы, здесь были лишь спокойные, серые, как озеро в пасмурный день, воды. В них читалась лишь внимательная, немного отрешенная сосредоточенность. Там, где его ночная гостья двигалась с животной, потрясающей воображение пластикой, здесь царила полная, почти звенящая статичность. Она была воплощением тишины, порядка и самоконтроля. Чернильное пятно на его буйном полотне ночи превратилось в блеклую акварель ясного дня.
Шок сменился жгучим разочарованием, а затем – вспыхнувшим с новой силой любопытством. Контраст был настолько разительным, настолько невозможным, что не мог быть случайным. Это была она. Он знал это. Но что-то с ней случилось. Что-то ее сковало, спрятало, замуровало в эту безупречную, ледяную оболочку. И его одержимость, вместо того чтобы утихнуть, получила новую пищу. Ему нужно было докопаться до сути. Он должен был понять, где правда – в той, ночной, дикой и прекрасной, или в этой, дневной, тихой и невзрачной. И это предположение заставило его кровь пробежать быстрее, правда была где-то посередине.
Он подошел к ее столу, и его тень упала на развернутую страницу старой книги. Она вздрогнула, словно его присутствие было физическим толчком, и медленно подняла на него глаза. И в этот миг он увидел это – крошечную, мгновенную вспышку в глубине ее серых глаз. Не страх, не удивление. Нечто иное. Словно на долю секунды кто-то щелкнул выключателем где-то глубоко внутри, и он увидел отсвет того самого, ночного огня. Но мгновение спустя ставни захлопнулись. Ее взгляд снова стал ровным, вежливым, отстраненным.
– Простите, – ее голос был тихим, чуть глуховатым, лишенным того хриплого, бархатного тембра, что сводил его с ума. – Я вам мешаю?
– Нет, – ответил он, и его собственный голос прозвучал грубовато на фоне библиотечной тишины. – Вы – Алиса Демидова? Реставратор?
Она кивнула, чуть склонив голову набок, как птичка. – Да. Чем могу помочь?
Он сел на стул напротив нее, без приглашения. Его движения были слишком широкими, слишком громкими для этого места. Он чувствовал, как нарушает хрупкое равновесие ее мира, и это доставляло ему странное, почти садистское удовольствие.
– Марк Вольнов, – представился он, не протягивая руки. – Режиссер. Театр «Эпимелиус».
На ее лице не дрогнул ни один мускул. Ни тени узнавания. Ничего. – Здравствуйте. Я слышала о вашем театре. Авангард, кажется?
– Кажется, – усмехнулся он. Он положил локти на стол, приблизившись к ней. Он видел, как ее плечи инстинктивно отшатнулись, съежились. – Мне нужна ваша помощь. Я ставлю новую вещь. О теле. О его памяти. О том, как оно хранит травмы и наслаждение.
Он намеренно ввернул последнее слово, наблюдая за ней. Ее пальцы, лежавшие на странице книги, слегка дрогнули. Она опустила взгляд на них, словко проверяя, на месте ли они.
– Я не уверена, что понимаю, – тихо сказала она. – Я работаю с бумагой. С чернилами. Не с телом.
– Но вы же его реставрируете, – парировал он. – Возвращаете к жизни то, что было испорчено, стерто, забыто. Вы лечите память материи. Мой проект – о том же. Только материя другая. Человеческая. Мне нужен кто-то с вашим… чутьем. С вашей точностью. Чтобы изучать пластику актеров, их движения, искать в них подлинность. Вы были бы моими глазами. Помощницей.
Он видел, как она внутренне сжимается, как ее разум ищет лазейку, вежливый отказ. Ее губы сжались в тонкую, бледную ниточку.
– Господин Вольнов, я… я не разбираюсь в театре. И я очень занята здесь. У меня своя работа.
– Я оплачу ваше время, – быстро сказал он, махнув рукой, как будто деньги были пылью. – Втрое против вашей ставки здесь. Это будет исследование. На несколько недель. Вам не нужно будет выходить на сцену. Просто наблюдайте. Давайте мне… обратную связь.
Он смотрел на нее, не отрываясь. Его взгляд был инструментом, скальпелем, которым он пытался вскрыть ее защитную оболочку. Он изучал каждую деталь: идеально гладкую кожу на лбу, лишенную морщин заботы; маленькие, аккуратные мочки ушей; тонкую золотую цепочку на шее, почти скрытую под воротничком блузки. Он искал хоть малейший намек на ту, другую. Запах духов? Нет. От нее пахло только мылом, бумажной пылью и чем-то нейтральным, почти медицинским.
– Я… мне нужно подумать, – наконец выдохнула она, снова поднимая на него глаза, и в них читалась отчаянная мольба оставить ее в покое.
– Конечно, – он сделал вид, что соглашается, и достал из внутреннего кармана куртки визитку. – Мой номер. Адрес театра. Приходите завтра. В четыре. Просто посмотрите. Без обязательств.
Он положил визитку на стол рядом с ее рукой. Белый прямоугольник на вытертом дереве выглядел инородным телом, пятном, кляксой, вторгшейся в ее стерильный мир.
Она молча кивнула, не глядя на визитку.
Он поднялся, и его стул громко скрипнул. – До завтра, Алиса.
Он вышел из читального зала, не оглядываясь, но чувствуя ее взгляд, прикованный к его спине. Он знал, что она будет. Ее любопытство, ее смутный, непонятый ею самой страх, та самая искра, что мелькнула в ее глазах, – все это будет гнать ее к нему. Он был хаосом, ворвавшимся в ее упорядоченную вселенную, и противостоять гравитации хаоса невозможно.
Алиса сидела за столом, не двигаясь, долгие минуты после того, как он ушел. Ее сердце колотилось где-то в горле, отдаваясь глухим, неровным стуком в висках. Руки были ледяными. Она смотрела на визитку. На ней было только имя – «Марк Вольнов» – и адрес. Театр «Эпимелиус». То самое место, мимо которого она всегда старалась обходить стороной, ощущая его как зияющую, темную пустоту на карте ее города.
Он был таким… громким. Таким плотным. Он заполнил собой все пространство вокруг, вытеснив воздух. Его взгляд был невыносимым. Он не просто смотрел на нее, он сканировал ее, ощупывал, будто искал потайную кнопку, щель в броне. И самое ужасное было то, что в глубине души, под слоями страха и неприятия, она почувствовала странное, щемящее волнение. Как будто кто-то постучал в дверь ее клетки, и ей, против воли, захотелось узнать, что там, снаружи.
Она медленно, почти с отвращением, дотронулась до визитки кончиками пальцев. Бумага была шершавой, плотной. Она перевернула ее. На обратной стороне не было ничего. Лишь пустота. Как и в ее памяти о тех ночах, что выпадали из ее жизни. Она снова почувствовала тот же стыд, то же смутное беспокойство, что и утром, когда обнаружила синяк. И теперь этот мужчина, этот Марк Вольнов, со своей навязчивой идеей о теле и памяти, казался зловещим вестником, пришедшим из того самого, забытого ею мрака.
Она резко встала, задев локтем стопку книг. Одна из них, тяжелый фолиант в кожаном переплете, с грохотом упала на пол. Звук был оглушительным в благоговейной тишине зала. На нее обернулись несколько читателей, их лица искажены укоризной. Алиса, пунцовая от смущения, подняла книгу, бережно обтерла переплет ладонью, проверяя, не поврежден ли он. Это было автоматическое, выверенное движение реставратора. Действие, призванное вернуть миру порядок, исправить нарушенную гармонию.
Но внутри нее что-то было безвозвратно нарушено. Трещина прошла не по старому переплету, а по ее собственной, хрупкой реальности. И в эту трещину, как назойливый сквозняк, ворвался хаос по имени Марк Вольнов. Она сунула визитку в карман юбки, чувствуя, как бумага жжет ее кожу сквозь ткань. Она знала, что пойдет. Потому что боялась. И потому что, сама того не сознавая, уже была пленницей его одержимости, ставшей и ее собственной.