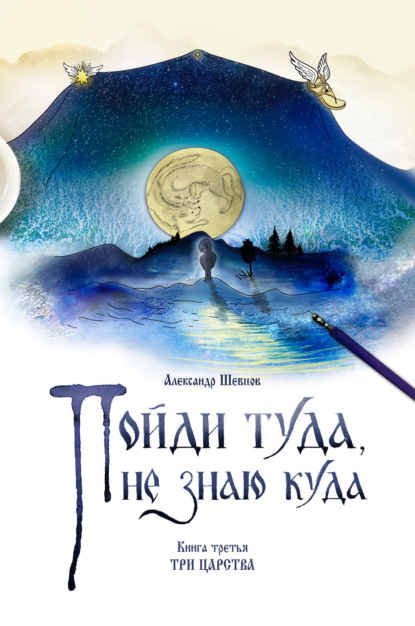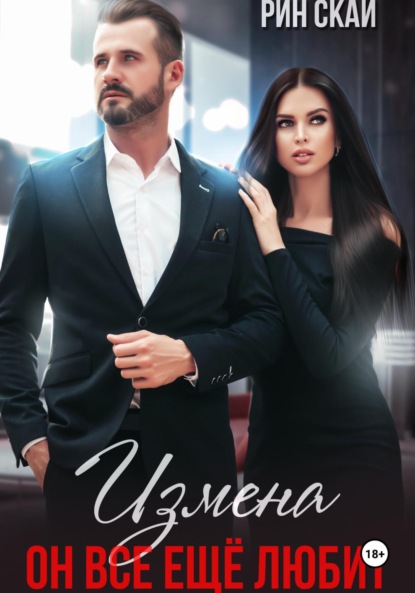Письма о кантовской философии. Том 1
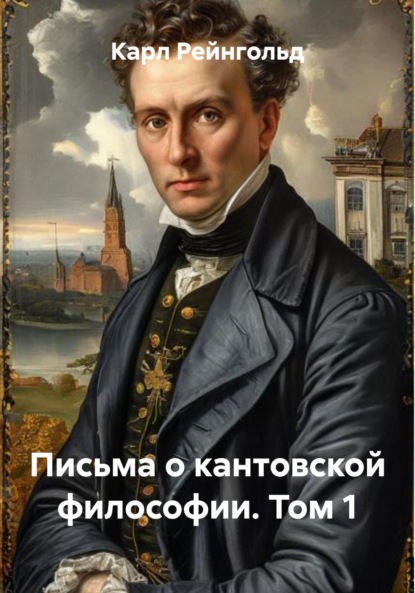
- -
- 100%
- +

Исторический контекст.
1. Ключевая роль «Писем»Революция в философии, произведенная Иммануилом Кантом в конце 1780-х годов с публикацией «Критики чистого разума», столкнулась с проблемой: работа была чрезвычайно сложна для понимания. Ключевую роль в её преодолении сыграл Карл Леонгард Рейнгольд, профессор из Йены, ставший одним из самых влиятельных популяризаторов и интерпретаторов кантианства.
2. Почему сначала 8, а потом 12?Первый этап (1790 г.): Рейнгольд опубликовал серию из восьми писем в ведущем литературно-философском журнале того времени «Der Teutsche Merkur» (с августа 1786 по сентябрь 1787 года, но известность они приобрели именно в 1790-м). Эти письма были сенсацией. Они представили идеи Канта не как сухую академическую систему, а как живое учение, имеющее огромное значение для решения фундаментальных проблем морали, религии и человеческой свободы. Именно эти 8 писем стали классическими и вошли в историю как первоначальный, самый влиятельный вариант работы.
Второй этап (1792 г.): Успех писем был так велик, что Рейнгольд решил издать их отдельной книгой. Однако он не просто перепечатал старые тексты. Он:
Переработал и расширил оригинальные 8 писем.
Добавил четыре новых письма, в которых развивал идеи дальше и отвечал на возникшие критические замечания.
Таким образом, когда мы говорим о книге Рейнгольда «Письма о кантовской философии» (издание 1792 года), она состоит из 12 писем.
3. Почему же чаще упоминают именно 8 писем?Есть несколько причин:
Историческое первенство и влияние: Именно первоначальная публикация в «Teutsche Merkur» сыграла ключевую роль в популяризации кантианства. Это был момент прорыва. Историки философии, говоря о первоначальном воздействии идей Рейнгольда, ссылаются именно на эту, первую версию.
Фокус на популяризации: Первые 8 писем были в большей степени ориентированы на объяснение самого Канта. Последующие 4 письма уже содержат элементы собственного философского развития Рейнгольда, его попыток усовершенствовать и обосновать философию Канта (что в итоге привело его к созданию его собственной «Теории элементарного сознания» – Elementarphilosophie). Поэтому, когда хотят подчеркнуть роль Рейнгольда как интерпретатора Канта, акцент ставится на первых 8 письмах.
Цитирование по первоисточнику: Ученые часто предпочитают ссылаться на первоначальную журнальную публикацию как на ключевой исторический документ.
О новой редакции.
Работа над переводом «Писем о кантовской философии» Карла Рейнгольда была уникальным и сложным вызовом, поскольку это был первый опыт перевода этого фундаментального труда на русский язык. Следует отметить, что существующие переводы этого произведения на другие иностранные языки также крайне малочисленны, что лишь подчеркивало сложность и новизну задачи.
Объемный и сложный текст первого тома «Писем» (1790 года) требовал не просто механического перевода, но глубокой редакторской работы, сверки с немецким оригиналом и филигранной работы со смыслами. Цель состояла не в полном переписывании текста, а в том, чтобы, сохранив стиль и интеллектуальную строгость автора, сделать перевод точным и читаемым.
Были исправлены явные опечатки и грубые искажения (например, «в шатре» → «во времени», «маскирующийся субъект» → «мыслящий субъект»), а также улучшена общая связность и ясность изложения. Особое внимание уделялось терминологической точности: ключевые понятия, такие как «Vorstellungsvermögen» («способность представления»), «Ding an sich» («вещь в себе»), «Anschauung» («созерцание»), «moralischer Glaube» («моральная вера») и другие, были приведены в соответствие с устоявшейся традицией перевода философской литературы Канта и его школы.
Кроме того, многие длинные и сложные периоды оригинала, характерные для философской прозы XVIII века, были аккуратно адаптированы для современного русского читателя – без упрощения смысла, но с сохранением логики и риторической силы аргументации Рейнгольда.
В результате была проведена комплексная работа, нацеленная на то, чтобы новая редакция моего первого русскоязычного варианта этого важного текста не только точно передавал содержание, но и отвечал требованиям академической добросовестности, терминологической ясности и стилистической целостности.
Аннотация.
Карл Леонард Рейнгольд (26 октября 1757 – 10 апреля 1823) – австрийский философ, сыгравший ключевую роль в популяризации и развитии философии Иммануила Канта в конце XVIII века. Считаясь пионером восприятия критической трансцендентальной философии в немецкоязычном мире, Рейнгольд не просто объяснял идеи Канта, но и стремился систематизировать и реформировать их, положив начало движению к немецкому идеализму.
Его знаменитые «Письма о кантовской философии» (1786–1787) получили широкое признание за ясное и доступное изложение мыслей Канта, которые в оригинале были затруднены для понимания из-за сложного языка философа. Стремясь превратить критическую философию в строгую «науку» или «элементарную философию» (Elementarphilosophie), Рейнгольд в таких центральных работах, как «Опыт новой теории человеческой способности представления» (1789), «Вклад в исправление прежних заблуждений философов» (том 1, 1790) и «Об основании философского знания» (1791), пытался вывести разум и чувственность из единого основополагающего принципа – «способности представления».
Несмотря на его историческое влияние, многие сочинения Рейнгольда долгое время оставались недоступны для англоязычной и русскоязычной аудитории. Ситуация начала меняться лишь недавно. Помимо превосходного перевода первой серии (8) «Писем о кантианской философии» (под редакцией Карла Америкса в серии «Кембриджские тексты по истории философии», 2005), стали появляться и другие переводы:
Отрывки из «Основы философского знания» (Джордж ди Джованни).
Фрагменты работы «Über das Fundament des philosophischen Wissens» (Сабина Рор).
Выдержки из «Beyträge II» и «Vermischte Schriften 2», относящиеся к посткантовским дебатам о свободе воли (Йорг Ноллер и Джон Уолш).
В настоящее время ведется работа по переводу на английский язык второго тома «Писем».
Растущий международный интерес к наследию Рейнгольда подтверждается серией посвященных ему конференций: первая прошла в Бад-Хомбурге (Германия, 1998), последующие – в Люцерне (Швейцария, 2002), Риме (Италия, 2004), Монреале (Канада, 2007), Зигене (Германия, 2010) и Киле (Германия, 2017).
Данный перевод «Писем о кантианской философии» выполнен с немецкого оригинала на русский язык с изданий:
Briefe über die Kantische Philosophie [Erster Band] (1790)
Briefe über die Kantische Philosophie, Zweyter Band (1792)
Важное примечание: На момент создания данного перевода полный перевод второго тома «Писем» на какой-либо язык, кроме немецкого, отсутствует, что делает эту работу первой в своем роде.
Предисловие
Намерение писем, собранных в настоящем томе, состояло уже не в том, чтобы пригласить моего друга к изучению философии Канта, но в том, чтобы облегчить ему эту задачу – в отношении той её части, которая представляет для него самый непосредственный интерес, которую он считает наилучше понятой и которая, тем не менее, как мне показалось, требует наибольшего обсуждения именно для него.
«Критика практического разума» нашла в его сердце толкователя столь же безошибочного, сколь и готового, которого, однако, можно было бы понять превратно, если бы он остался наедине с простыми утверждениями там, где следовало искать их основания. То, как мой друг начал использовать некоторые выражения и формулы из этого важного труда, не оставляло у меня сомнений в том, что в его новых убеждениях нравственное чувство нередко опережало философский разум. Я видел, как он применял утверждения, которые, по замыслу кёнигсбергского философа, должны были служить лишь предварительными разъяснениями, в качестве объяснений и принципов, и тем самым ставил себя перед необходимостью находить ту самую систему, которая в целом удовлетворяла его сверх всяких ожиданий, противоречивой в некоторых отдельных частях.
Убедившись, что я не могу никаким иным способом рассеять возникающие из-за этого недоразумения, я решил попытаться показать ему всё здание новой моральной философии с такой точки зрения, которая полностью отличалась бы от точки зрения Канта, и с помощью которой он был бы вынужден внимательнее вглядеться в те её части, что до сих пор были слишком близки для его взора, и в те, что он, казалось, едва замечал в тёмной дали.
При этом я избрал следующий путь. Некоторые довольно распространённые и глубоко укоренённые предрассудки против философии Канта вообще, на которые обратил моё внимание мой друг, послужили мне поводом подготовить его к ходу и методу моих будущих размышлений в первом письме.
Предварительные знания, развивая которые я затем берусь осветить новое философское понятие о нравственности, распадаются на внешние и внутренние.
Первые предшествуют подробному изложению этой концепции и определяемых ею принципов морали и естественного права, что составляет содержание шестого письма; вторые – пятого. Здесь, обсуждая конфликт между различными философскими концепциями долга и права, а также разногласия между принципами морального и гражданского права, а также науками естественного и позитивного права, я стремлюсь сделать очевидной необходимость определённого понятия морального закона и показать, что недоразумения, которые особенно вызывали и поддерживали эти разногласия, устраняются концепцией, установленной Кантом.
Внутренние предпосылки этого понятия, которые, после всего, что было сделано в трудах Канта в его пользу, всё же ещё предстояло (или ещё предстоит) обнаружить, касаются особенностей воли, того, чем её свободное действие отличается как от действенности чистого разума, так и от непроизвольного желания. В силу аналитического хода, к которому привязан философствующий разум в прогрессивном развитии основных способностей души, эти характеристики могли быть найдены лишь после предварительно определённого понятия о своеобразных законах воли, которое впервые было выставлено Кантом. В «Критике практического разума», как и в «Основоположении к метафизике нравов», они не ошибочно предположены, но они совершенно не разработаны; и установление их определённых понятий стало возможным лишь благодаря этим работам, но столь же легко, сколь и безвозвратно. Отсутствие этой определённости заявило о себе во всех дошедших до меня сочинениях, в которых теория морали Канта либо осуждается, либо используется, и в которых действительная и безусловная свобода воли, которую Кант утверждает при каждом удобном случае, – даже друзьями его философии – либо отвергается как нечто немыслимое, либо прямо ограничивается лишь морально добрыми поступками, либо, по крайней мере, будучи перенесённой на самодеятельность разума, мыслится таким образом, что может быть распространена на морально злые действия лишь по непоследовательности.
Повторения, которые я счёл нужным позволить себе в подробном обсуждении этой концепции, содержащемся в восьмом письме, вызваны, а возможно, и оправданы многообразными недоразумениями, с которыми мне пришлось столкнуться из-за различных старых и новых общепринятых концепций.
После этой проработки я смог быть ещё более кратким в девятом и десятом письмах, где мне пришлось защищать эту концепцию от прежних метафизических представлений о душе и прежних оснований для веры в существование Бога.
Одиннадцатым письмом, в котором я использовал установленное понятие как ключ к истории моральной философии вплоть до настоящего времени, завершаются рассуждения, касающиеся внутренней возможности будущего согласия между самостоятельно мыслящими людьми относительно принципов этой науки.
Двенадцатое и последнее письмо призвано объяснить внешнюю возможность этого согласия.
Большая часть содержания этого второго тома была ранее опубликована в различных отдельных выпусках «Немецкого Меркурия» для предварительной оценки и была затем частично исправлена, частично дополнена, а частично полностью переработана – отчасти в соответствии с полученными таким образом отзывами, отчасти в соответствии с моими собственными более поздними прозрениями.
Йена, 1 октября 1792 года
Первое письмо.
Итак, дорогой друг, вы остаётесь при своём мнении, что относительная культура ума в нашей нации снижается в протестантской её части, тогда как в католической – возрастает? Я мог бы спросить вас, приняли ли вы во внимание, приходя к такому заключению, с одной стороны, ту подлинную быстроту, что утрачивается с первым пылом, а с другой – кажущуюся медлительность, основанную на оптической иллюзии, которая становится заметнее в прогрессе разума – подобно движению солнца – пропорционально тому, как он поднимается выше над своим горизонтом? Но вы, по вашим заверениям, сравнивали прогресс разума у протестантов лишь с ним самим и обнаружили, что он не просто замедлился, но поистине отступает.
Множество фактов, коими заявляет о себе сие явление, в той перспективе, как вы изложили их в своём письме, не открывают никаких утешительных видов на будущее; и признаюсь, я не нашёл ни одного, против коего мог бы поспорить или хотя бы усомниться. Я воздержусь, однако, от всех возражений, кои мог бы выдвинуть против достоверности некоторых из этих фактов, ибо вы желаете, чтобы истинность вашего мнения оценивалась по совокупности всех их, а не по силе отдельных доводов.
Дабы показать, что я вас вполне понял, я извлеку ваши существеннейшие замечания из цепи фактов и умозаключений, коими вы сопроводили их в своём письме, и повторю их здесь своими словами.
С тех пор как (по вашему мнению) свободное применение разума в делах религии стало утрачивать для его прежних защитников обаяние запретного плода, прежнее рвение в борьбе за права разума сменилось равнодушием, которое уже то и дело переходит в ненависть и презрение и грозит завершиться всеобщим недоверием. Те, кто ещё не убеждён, что разум в наше время зашёл слишком далеко, по крайней мере, опасаются, что он выйдет за положенные границы, и либо ищут для него прежние произвольные пределы, либо изобретают новые.
Исключительное право разума решать вопрос о значении Библии – право, от признания коего зависит судьба всего протестантизма, – оспаривается ныне даже протестантскими богословами с таким рвением, что оно, должно быть, немало способствовало возрождению былых надежд и начинаний римских унионистов.
Апелляции от разума к чувствам, к здравому смыслу, к интуиции, к чувству Бога и т.д. становятся всё громче и чаще, и каждый из этих побочных трибуналов выносит решения против самых авторитетных положений первого.
Наука, из коей все прочие, относящиеся к собственно философии, заимствуют свои принципы, сия главная наука, всегда бывшая наиособейшим и наибеспокойнейшим поприщем разума, обращением с коей Лейбниц, Вольф и Баумгартен столько послужили благороднейшим достижениям нашего века, – словом, метафизика, – ныне пренебрегается до такой степени, что являет собою причудливейший контраст с притязаниями нашего века на почётное имя века философского. Подобно незначительной и обветшалой крепости, она брошена на произвол врагам религии и нравственности, против которых ещё недавно служила важнейшею защитою. Ревностные энтузиасты и хладнокровные софисты ныне, как никогда, заняты тем, что возводят вновь среди развалин сей науки старые системы суеверия и неверия.
Партии приверженцев естественной религии и сверхъестественного продолжают расширяться; и по мере того как они научаются всё искуснее владеть оружием, с коим прежде лишь боролись и которое ныне, кажется, хотят предоставить им в исключительное владение, они не только не изнуряют друг друга, но, напротив, обретают в борьбе новые силы, истощая силы человеческого разума в бесплодных учёных спорах и увековечивая старинный разлад между разумом и сердцем в мире нравственном.
Надежды благомыслящих людей на разрешение сего пагубного спора через посредничество разума исчезают по мере того, как сам сей разум в столь многих иных отраслях человеческого знания являет неслыханные доказательства своей действенности и мощи. Он, к коему никогда не взывали как к арбитру в малейших пустяках, всё громче осуждается как нарушитель спокойствия в важнейшем деле человечества; и в то время как его мнимая победа над старыми предрассудками оглашается криками торжества со стороны безбородых юнцов, – мужи зрелые восстают и при всём народе обвиняют его в государственной измене человеческому роду, доказывают, что он являет противоположное тому, что открывает Бог, и, сами того не ведая и не желая, точат зазубренное оружие суеверия и неверия.
Сравните наши академии наук и искусств с обществами публичными и тайными, которые под всевозможными наименованиями и предлогами стараются увековечить нашу незрелость и коих разрозненные усилия имеют целью прижать разум сразу со всех сторон – и судите, какое из сих двух столь противоположных видов объединений ныне более процветает и деятельно? Какое из них имеет более многочисленных членов, более ревностные порывы в своих предприятиях, более многочисленную и более отзывчивую публику?
Наконец, признав, что клерикализм и деспотизм, быть может, никогда не имели столь много поводов жаловаться на разум, сколь ныне разум имеет причин опасаться дурного от них обоих. Пока протестантская Реформация лишь устраняла те предрассудки, что противостояли свободе одного и произволу другого в рамках иерархической системы, она не имела против себя ничего, кроме неправильно понятых интересов обеих сторон. Но едва лишь она пойдёт дальше и утвердит принципы, рядом с коими не может устоять ни клерикализм, ни деспотизм, – нет ничего очевиднее, чем то, что оба они употребят все силы, кои даёт им их прежняя власть, дабы подавить глас своего врага. Вскоре у них не останется для сего иного предлога, кроме всё учащающихся злоупотреблений свободой печати и гласности, кои чинит наша пишущая толпа и кои под конец могут заставить даже самых благоразумных служителей религии и государства взирать на известные противоядия, уничтожающие свободу вместе с разнузданностью, как на меньшее зло.
Вы просили меня изложить вам моё мнение о вероятном исходе всех сих явлений, взятых вместе. Если я ныне признаюсь вам, что мнение сие прямо противоположно вашему, – я знаю, что утверждаю нечто для вас весьма парадоксальное. Но я знаю также, что пока на моей стороне ваше сердце, я тем скорее могу надеяться прийти к согласию с вашим умом.
В вашем письме достаточно хорошо описано то смятение, в коем пребывают ныне у нас дела разума в отношении религии; и сколь бы ни утратили свою определённость отдельные черты вашей картины в том наброске, что я сделал, я верю, что всякий внимательный наблюдатель нашего века найдёт в сём наброске и позднейшие события, к ней относящиеся, вместе с их виновниками, и некоторые свои собственные о них замечания. Каждое из отдельных явлений, в ней происходящих, само по себе могло бы меня более или менее встревожить; каждое из них заслуживает внимания всех друзей человечества, и большая часть их уже привлекла сие внимание. Но когда я рассматриваю их в совокупности, во взаимной их связи друг с другом, с их причинами и побуждениями, – я вынужден почитать их верными предвестниками одной из обширнейших и благотворней их революций, когда-либо совершавшихся в мире учёном и нравственном одновременно.
Поскольку причины и основания сих явлений отнюдь не могут быть найдены в одной лишь области богословия, мне, конечно, придётся употребить немалое усилие, дабы обосновать своё убеждение в противовес вашему. Мне надлежит будет сравнить упомянутые вами так называемые знамения нашего времени, кои все принадлежат к одному роду, поскольку касаются они религии, с иными явлениями, кои с равным основанием могут быть названы знамениями нашего времени, но кои, конечно, принадлежат к иным родам; словом, мне надлежит будет ответить на ваше описание состояния нашего просвещения в вопросах религии – картиною, предмет коей не менее обширен, нежели дух нашего века. Прежде всего, условиться надобно о том, в каком смысле желал бы я понимать сие столь двусмысленное и столь часто употребляемое выражение.
В силу вполне естественного способа представления – о котором даже знаменитейшие наши философы ещё далеки от согласия, следует ли объявить его простым заблуждением чувственности или нет, – место, обыкновенно отводимое «я», есть не что иное, как центр вселенной. Посему максимы и предрассудки той профессии или сословия, к коему принадлежит почтенное «я» и которое описывает ближайший круг вокруг сего центра, весьма часто именуют духом нашего века. Учёный по профессии обычно нарекает сим же именем господствующие мнения в своей области, а гражданин большого и утончённого света – вкус и тон своего круга. Первому редко удаётся достичь того, чтобы его систему приняли его собратья по цеху (Genossen), большая или лучшая часть коих настроена против него; тогда как второго, уверенного, что он поддерживает тон в своих кругах, если даже не задаёт его, – вряд ли уличат в противоречии.
Из этого можно понять, почему последний обычно находит l’esprit de son temps (дух своего времени) столь же просвещённым и приятным, сколь первый находит genium saeculi (гений века) извращённым и отвратительным.
Я возвышаю дух нашего народа до уровня его души, которая, конечно, в известном смысле рассеяна по всему телу, но пребывает исключительно в том разряде умов, который мы предпочтительно называем мыслящим. Этот разум, следовательно, не привык ни притуплять силу мышления односторонней тренировкой памяти, ни погружать воображение в вечную дремоту грёзами, ни – что всего важнее – пробуждать его игрою остроумия.
Для вас, дорогой друг, привыкшего оценивать истинную ценность как наций, так и отдельных личностей, по характеру и степени их жизненных сил, не может быть безразлично знакомство с той точкой зрения. С неё открывается возможность с первого взгляда обозреть мыслительную силу нашей нации в её наивысшем напряжении, в её уникальных проявлениях и в самом разнообразии её устремлений.
Возможно, моя попытка отыскать такую точку зрения не будет для вас нежелательной, особенно как слово для своего времени.
Мы вступаем в последнее десятилетие века, который я не считаю выдающимся лишь потому, что он – наш. И всё же для Германии он является поистине особенным – но не в каком-либо ином отношении, а благодаря небывалому расцвету духа, значительному прогрессу, достигнутому нашей нацией во всех областях науки и искусства, и тому важному положению, на которое она вознеслась среди своих старших культурных сестёр.
Сохранит ли она сие положение и в какой мере; останется ли, подобно каждой из своих сестёр, на некоем определённом уровне или вознесётся выше, до достоинства школы для остальной Европы, – должно решиться главным образом в сем десятилетии.
Что решение сие действительно должно произойти в сей период и чем оно обернётся, можно (но и необходимо) выяснить лишь на основании общего обзора явлений, характеризующих современное состояние наших мыслительных способностей в целом.
Ярчайшей и уникальной характеристикой духа нашего века является ниспровержение всех существовавших систем, теорий и представлений – явление, чьи масштабы и глубина не имеют прецедентов в истории человеческого разума.
К этой основной черте можно отнести самые разнообразные и даже противоречивые признаки нашего времени. Все они, с одной стороны, свидетельствуют о небывалом стремлении к созиданию новых форм повсюду, а с другой – об упорном желании сохранить всё старое.
Вытеснит ли в конце концов старое новое, или последнее – первое; выиграет ли от сего человечество, и если да, то что? Беспристрастный мыслитель, как правило, не решается решать, ибо не находит ни старые формы столь бесполезными, ни новые столь удовлетворительными, как провозглашают то фанатики с обеих сторон, кои, смотря по безусловной приверженности своей к старому или новому и по восторженным надеждам своим или опасениям, пророчествуют человечеству счастье или несчастье, исходя из духа нашего времени.
Тем не менее, человек, мыслящий самостоятельно, менее всего может удержаться от вопроса: откуда возникла сия странная суматоха и что из неё должно произойти? Удовлетворительный ответ на сей вопрос предполагает исследование, кое возвышается над ограниченной сферой зрения отдельных субъектов, прослеживает силу мысли через благороднейшие области её деятельности, извлекает из каждой из них любопытнейшие случаи и помещает их все под точку зрения, в равной мере удалённую от точки зрения восхваляющих и порицающих наш век. Педант судит о прогрессе человеческого разума согласно своему представлению о конкретном состоянии отдельного предмета, коей он рассматривает и коей по сей самой причине в его очах есть важнейший из всех. Он желает человечеству счастья или сетует о нём; смотря по тому, что, по его мнению, теология, юриспруденция, наука государственного управления, военное дело, философия и т.д. – находятся либо в расцвете, либо в упадке. Откуда ему ведать, что даже истинное состояние его предмета может быть верно оценено лишь по отношению его к состоянию человеческого разума и его потребностям, как и вся ценность самого предмета может быть верно оценена лишь по отношению его к действительной судьбе человека (которая, однако, не должна быть ни предположительной, ни смутно предполагаемой, но признанной)? – Переворот, о коем здесь речь, проявляется не только в состоянии наук, но и во всём, на что влияет сила мысли, и везде прямо пропорционален величине сего влияния. Он простирается вплоть до европейской цивилизации, с тою лишь разницей, что здесь проявляется в едва заметных колебаниях, а там – в сильных потрясениях. Во всём сём объёме он составит некогда главную картину в истории человеческого духа, коую внуки наши будут рассматривать с восхищением. Но сия огромная сцена разнообразных, отчасти ослепительных, отчасти незавершённых событий находится слишком близко к оку современника, дабы мог он уловить отдельные части их в действительном их соотношении с великим целым. Истинная роль, которую сила мысли играет в причинах события, – роль, определяющая его важное место в общей картине истории, – может быть вычленена из постороннего влияния внешних обстоятельств лишь тогда, когда событие окончательно созреет и обретёт свой определённый характер для всемирной истории через собственные последствия. Тогда многие тихие, едва заметные перемены, носящие на себе печать самодеятельности духа нашего, являющиеся следствием лучших прозрений, распространяющие и пропагандирующие лучшие прозрения, – займут место гораздо выше блестящих и чудесных революций, в коих одна случайность опрокидывает обветшавшие государственные устои, а другая вновь собирает руины по своему собственному разумению. Тогда лишь можно будет с уверенностью сказать, было ли и в какой мере высшее знание о правах и обязанностях человека причиной или следствием тех событий, кои мы уже привыкли называть феноменами Просвещения, отчасти в хорошем, отчасти в дурном смысле. Тогда лишь можно будет показать, являются ли следствиями одного и того же Просвещения и в какой мере: подавление иезуитов, сокращение числа монахов и падение репутации монашества в ряде католических государств, ограничение престижа, власти и доходов римского епископа почти во всём католическом мире, веротерпимость, священство и публичность в австрийской монархии, отменяемая время от времени смертная казнь, отмена крепостного права, ограничение барщины, Североамериканская, Французская, Голландская революции и т.д. – или нет.