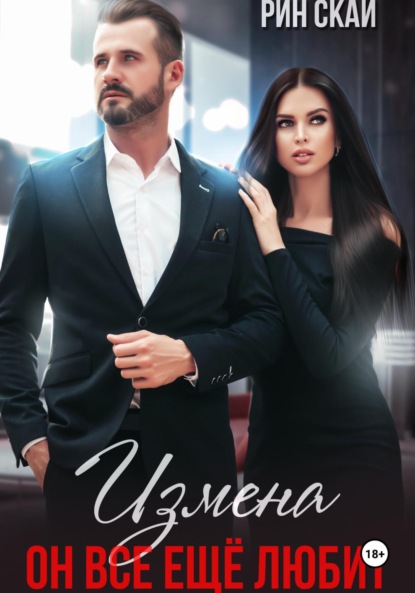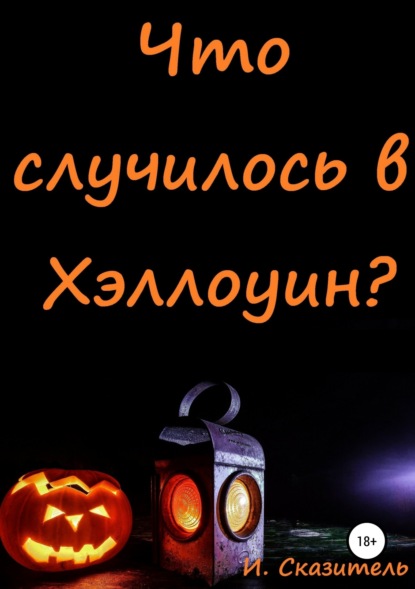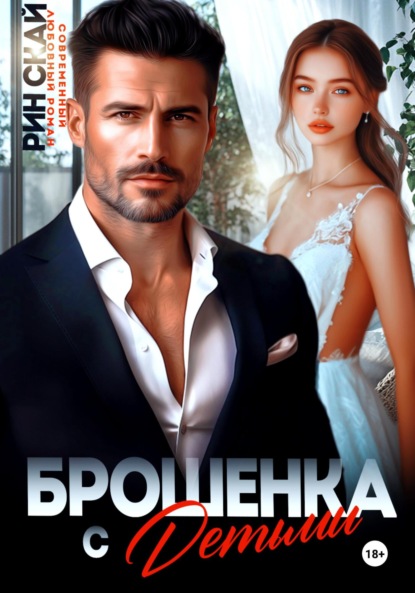Письма о кантовской философии. Том 1
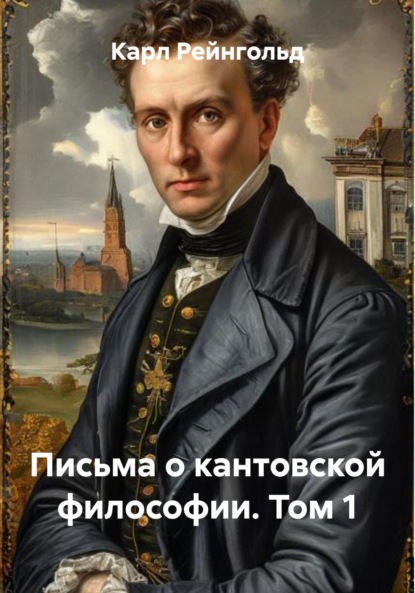
- -
- 100%
- +
Уже можно сказать нечто более определённое о нынешнем перевороте форм мировоззрения в нашем немецком отечестве; не только потому, что его легче обозреть в целом благодаря более ограниченной сцены, но и потому, что выражается он здесь главным образом в области науки, где происхождение его из силы мысли, под коей в самом строгом смысле подразумевается феномен разума, может быть менее двусмысленным.
Из всех прочих европейских государств Германия наиболее склонна к революциям духа и наименее – к революциям политическим. Благодаря своему удачному устройству мы более, нежели какой-либо иной великий народ, ограждены от пагубнейшей из всех болезней политического тела, заключающейся в чрезмерном богатстве меньшинства и чрезмерной бедности большинства граждан. Ни избыток удачи не возбуждает властолюбия у вельмож; ни избыток бедствий не побуждает народ к мятежу; и разумная сила нации в целом остаётся неподвластной ни одному из сих противоположных зол. Никакой капитал не ускоряет и не ослабляет, словно в теплице, плоды духа нашего, кои, предоставленные самим себе на вольном воздухе, расцветают медленнее, но энергичнее. Конечно, мы никогда не переживём золотого века нашей литературы, как Италия при Льве X, Франция при Людовике XIV, Англия при королеве Анне, – но мы и не переживём его упадка. Прогресс наш тем значительнее, чем менее он привлекает к себе внимания. Не только соседи наши, привыкшие оценивать нас превратно, но и мы сами едва ли замечаем, что ни один народ не трудился над науками в целом в таком объёме, с таким рвением и с таким счастливым успехом, как ныне трудится наш. Это тем очевиднее, что все без изъятия области науки культивируются с примерно равным усердием, поскольку связь каждой науки с прочими становится всё заметнее, а следственно, возрастает и строгость требований, кои научился предъявлять человек к практикующему специалисту в каждой из них. Не успеет один достичь чего-либо весьма значительного, как является другой, дабы обратить внимание на вещи куда значительнейшие, коих достичь ещё предстоит. Ни в одном предмете мы не имеем господствующей системы, на кою всеобщие аплодисменты поставили бы клеймо действительного или мнимого совершенства.
Повсюду утверждаются и защищаются старые идеи, выдвигаются новые, против коих ведётся борьба. Здесь указывают на существенные недостатки учения, доселе излюбленного, тщетно желая заменить его совершенно новым, ибо кто-то иной уже осветил неверно оценённые достоинства старого, упущенные в новом. С новыми исправлениями и открытиями множатся новые противоположные теории, кои тщетно оспариваются как совершенно несостоятельные и тщетно защищаются как всеобще верные. Ни одна из них не может претендовать на разрешение всей проблемы науки, равно как и не может быть осуждена своими оппонентами за то, что не предоставила никаких полезных данных для сего разрешения.
При всей нерешительности современного состояния наук наших, влияние их на прочие человеческие дела, и особенно на принципы управления, пожалуй, никогда не было столь заметным. Влияние сие тем менее двусмысленно, чем очевиднее становится колебание между старым и новым, характеризующее состояние научной культуры нашей. Один князь, философским взором своим обнаруживший ошибки в позитивной теологии, на коей основана господствующая религия народа его, – непоследовательность и вредность коей признают даже знаменитейшие богословы страны его, – выставляет сию теологию на всеобщее обозрение. Другой же, взирающий на сие более очами государственного мужа и, сверх того, ведающий, что философы нации его спорят о необходимости позитивной и недостаточности естественной религии, – защищает старую доктрину народной религии от всех публичных нападок. Свет, пролитый в последнее время на такие области, как искусство управления, государственная экономика и проч., достигает трона и просвещает правителя касательно существенных недостатков формы правления и управления делами страны его. Он отменяет старую конституцию и заменяет её новою – без и даже вопреки воле народа, и при сём почитает, что не только не нарушил прав последнего, но что не сделал ничего, кроме долга своего; ибо высшею причиною долга своего как регента почитает он пользу государства, кою, по мнению его, понимает он лучше, нежели недовольные подданные его.
Стал бы он, – если предположить, что истинно желал добра народу своему, – поступать так или даже помышлять так, если бы ему противостояло общее убеждение или если бы даже знатоки права были согласны с неотъемлемыми правами человечества и с принципом, «что права сии ни в коем случае не могут определяться полезностью (ни общей, ни частной), и что соображения полезности могут применяться лишь тогда, когда вопрос о праве уже решён»? Если здесь один правитель отменяет крепостное право крестьян, а к подданным своим относится как к наследственной собственности; если там другой желает воздать должное человечеству, отменив пытки и смертную казнь, а сам низводит их до скота, назначая за преступления наказания совершенно произвольные, капризные и бесчеловечные; если третий признаёт неотъемлемое право подданных своих верить в то, во что могут они верить, в то время как объявляет сие право даром милости своей, а пользование им – простою терпимостью, кою дарует он мнениям неблагим во имя единственно блаженного мнения; если четвёртый, под именем свободы слова, предоставит каждому право сообщать другим убеждения свои по мере знания и совести его, а обнародование тех убеждений, что противоречат символическим книгам, будет жестоко карать как дерзость (и т.д.) – было бы столь же несправедливо по отношению ко всем сим правителям приписывать вторую половину противоречивого поведения их слепому следованию обычаю старому, как и первую – …простой жажде новизны, и не признать, что они могли бы привести мнения равно известных авторов в защиту как одной, так и другой точки зрения, и что действовали они всецело в духе своей эпохи, поскольку последний определяется даже состоянием наук.
Насколько характерное для сего духа сотрясение старых и новых способов мышления распространяется по полю человеческого знания, настолько же незаметно оно в отдельных областях сего поля. Закон, по коему оно увеличивается и уменьшается, можно определить по большей или меньшей доле, кою способность мыслительная, именуемая разумом, имеет в содержании и форме той или иной науки. Тот, кто не знает сей доли достаточно определённо, может ориентироваться лишь по нарастающему шуму и всё более густым облакам пыли, и вскоре убедится он, что центр возмущения лежит в области метафизики, а граница за пределами её определяется областями математики, естествознания и описания природы.
Та наука, коя, согласно определению её, как воплощение первых оснований человеческого знания, как система общих предикатов вещей вообще, как наука о принципах всего человеческого знания, должна бы занимать место выше всех прочих, – ныне до того поколеблена, что отказано ей не только в сем звании, но даже в названии науки. И сталкиваются с сим не только одни критики или так называемые кантианцы (последователи нового способа философствования, коей доселе находил поддержку у весьма немногих и опровергался знаменитейшими философами времени нашего), но даже две партии из четырёх, к коим можно отнести все прежние концепции философии. Догматик-скептик отрицает правомерность применения метафизических предикатов к реальным объектам вообще; сверхнатуралист же желает, чтобы ограничены они были лишь миром чувственным или, как предпочитает он выражаться, естественными объектами, а возможность применения их к объектам сверхъестественным выводилась из откровения; оба согласны в том, что метафизика есть самое беспочвенное умозрение разума, неверно оценивающего свои силы. То, что уступают ей две другие партии (материалисты и спиритуалисты), признавая её наукою истинною, – они вновь отнимают у неё, делая науку сию общим основанием доктринальных построений своих, находящихся в прямом противоречии, и, демонстрируя материализм и спиритуализм, деизм и атеизм, фатализм и детерминизм из одной и той же онтологии с равным мастерством, по крайней мере в очах зрителей беспристрастных, – выставляют научный характер сей онтологии в свете весьма двусмысленном.
Одна из сих партий состоит по большей части из публичных преподавателей философии; из тех, кто занимается наукой сей как гражданской профессией и кто, поскольку поклялись и обязаны читать лекции об основных истинах религии и морали, нередко полагают, что обязанность сия распространяется и на традиционную для гильдии их форму лекций. Они объявляют метафизику материалистических, фаталистических и атеистических оппонентов своих неглубокой, давно опровергнутой и недостойной имени науки, кое уступают они лишь той интерпретации метафизических формул, на основе коей, по мнению их, могут быть продемонстрированы фундаментальные истины религии и морали. Но сколь бы ни были многочисленны и в некоторых случаях искусны умы, кои в многочисленных университетах наших и вне оных занимались разработкой сей метафизической науки; сколь бы ни были они согласны меж собой касательно реального её существования; сколь бы ни был каждый из них твёрдо убеждён, что установил оную в компендиуме своём, – всё же ни один из сих людей до сей поры не представил метафизики, коя, не говорю – выдержала бы проверку иных партий, но удовлетворила бы даже требования партии собственной его. Ни одна из них не состоит, как можно было бы ожидать от науки о первых основаниях знания, из положений, с коими согласились бы даже сами профессора; каждая из них была опровергнута более нежели в одном из существеннейших утверждений своих даже в метафизических сборниках. Далеко не всегда обладатели и культиваторы науки сей мыслят одинаково даже о первом её принципе; посему во многих известных и популярных учебниках нет даже упоминания о сём важнейшем условии всякой науки. В иных, по обычаю старому, логика лишена первого принципа своего, а метафизика им снабжена. В иных, наконец, смешивают принцип с причиной и отсылают читателей, любопытствующих о последнем мыслимом основании метафизических предикатов, то к опыту, то к врождённой системе некоторых истин. В той же мере, в какой человек сей занят возведением ботаники, минералогии, химии в систему, он позволяет метафизике опуститься до совокупности бессвязных, двусмысленных формул, в коих то, что должно быть доказано, принимается за общепринятое, а то, что не требует доказательств, – доказывается. Один делает вид, что скрывает систему метафизики своей, кою сам знает лишь по смутной интуиции, под обличьем рапсодическим; другой же, с гением силы в поэзии, отвергает все правила, даже исходящие от разума его собственного, как сковывающие разум, и высмеивает все системы вообще.
Поскольку метафизическое предложение может иметь истину лишь через связь с универсально обоснованными основаниями знания и через сведение его к универсально обоснованному принципу, возможному для всех, – легко понять, что популярные метафизики наши в университетах, посредством так называемой либеральной формы, коей думают они сделать науку более общедоступной, готовят, насколько им ведомо, крах её несомненный. Успех сей ускоряется позднейшими и лучшими трудами тех мыслителей-самоучек, кои, рассматривая метафизические предметы умом, свободным от всех ограничений профессии академической, с великой проницательностью и красноречивым изложением, должны, кажется, навязать себя метафизике. Поскольку сии люди, сами того не сознавая и не желая, в той же мере, в какой отдаляются от одной из четырёх неизбежных доселе философских партий, тем теснее примыкают к другой, причём, как правило, к противоположной, или даже становятся во главе оной; поскольку тот, кто желает избегнуть спиритуализма, высказывается в пользу материализма (коей ныне наиболее приятен в последовательной концепции Спинозы); поскольку противник материализма и спиритуализма размышляет об очищенном сверхъестественном, а иной, не находя ответа удовлетворительного на все сии философские темы, разрубает узел скептицизмом догматическим: – каждый из сих писателей, в той мере, в какой ставит он великие вопросы о Боге, свободе и бессмертии, о правах и обязанностях человечества в свете более оригинальном, вносит тем большую путаницу в область онтологии. Чем более мыслит он самостоятельно, чем более принимает метафизические формулы, используемые всеми сектами, в значениях, тем резче отличающихся от всех известных доселе; чем более оспаривает формулы, общими не являющиеся и кои, например, принимаются лишь философами университетскими, – тем сильнее подрывает он принципы, искажает точку зрения и ослабляет престиж науки о первых основаниях знания.
Не следует ли из этих обстоятельств вполне удовлетворительно объяснить, почему даже среди подлинно философских умов всё более растет число тех, кто громко и открыто объявляет изучение метафизики бесполезным и даже пагубным занятием? И не оскорбим ли мы тем самым наш век, если станем объяснять это явление свойственной ему мелкостью ума, не задаваясь вопросом: не является ли эта самая мелкость, там, где она действительно встречается, отчасти следствием того состояния, в котором оказалась наука, призванная служить основой для всех прочих?
Дальнейшее рассмотрение нынешних конвульсий в других областях знания покажет, что потребность в главной науке, от которой все остальные могли бы ожидать твёрдых – отчасти руководящих, отчасти основополагающих – принципов, независимо от того, называется ли она метафизикой или нет, никогда не была столь всеобщей и столь настоятельной, как в настоящее время; и что, следовательно, презрение, с которым относятся к метафизике, проистекает из несбывшихся ожиданий, которые эта наука во все времена порождала своими грандиозными обещаниями и которые никогда не были столь очевидны, как в последнее время, когда мыслящие умы со всех сторон оказались вынуждены верить метафизике на слово больше, чем когда-либо прежде.
Прочие науки затронуты [этим кризисом] более или менее сильно, в зависимости от того, насколько их область удалена от собственно метафизики, и в этом отношении можно предположить, что они следуют друг за другом примерно в таком порядке: рациональная психология, космология и теология, философия религии (наука об основании наших ожиданий относительно будущей жизни); теория вкуса, мораль, естественное право, позитивная юриспруденция и теология [практическая?], и, наконец, история в самом узком смысле слова. Первые три, непосредственно связанные с метафизикой и обычно даже рассматриваемые как её части, разделяют с ней имя и судьбу; история же обязана своим более спокойным владением [предметом] и менее спорным расширением и совершенствованием своей обширной области – своей удалённости от эпицентра брожения. Успех недавних попыток реформировать позитивное богословие и юриспруденцию был тем значительнее, чем лучше реформаторы этих наук научились использовать их соседство с историей. Точно так же, с другой стороны, все попытки лучших умов прийти к согласию относительно первых принципов морали и естественного права потерпели полную неудачу, поскольку при разработке понятий, предполагаемых этими принципами, нельзя было обойтись без соседства с метафизикой. Наконец, поскольку в основании философии вкуса и религии постоянно колеблются между данными опыта и метафизическими понятиями, до сих пор не достигнуто согласия даже по вопросу о том, относится ли высшее правило вкуса и первый принцип фундаментальных истин религии вообще к числу познаваемых проблем.
При таких обстоятельствах репутация истории возрастает в той же пропорции, в какой падает репутация метафизики, причём они никогда не противопоставлялись друг другу так резко – не только в отношении их объектов, но и в отношении их достоверности, полезности и влияния. Профессиональные философы возводят историю на трон бывшей царицы наук и воздают ей дань уважения также от имени философии, как истинной науке о первых основаниях всего человеческого знания. «Природа, – говорят они, – которая всегда остаётся одной и той же и всегда согласна с собой, в то время как метафизика получает новую форму от каждого своенравного мыслителя и беспрестанно спорит со своими адептами, – природа есть истина, которая так же мало открывается чистому разуму метафизика, как и грубой чувственности неразумного дикаря. Она громко и внятно говорит голосом истории, через которую она призывает здравый смысл вернуться с пустых просторов спекуляции на арену реального мира, где она раскрывает свои законы – единственные, которые могут быть названы всеобщими принципами, – через свои творения и действия».
Но как бы единодушно наши философы-эмпирики ни ссылались на природу и историю, о чём бы они ни говорили, как о важной для человечества задаче, они едва ли могут прийти к согласию между собой, когда им приходится отвечать на вопрос: что они понимают под природой и в какой области истории следует искать данные для решения такой задачи? То есть когда они не могут ни уклониться от этого вопроса с помощью искусного оборота речи, ни, как это обычно бывает, отмахнуться от него как от метафизического умствования.
Лишь немногие из тех, у кого так часто на устах слова «природа» и «история», задумываются об их значении. Они находят это тем более излишним, чем привычнее для них стали эти слова, двусмысленность которых так удобна для тех, кто привык задействовать более память и воображение, нежели разум. Тот, кто разучился мыслить из-за неумеренного поиска и накопления материалов для мысли, хватается непосредственно за природу или, вернее, за своё смутное представление о ней, которое всегда достаточно обширно и неясно, чтобы вместить и скрыть любое противоречие, которое хочется втиснуть в его рамки, – касательно тех оснований видимости, которые он не может извлечь из собранных им материалов с помощью любого из своих пяти чувств.
Какая же разница между предметами и науками, которые эмпирик объединяет под именами природы и истории! Между сведениями, получаемыми так называемой естественной историей через описания минералов, растений и животных, которые время от времени значительно пополняются благодаря искусственным опытам анатомии и химии; между сведениями, получаемыми антропологией о человеке как природном явлении – рассматривает ли она его в рамках наблюдательной теории души как явление внутреннего чувства или в физиологии как явление внешнего чувства – и, наконец, между выводами, которые наука, обычно обозначаемая одним словом «история» (когда оно употребляется без дополнения), делает о человеке в отношении его гражданской и нравственной культуры!
Разница между успехами истории в последнем смысле и истории, понимаемой как естественная история и антропология, не меньше, чем разница между двумя значениями этого слова, которые наши эмпирики обычно смешивают, превознося достоверность истории как основы философии. В то время как минералогия, ботаника, зоология, анатомия, химия, физиология и эмпирическая психология постоянно получают новые результаты без споров и вносят их в сокровищницу человеческого знания как несомненные приобретения, – ни одно из решений великих вопросов о правах и обязанностях людей в этой жизни и об основаниях их ожиданий относительно жизни будущей, которые противники метафизики утверждают, что нашли в истории, ещё не стало общепризнанным даже среди них самих. Если же принять во внимание, как мало историческая критика сама с собой согласна в оценке как необработанных, так и уже обработанных материалов собственно истории, в вопросе о достоверности исторических документов и авторов; и как мало философия истории сама с собой согласна относительно формы и основных законов разработки этой науки, – то отсюда следует, что в области истории, то есть в той самой области, на незыблемом фундаменте которой позитивные теологи и юристы строят свои усовершенствованные доктрины, а эмпирические реформаторы морали и естественного права – свои принципы, также происходит потрясение, которое, хотя в целом и менее заметно, не менее значительно, чем потрясение в самой метафизике.
Но оно непременно станет более заметным в той же пропорции, в какой наша историческая критика перестанет быть просто совокупностью неопределенных и последовательно бессвязных замечаний и будет все больше приближаться к той систематической форме, от которой она в настоящее время так далека. Чем более стройными и определенными станут те, до сих пор мало разработанные, требования, которые эта наука предъявляет к историкам и историографам, тем больше будет накапливаться сомнений в надежности материалов истории, над которыми до сих пор работали, и тем реже и с большими ограничениями будет приниматься авторитет существовавших до сих пор историографов.
В наибольшей степени это относится к самому благородному, самому поучительному, самому важному для философии материалу, который может предложить история, а именно к тем событиям, которые имели свои мотивы в умах и сердцах людей и на изображение которых влияют иногда страсти, иногда принципы, но всегда – особое воображение рассказчика. Значительное число исторических рассказов о таких деяниях великих и выдающихся людей уже дискредитировано более поздними исследованиями, и вследствие этого становится все более очевидным, что человеческая природа была неверно оценена в той самой мере, в какой привыкли судить о ней по таким рассказам.
Какие важные перемены ожидают целые области истории в тот момент, когда прогресс исторической критики предъявит право на доселе неоспоримые документы и решит споры о доселе спорных! Не только историки, но даже богословы по профессии отнюдь не согласны с единым определением исторической ценности священных документов; и даже те, кто считает эту ценность установленной, делают противоположные выводы из этих памятников, столь важных для истории человечества, – в зависимости от того, рассматривают ли они их взглядом разума, предоставленного самому себе, либо сверхъестественно просвещенного.
Чем более умножаются материалы истории, а вместе с их обработкой множатся точки зрения, придающие внутреннюю форму каждому историческому сочинению, которое должно быть больше, чем компиляция, тем заметнее становится смущение наших мыслящих умов относительно высшей, общей точки зрения, которая должна объединить под собой все частные и отвести каждой свое особое и постоянное место. То, что потребность в такой точке зрения ощущается и что даже предпринимаются попытки удовлетворить ее, столь же очевидно из недавних опытов изучения истории человечества, как и из того факта, что такая точка зрения до сих пор не найдена.
Лишь история человечества как единого целого может и должна служить основой для любой попытки реформировать современное состояние всех частных историй.
Только она способна исправить узость и односторонность точек зрения, из-за которых, например:
один историк, руководствуясь церковными воззрениями, работает в пользу сверхнатурализма, а другой – натурализма;
один – в пользу католицизма, другой – протестантизма;
один в своей истории государств – в пользу деспотизма, другой – власти князей;
один освещает религиозные системы, а другой – государственные конституции исключительно в том свете, который исходит от «подсвечника» высокого духовного или светского сана его отечества.
Но как история человечества может исправить эти недостатки, пока ее собственные творцы не согласны даже относительно определенного понятия о ней, пока значения выражений «история человечества», «всемирная история», «история культуры», «история человеческого разума» и т. д. непрерывно перекрещиваются друг с другом; более того, пока нет даже согласия относительно отличительной черты человечества?
Напрасно наши эмпирики утверждают, что определенное понятие об этой важной характеристике [человечества] должно быть установлено путем самого изучения истории. Это исследование в такой мере невозможно без него, что оно, напротив, предполагает его как уже данное для возможности и всякого, хотя бы отчасти успешного, его успеха. Именно это понятие является основополагающим правилом, которым может и должен с уверенностью руководствоваться исследователь этой истории – не только при обработке, но даже при выборе предмета своего исследования. Ибо только с его помощью можно определить, какие именно факты из необозримого материала, рассеянного по полям всех частных историй народов, государств и т. д., должны составить содержание общей истории человеческого рода как такового.
О нехватке этого понятия достаточно красноречиво свидетельствуют как наши компиляции, так и рапсодии [Rhapsodien – здесь: бессистемные собрания], в которых фрагменты из естественной истории животного мира человека, соединенные с предположениями, основанными на недостоверных данных истории гражданской культуры, религии и философии, едва достигших своего завершения, называются «историей человечества» и превращают значение слова «человечество» в проблему, столь же трудноразрешимую для любого вдумчивого читателя.