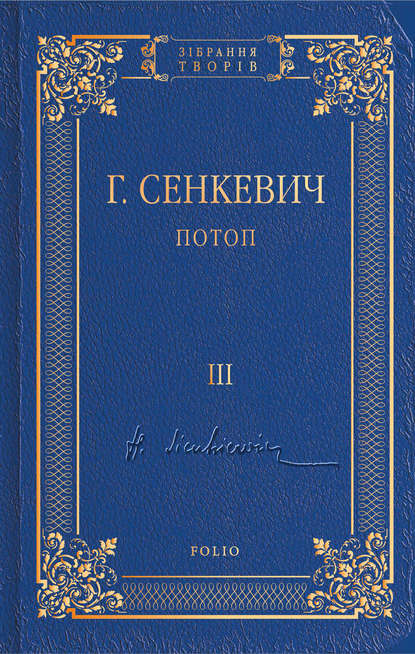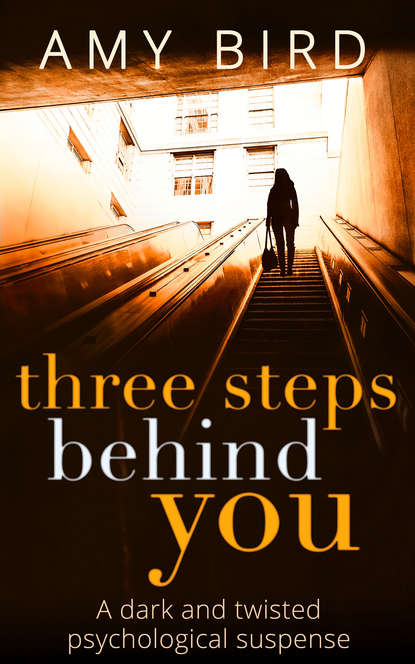Письма о кантовской философии. Том 1

- -
- 100%
- +
Поскольку нить, на которую каждый из этих авторов истории человечества нанизывает свои события, определяется только самими этими событиями, точнее, их отбором и расположением, нет ничего более естественного, чем то, что у каждого из них появляется совершенно иная нить. Здесь – постепенный, в целом непрерывный прогресс к нравственному совершенству; там – ход развития человеческих сил, который движется по ряду кривых линий, то вперед, то назад, и направление которого зависит только от внешних обстоятельств; там, наконец, – вечный круг в отношении совершенства и счастья, в котором пренебрежение одной способностью всегда должно компенсироваться развитием другой, а уменьшение чувствительности – увеличением разума.
Каждое из этих мнений мыслители примерно одного ранга считают очевидным результатом истории человечества; и каждый защитник одного из них обвиняет приверженцев других мнений в том, что они привнесли в историю свои собственные, а факты лишь подобрали и расположили в соответствии со своими произвольными предвзятыми представлениями.
Причина этого спора, до решения которого мы ни в коем случае не можем похвастаться наличием действительной истории человечества, кроется в недоразумении, которое полностью скрыто от спорящих сторон, поскольку оно касается пункта, по которому они считают себя полностью согласными или который они вовсе не хотят рассматривать как метафизический вопрос; я имею в виду неопределенное, двусмысленное, колеблющееся понятие о разуме и его отношении к животной природе. Поскольку это понятие касается особого характера человечества, только через него может быть установлена высшая точка зрения, благодаря которой возможна внутренняя форма истории человечества в целом, а через нее – и каждой отдельной истории. Эта точка зрения не может быть результатом истории, которая ее presupposing ["Presupposing" и "presupposes" оставлены как калька для важного философского понятия, которое Рейнгольд заимствует у Канта.], которая должна ее объяснить и подтвердить, но не может сначала ее установить. Данные, на основании которых только и можно ее определить, могут быть даны нам только в нашем сознании и через него, и обнаружить их можно только путем анализа наших простейших способностей познания. Искать их в истории вне нас самих – значит давать очевидное доказательство того, что мы не знаем, что искать.
Общие законы интеллектуальных сил могут быть определены историей не в большей степени, чем общие законы физических, и как научное познание природы движения совершенно невозможно без математики, так и определенное знание особого образа действия разума presupposes науку, которая должна быть не менее отлична от истории, чем математика.
Поэтому указанные мною беспорядки в области истории должны либо продолжаться вечно, либо привести к открытию и признанию той науки, из которой должна исходить высшая точка зрения на всю историю в целом с общими доказательствами; и все попытки придать философии лучшую форму посредством истории должны быть совершенно напрасными, поскольку история может получить свою форму лишь посредством одной философии, но, конечно, только тогда, когда сама философия сначала будет иметь установленную форму.
Второе письмо.
Назрела необходимость в высшем правиле вкуса, руководящих принципах для позитивного богословия и юриспруденции, но прежде всего в первых принципах естественного права и морали.
Отсутствие неизменных и общезначимых фундаментальных принципов не так бросается в глаза в произведениях вкуса, как в произведениях исторического искусства.
У нас, да и, пожалуй, у всех наших культурных соседей, гораздо больше поэтов, чем историков классической ценности; и если бы и тех, и других судили одинаково строго в соответствии с целями их искусства, последние, возможно, все же оказались бы далеко позади первых.
Эстетическая критика также разрабатывалась у нас с несравненно большим рвением и с большим успехом, чем историческая. Благодаря изучению, а еще более – благодаря наслаждению старыми и новыми шедеврами изящных искусств в самом широком смысле этого слова, Германия наконец-то постепенно приобрела то, чего ей совершенно не хватало в начале нашего века и к чему, как считается, она и сегодня не слишком склонна, – художественный вкус; и, если быть точным, чувство вкуса, которое, несмотря на то, что искусство может обоснованно возражать против некоторых отдельных его проявлений, в целом является таким же подлинным, как и у лучших наших соседей, и которое не только не уменьшилось за последние десятилетия, но, бесспорно, возросло в утонченности так же, как и в широте распространения.
Немалое число немецких ученых уже не считает ниже своего достоинства серьезно заниматься даже изящным; наши филологи больше не прославляются вариациями, грамматическими догадками и домыслами; они сами нередко берут на себя обязанность обуздывать тех не в меру ретивых, кто все еще забывает среди мертвых букв старых классиков дух, живущий в вечно цветущих красотах этих самых книг.
Даже необразованные люди все больше и больше знакомятся с этим духом благодаря переводам, которые намного превосходят все, чем обладают другие народы, и которые, возможно, наиболее наглядно показывают, что стало с нашим родным языком, еще недавно таким грубым и неотёсанным, под пером наших великих поэтов и прозаиков.
Подлинные же произведения [искусства] устремлены к самому превосходному, что осталось нам от золотого века Рима и Греции, и, как представляется, постепенно исчерпывают все формы красоты. Насколько они востребованы нашей читающей публикой и как далеко простирается эта публика среди всех классов, уже можно судить по огромному и постоянно увеличивающемуся количеству переизданий, число которых в случае некоторых из этих произведений превзошло бы всякое ожидание.
Кто теперь измерит благотворное влияние хотя бы одного писателя, который, будучи поэтом, философским мыслителем и ученым высокого ранга, соперничая с самим собой, в своих многочисленных и широко читаемых произведениях соединял бы высокую ясность и силу мысли с тончайшей деликатностью чувства, а в своем чарующем языке – римскую изысканность с аттическим изяществом? Наши живописцы, скульпторы и художники все охотнее соревнуются с иностранцами за симпатии публики ровно в той же мере, в какой они могут все больше рассчитывать на участие зрителей и на компетентных судей их похвальной борьбы среди своих соотечественников.
Великие и богатые, возможно, более довольны своими собраниями [произведений искусства], чем любая другая нация, и делятся с публикой наслаждением от шедевров иностранного и местного искусства в своих открытых художественных галереях. Более существенные красоты произведений живописцев, скульпторов и искусства керамики воспроизводятся в гравюрах на меди, гипсовых слепках и литографических оттисках, попадая в руки среднего класса; и это сословие, которое в некотором отношении является высшим на ступенчатой лестнице человеческого достоинства, в настоящее время превосходит того, кто стоит выше него по ступеням гражданского звания, больше в пышности, чем в культуре.
Мы могли бы, наконец, даже обратиться к формам нашей одежды и нашего домашнего убранства, к внешней стороне наших нравов, привычек и тону нашего обращения, чтобы снять с себя обвинение в безвкусии, которого мы в высокой степени заслуживали еще недавно. Если те искусства, которые не могут обойтись без внешнего поощрения и поддержки капиталом, – как-то: живопись, скульптура и родственные им и подчиненные им искусства, – достигли в нашей стране менее значительных успехов, чем поэзия, и более слабых, чем в Италии, Франции и Англии, то эстетическая критика достигла в нашей стране тем более важных успехов; и если наша нация все еще далека от того, чтобы быть арбитром над всеми другими в вопросах вкуса, то причина этого, конечно, не в том, что мы недостаточно продвинулись в научной критике вкуса.
Германия является родиной и воспитательницей так называемой эстетики, или науки, которая определяет принципы, лежащие в основе всей критики вкуса, и выстраивает их в систематическом порядке. Даже если многочисленные попытки, которые мы до сих пор демонстрировали в этой науке, не добавили многого к первой идее её основателя [Баумгартена], то никакая мыслящая голова не сможет отрицать заслугу наилучших из них в том, что они подвели под общую точку зрения, упорядочили, объяснили и исправили множество самых важных мыслей, рассеянных в эстетических рапсодиях итальянцев, англичан и французов. Плодотворность принципов Баумгартена проявляется не только в общих теориях, прямо на них основанных, но – в гораздо большем количестве и в более ярком свете – во многих проницательных и практических замечаниях, которыми наши Лессинг, Энгель и другие обогатили материалы для будущих специальных теорий отдельных жанров поэзии и которые, конечно, всегда можно проследить в отдельных случаях, но, вероятно, по большей части могут быть выведены [из принципов] при условии наличия путеводной нити руководящих принципов. Одна из наиболее однозначных характеристик нашего прогресса в критике вкуса состоит в том, что мы все больше признаем: наша эстетика со всеми ее неоспоримыми преимуществами перед зарубежными тем не менее все еще далека от удовлетворения требованиям науки в самом строгом смысле этого слова. Она еще не предоставила общеприменимый принцип ни для одной из теорий искусства, которые у неё [есть]. Мы даже не согласны с основным понятием поэзии и различием между ней и искусством речи; и согласие становится все меньше и меньше с тех пор, как некоторые из наших лучших умов занялись установлением этих концепций, столь чрезвычайно важных для изящных наук.
Если один [из теоретиков] принимает живость мысли и красноречие за суть поэзии, то затем, дабы оградить поэтическую область от посягательств со стороны могущественных [в ораторском искусстве] риторов, он вынужден добавить, что эта живость должна быть эстетической; а дабы отделить высшее красноречие (которое так часто превосходит некоторые виды поэзии именно живостью мысли и выражения) от сей области, он должен заранее объявить, что оно должно быть поэтическим. Тем самым он дает понять, что его объяснение предполагает характерную особенность поэзии и, следовательно, никоим образом не содержит и не указывает на нее [в явном виде].
Если другой усматривает эту особенность в чувственно совершенном выражении, то он смешивает границы поэтического искусства и красноречия; и если он выдает эту путаницу за определение, объявляя поэму речью, посредством которой порождается высшая возможная степень удовольствия, то всем прежним и будущим шедеврам поэтического искусства он отказывает в праве именоваться поэмами.
Если третий находит характерную черту поэзии в вымысле, он может защитить свое определение от двусмысленности, лишь ограничив понятие поэзии понятием чувственно совершенной речи, конечной целью которой является удовольствие – или же определив ее столь же неясной характеристикой [как вымысел]. Ибо найдется ли согласие в том, что понимать под «чувственно совершенным» и «удовольствием»? «Удовольствие!» – восклицает, словно едиными устами, весьма уважаемая партия художников и ценителей искусства, – «Удовольствие есть цель и первый фундаментальный закон всех изящных искусств и наук!». А то обстоятельство, что это понятие так же мало способно что-либо объяснить, сколь и нуждается в объяснении, доказывает, по их мнению, саму его действенность как первого принципа.
Утверждение, что изображенная красота является целью и первым принципом изящных искусств и наук, объединяет вторую сторону, но лишь до тех пор, пока не возникает вопрос о значении слова «красота». Ибо в этом случае один отвечает: красоту можно лишь ощущать, но не мыслить, а, следовательно, и не объяснять; и поскольку ощущения ее возникают лишь при реальном наслаждении красотами природы и искусства, то идеал необъяснимой красоты вообще, разрушаемый любым анализом, можно абстрагировать лишь от впечатлений этих творений. Другой, напротив, заявляет: прекрасное отличается от просто приятного именно тем, что оно должно быть не только ощущаемо, но в то же время и мыслимо, а тем самым – поддаваться объяснению.
Если защитник этого последнего мнения не ограничивается голословным утверждением, он немедленно ввязывается в новые споры внутри собственного лагеря из-за двусмысленности их общей формулы. Один полагает, что вполне достаточно определить эту формулу, декларируя совершенство как единство в многообразии, не принимая в расчет, что таким образом он указал характеристику, которая должна принадлежать всякой реальной и возможной вещи – прекрасной ли, безобразной ли. Другой считает, что он адекватно отличает совершенство красоты, объявляя ее таким многообразием, которое служит основой [духовной] силы, в сочетании с таким единством, которое дает легкость [ее] восприятия умом; [и что] именно это сочетание возвышает удовольствие и делает предмет, в котором оно воспринимается, источником наслаждения. Он даже называет удовольствие вообще чувственным представлением о совершенстве и забывает, что речь шла не о совершенстве вообще, но об эстетическом удовольствии; не об отличительной черте приятного, но о прекрасном.
Третьи, правда, отличают прекрасное от чувственно совершенного вообще и утверждают, что черта, возводящая последнее в ранг первого, заключается в целесообразности. Но он либо возлагает на своих читателей всю ответственность за понимание этой целесообразности, либо предоставляет им возможность определять ее, либо через удовольствие вообще, либо через то удовольствие, понятие которого он, в свою очередь, определяет через целесообразность – и, следовательно, движется по порочному кругу.
Поскольку все эти стороны в своем споре об основном понятии эстетического удовольствия едины в том, что человек отнюдь не разделяет этот вид удовольствия со своими, так сказать, сводными братьями – разумными животными, как и другие его виды, и что, следовательно, разум так же несомненно, как и чувственность, принадлежит к так называемому чувству красоты, – то очевидно, что огонь спора не может быть погашен никаким иным способом, кроме как если стороны сначала придут к согласию о природе признанной ими функции чувственности в удовольствии вообще, а затем – о природе не менее признанной функции разума в эстетическом удовольствии. Однако к такому согласию никто не пришел из-за отсутствия последовательно определяемых понятий этих способностей, что, в свою очередь, объясняется отсутствием науки о вкусе, основанной на твердо установленном и общеприменимом принципе.
Поэтому спор в области теории вкуса, а вместе с ним и отсутствие общеприменимого первого основного правила вкуса, должен либо длиться вечно, а эстетика со всеми ее богатыми материалами останется лишь совокупностью во многом бессвязных, колеблющихся, полуправдивых замечаний; даже сама возможность научно-надежной теории вкуса должна быть, как и прежде, отвергнута значительной частью самих философов. И великие, неоспоримые недостатки наших теорий искусства всегда будут удерживать наших мыслящих художников от знакомства с ними и от признания их полезности, – либо этот спор должен ускорить открытие и признание науки, из которой высшее правило вкуса может быть выведено с общезначимой доказательностью.
Тот же самый спор, который возникает в области метафизики и истории относительно всех предполагаемых принципов истины, а в области эстетики – относительно всех предполагаемых принципов красоты, возникает и относительно всех предполагаемых принципов добра. И он стал еще более запутанным в сферах, определяющих наши обязанности и права в этой жизни, и в основании наших надежд на жизнь будущую, – причем в той самой пропорции, в какой эти области нашли себе более искусных защитников.
Поскольку наши права и обязанности в этой жизни, а также основа наших надежд на будущую жизнь коренятся в изначальных (а не впервые приобретенных) склонностях нашей природы, они являются объектом морали, естественного права и чистой философии религии. Но в той мере, в какой они видоизменяются фактами внешнего опыта, они становятся объектами позитивного законодательства, позитивной юриспруденции и позитивного богословия.
Утверждение натуралистов, что моральное законодательство природы старше позитивного законодательства правителей, что права человека старше прав гражданина и что естественная религия старше всех позитивных религий, – не более верно, чем утверждение сторонников сверхъестественного, которые рассматривают естественное как простое следствие позитивного и допускают его действительность только в той мере, в какой оно может быть подтверждено позитивным. Оба вида концепций основаны на весьма нефилософском смешении форм, определенных в простых изначальных склонностях человечества, с формами, признанными и принятыми в [социальном] мире.
О том, что позитивное действительно предшествовало естественному [в историческом плане], свидетельствует история; о том, что оно должно было предшествовать ему [в плане познания], свидетельствует ограниченность человеческого духа, который может постепенно достигать знания о себе лишь путем длительного использования своих сил, благоприятствуемого внешними обстоятельствами.
С самого начала формирования гражданского общества действует нравственная природа человека, действующая посредством разума; она действует прежде всякой гражданской и научной культуры, потому что и то, и другое возможно только благодаря ее собственной, самодействующей активности.
И однако же она долгое время должна была оставаться совершенно непризнанной и еще дольше – неузнанной, потому что познание ее на основе общезначимых принципов может быть лишь результатом позднейшей научной культуры, доросшей здесь до своей наивысшей вершины. До тех пор разум вынужден искать причины своей моральной действенности, неизвестные ему или не известные с достаточной определенностью, вне себя; принимать за причины – следствия своей собственной деятельности, искаженные в опыте и, по общему признанию, измененные внешними обстоятельствами; и объяснять себе смысл своих собственных требований при помощи фактов, которые отчасти обязаны своим существованием попыткам утвердить смутно подозреваемые веления нравственной природы.
Если философ, при всех заметных следах нравственного начала, которые он почитает в позитивном, все же не может скрыть от себя печать незрелости человеческого духа, то он не может не восхищаться в позитивных установлениях мудрым воспитательным учреждением, вполне соответствующим этой незрелости; и даже в том, что отклоняется от разума, там, где он находит его в позитивном, уловить направляющую извне благодетельную руку, которая была и будет необходима человечеству до тех пор, пока оно не в состоянии руководить собой по внутреннему закону своих самодействующих сил.
Преимущество, на которое позитивная юриспруденция и теология до сих пор претендовали перед естественным правом и естественной теологией и о котором отнюдь не свидетельствует один лишь ранг факультетов в академиях, имеет свои совершенно неопровержимые причины. Предметы первых [позитивных наук] признаны в реальном мире, поддерживаются силой государства и потребностями его членов, тогда как предметы вторых [естественных наук] не являются общепризнанными даже в учебных аудиториях и остаются проблематичными даже среди профессионально занимающихся ими философов.
Содержание естественного права и естественной теологии частично рассеяно в трудах нескольких оригинальных умов и смешано с парадоксальными идеями, частично изложено в сборниках, которые, даже самые превосходные из них, сами себе противоречат; в то время как содержание позитивной юриспруденции и теологии зафиксировано в сводах законов и священных хартиях народов. Первое распространяется через споры философов, второе – через воспитание, привычку, общественные институты, словом, всеми средствами политических механизмов.
В университетах философия всегда была крепостной служанкой положительных наук, и судьба ее всегда решалась в соответствии с характером услуг, которых от нее ожидали.
Неправильно понятые формулы Аристотеля, которые под руками схоластов постепенно приобрели тот смысл, какой требовался от знатоков веры и права, были энергично использованы последними против принципа картезианской философии (Cogito, ergo sum – «Я мыслю, следовательно, существую»). Этот принцип вынудил многих картезианцев покинуть свои кафедры или отказаться от своей системы, и буря бушевала до тех пор, пока картезианство не стало достаточно уступчивым и податливым, чтобы доказать полную разумность Афанасьевского символа веры, Тридентского собора, Символических книг [лютеранства], Кодекса Юстиниана, Саксонского зерцала и т.д. и т.п.
В свою очередь, впоследствии она с таким же рвением защищалась от лейбницевско-вольфовской философии, пока и ей постепенно не удалось оправдать свою ортодоксальность в глазах большинства. В период расцвета этой философии наступил, наконец, странный период, когда на первый план вышла позитивная юриспруденция, но еще более – позитивная теология протестантов.
Позитивная теология протестантов, благодаря более ревностному, более целесообразному и более успешному применению своих вспомогательных исторических наук, достигла той достойной степени совершенства, на которой она ныне пребывает, к чести нашего века. Философия стала свободной, но она была также отстранена от большей части своих прежде добровольно предлагаемых услуг, которые отныне, как полагали, могли быть лучше исполнены историей. Академические философы больше не были вынуждены с прежним трепетом цепляться за общие формулы, и философия постепенно отбросила вместе с ними свою систематическую форму, отказалась от ещё более плодотворной надежды и стремления к общезначимым принципам и приняла новый облик, который снискал ей среди её хранителей и почитателей название эклектической.
Некоторые из самых известных современных теологов и юристов не требуют от принятой ими философии ничего иного, кроме как признавать вместе с ними основополагающие истины религии и морали в качестве положений здравого смысла. Взамен более невежественные мирятся с тем, что каждый философ по своему усмотрению выбирает фрагменты из всех систем учения, даже из тех, что были осуждены старой и новой философией, и компонует их по-своему в новое целое, не позволяя себе руководствоваться никаким иным общезначимым принципом, кроме принципа совместимости с самыми необходимыми фундаментальными практическими истинами – принципом, принимаемым по вполне понятной причине; принципом, которому тем легче следовать, что полное отсутствие иных общепринятых принципов позволяет каждому беспрепятственно придавать смысл как основным истинам, так и тем фрагментам, которые сами по себе не имеют определённого значения, пока между ними возникает такая совместимость. Некоторые из наших наиболее заслуженных реформаторов позитивной теологии и юриспруденции столь же известны узостью своих философских изысканий, сколь и величием своей исторической образованности; а некоторые из них даже стяжали почётное имя философских умов, публично демонстрируя своё безразличие к философии или, как они предпочитают это называть, свою терпимость к мнениям философов.
Верные первому принципу протестантизма, который провозглашает разум верховным арбитром во всех вопросах религии и единственным законным толкователем библейских текстов, и умело руководствуясь более глубоким знанием языков оригинала, филологии и церковной истории, наши новейшие экзегеты постепенно извлекли из важнейших формул священных документов смысл, о котором авторы символических книг не могли и помыслить, учитывая состояние вспомогательных наук в их время. Время и влияние протестантских богословов, которые считают символические книги non plus ultra экзегетической проницательности или, более того, желают, чтобы они были приняты вместо непогрешимой Церкви в качестве хранителей разума, значительно ослабело, и даже названия «православный» и «ортодоксальный» употребляются всё реже и с всё меньшей язвительностью.
Но поскольку, с одной стороны, всё ещё время от времени появляются сторонники символической, как они выражаются, чистой доктрины, которым в равной степени недостаёт проницательности и знания вспомогательных исторических наук, а с другой – защитники свободного применения разума расходятся во мнениях относительно важнейших результатов своей экзегезы; поскольку они расходятся в толковании ключевых отрывков и, по-видимому, то намеренно оставляют неопределёнными важные значения слов: вера, откровение, вдохновение, сверхъестественное и т.д., то в иное время определяют их прямо противоположными характеристиками, – становится всё очевиднее, что великая цель позитивного богословия не может быть достигнута одними лишь вспомогательными историческими науками и что должны существовать некие ведущие идеи, которые не могут быть извлечены из священных документов с помощью всех грамматических, филологических и исторических изысканий, но которые могут быть согласованы с духом этих документов; идеи, о последовательном определении которых необходимо договориться заранее, если с помощью целесообразного применения научных знаний мы, наконец, желаем прийти к чему-то прочному и установленному.