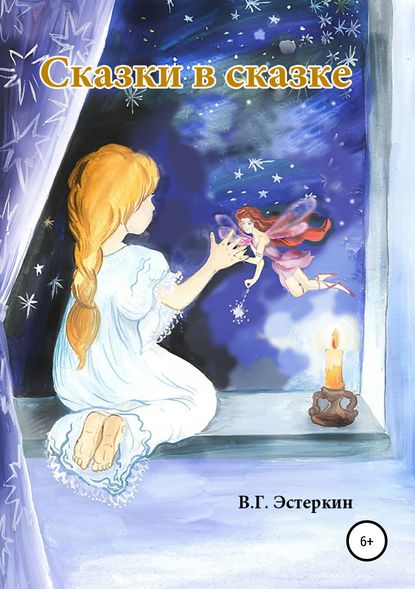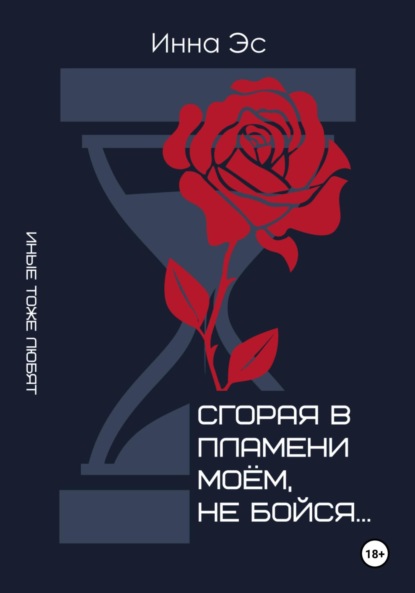Письма о кантовской философии. Том 1
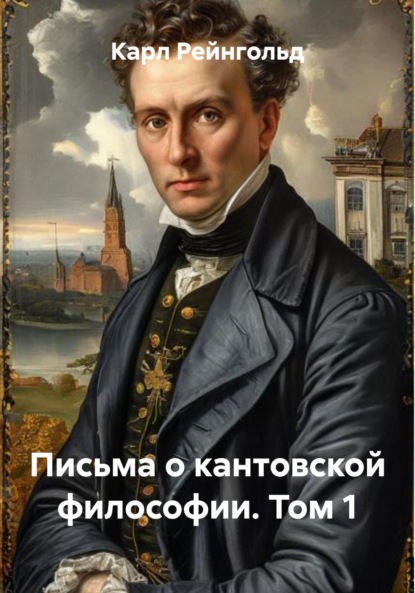
- -
- 100%
- +
Но разве наименее известные богословы согласны лишь в том, возможно ли вообще нечто прочное и установленное – и даже желательно ли оно – в области их науки? И разве те, кто в своих трудах прямо в этом сомневается, не забывают, что вся их работа не имеет и не может иметь иной цели, кроме как определить и установить нечто? Разве наши самые выдающиеся экзегеты до сих пор не спорят о предварительном вопросе: заимствуется ли чистая идея Божества из Библии, или же она должна предшествовать всякой экзегезе в качестве высшего критерия для оценки представлений о Божестве, встречающихся в Библии?
Разве наши теологи-моралисты до сих пор не спорят об идее и основании морального обязательства, а именно: должны ли они быть выведены из Евангелия, или же их следует положить в основание для понимания действительного смысла евангельского учения? И разве те, кто согласны между собой относительно естественного происхождения идеи Бога и морали и включают её в число фундаментальных доктрин своих систем, согласны между собой хотя бы относительно одной совершенно определённой черты этих главных идей?
И как же им согласиться, если даже философы по профессии, сделавшие исправление и обоснование этих идей своим главным делом, втянуты в самую запутанную полемику относительно каждой их черты?
Если позитивная юриспруденция в целом отстала от позитивной теологии, то причина тому не в том, что над ней трудилось меньше искусных мастеров, а в том, что её предмет в большей степени зависит от законодателя, нежели от знатока закона. В новейшее время она также значительно продвинулась благодаря своим вспомогательным историческим наукам, из которых может извлечь ещё больше преимуществ, нежели теология из своих, поскольку она в большей мере, нежели последняя, основана на фактах и имеет несравненно более богатые исторические источники.
Но разве многостороннее, длительное и одностороннее занятие ума огромным материалом для запоминания, неизбежное при использовании этих источников; разве привычка позволять разуму делать каждый свой шаг, опираясь на барьер истории; разве исключительное почитание исторических результатов в сочетании с пренебрежением к философским, которое это вызывает, – разве все эти обстоятельства, вместе взятые, не содержат естественного объяснения тому факту, что наши юристы, не исключая даже некоторых самых выдающихся и заслуженных среди них, при всём прогрессе их науки до сих пор продолжают строить позитивное право – не только в той мере, в какой оно позитивно, но и в той, в какой оно вообще является правом, – на одних лишь исторических данных?
Поскольку могут существовать и существуют позитивные законы, которые при всей их политической действительности морально невозможны, моральная возможность позитивного закона никоим образом не зависит от его политического существования; и поскольку все права, за исключением права сильнейшего, могут определяться лишь законами, морально возможными, эта моральная возможность должна быть первоосновой всех прав, следовательно, и позитивных. Это верховное правило, по которому должен определяться смысл позитивных законов; и как только возникает случай, что один из этих законов не допускает никакого смысла, который мог бы быть с ним согласован, священнейшим долгом юриста является доказать законодательной власти недействительность такого закона и добиться её признания.
Если же это верховное правило права не установлено в каком-либо общезначимом принципе, защищённом от всякой двусмысленности; если оно отброшено позитивными корифеями права как неразрешимая и бесполезная проблема метафизики; если же, более того, упускаются из виду даже исторические причины положительных законов, – то на их место тотчас заступает мёртвая буква тех законов, что увековечивают варварство прошлых веков, в которые они возникли, включая и те, в существовании которых корысть и властолюбие сильнейшего угнетателя имели по меньшей мере не меньшую долю, нежели стремление зарождающегося разума обеспечить соблюдение прав людей и которые поэтому находятся под веским подозрением. Не дай Бог, чтобы среди защитников этой буквы оказался хоть один из самых известных и заслуженных юристов!
Но позитивная юриспруденция в настоящее время, как и позитивная теология, имеет больше, чем когда-либо, своих ортодоксов и своих ненавистников, историческую партию и философскую партию, из которых одна старается опираться на традицию и корыстные интересы, а другая – на нравственный долг. Их борьба время от времени затрагивает несколько наиболее важных предметов и в настоящее время вращается не только вокруг княжеского права в целом, законности смертных приговоров, права собственности на тело, работорговли и т.д., и тем труднее для разрешения, что, ввиду ещё не установленного разграничения между позитивным и естественным правом, она ведётся то на территории одного, то на территории другого.
Учёный-правовед исторической партии будет менее виновен в том, что окончательно держится за факты, если принять во внимание, что его философские оппоненты, по сути, согласны лишь с утверждением о существовании верховной нормы права, но отнюдь не с тем, в чём она состоит. Спор об основополагающем понятии и первом принципе естественного права, который в последнее время становится всё острее и заметнее ровно в той пропорции, в какой усерднее разрабатывается эта философская часть юриспруденции, в немалой степени способствовал тому, что люди привыкли отличать естественное право от позитивного лишь путём простого противопоставления и оценивать первое как нечто само собой разумеющееся, а второе – как спорное.
Философы, конечно, предлагают несколько первых принципов естественного права, среди которых может быть верным лишь один или же вовсе ни одного; но философия ещё не установила ни одного, если не желают называть философией мнение одного человека или одной партии в ущерб всем остальным. То основание естественного права смешивают с его принципом; то основание познания отделяют от основания его существования и обязательности. Один писатель полагает, что естественное право совершенно независимо от морали; другой – что эти два понятия настолько переплетаются, что следует вовсе воздержаться от проведения между ними границы.
Основание естественного права одни ищут в состоянии природы, которое предшествовало всем гражданским установлениям, другие – в уже существующем обществе. Для одних естественное состояние есть просто состояние иррационального животного мира, в котором нет иного права, кроме права сильнейшего; для других же оно есть воплощение изначальных склонностей человеческой природы, представляемых в их полной чистоте и беспрепятственном действии. Первоначальная предрасположенность, в которой предположительно содержится основание естественного права, понимается то как корыстный, то как бескорыстный инстинкт, то как главная пружина самосохранения, то как врождённая социальная склонность, то как простая потребность чувственности, то как особый образ действия разума.
В результате каждого из этих различных способов выведения получается свой первый принцип естественного права, который достаточно явно заявляет о своей неопределённости и неадекватности различными формулами, в которые его облекают даже те, кто считает себя согласным с его сутью. Разумеется, лишь половина тех, кто работает над естественным правом, считает нужным спорить между собой об этих формулах, каждая из которых объявляется её защитником единственно возможным первым принципом. Остальные объявляют эту полемику простым спором о словах, поскольку, по их мнению, дело не столько в выражении, сколько в смысле принципа; поскольку разнообразие человеческих представлений об одном и том же объекте требует и разнообразия формул, а естественное право, очевидно, выиграет гораздо больше, если его будут поддерживать несколько принципов, нежели если бы его поддерживал лишь один.
Но само это безразличие к единству принципа должно ещё больше, нежели пылкие споры о нём, доказывать, как далеки мы ещё от общезначимого основоположения естественного права, которое, как только оно будет открыто и уяснено, сделает всё разнообразие концепций – и, поскольку философский язык не терпит синонимов, даже выражений – столь же безусловно невозможным, сколь оно само должно быть единственным в своём роде и основываться на характере человечности, общем для всех людей.
Но как возможно последовательное определение этого важного фундаментального понятия до тех пор, пока у нас нет ничего, кроме спорных мнений об отношении чувственного побуждения к самодеятельности разума? До тех пор, пока среди самостоятельно мыслящих людей существуют разногласия относительно существенного различия и существенной связи между чувственностью и разумом и, следовательно, остаются совершенно нерешёнными те пункты, на основании которых только и можно определить характер требований чувственности, основанных на нашей потребности, и ограничений этих требований, основанных на позитивной силе нашего духа? До тех пор, пока у нас нет науки, основанной на общепризнанном принципе, о первоначальном устройстве нашего воображения и способности познания, которую можно было бы продемонстрировать?
Поэтому хаос в области естественного права и всех связанных с ним областей позитивного права должен либо продолжаться вечно, либо ускорить открытие и признание этой новой науки, без которой невозможно будет объединить самостоятельно мыслящих людей ни на первом принципе естественного права, ни даже на каком-либо определённом понятии права вообще.
Нелегко было бы признать незаменимость упомянутой новой науки для обоснования морали, о которой нельзя повторять достаточно часто, что она стоит на непоколебимом фундаменте и уже доведена до доказательства, мало чем уступающего математическому. «Природа, – говорят, – поступила бы очень плохо в отношении благосостояния человечества и своих великих намерений по отношению к нему, если бы она оставила необходимое знание морального закона на произвол спекуляций и споров философов».
В самом деле, мораль заявляет о своём присутствии и отсутствии в человеческих поступках недвусмысленными, приятными и малоприятными ощущениями, против которых даже долгая привычка к пороку едва ли может достаточно закалить, в то время как та же самая мораль вызывает непонимание и споры, как только человек пытается постичь её разумом.
Люди самых низших классов и мальчики, едва вышедшие из детского возраста, не только умеют отличать нравственные поступки от безнравственных, но и точно указывать степени нравственности; стоит только ясно и определённо представить им внешние обстоятельства нравственного поступка. Во всех учебниках теоретической философии можно найти более или менее существенные ошибки и противоречия; но трудно было бы составить сборник морали, в котором безнравственный поступок выдавался бы за нравственный или понятие нравственности было бы ошибочным в одной из своих существенных черт. Из всего этого следует, что мораль настолько же надёжна и определённа, насколько она является самой важной и благотворной из всех наук. «В то же время эта надёжность морали отнюдь не настолько всеобъемлюща, чтобы её не оспаривали так же упорно, как и защищают; и справедливо, что мы должны выслушать и её противников. Если, как говорят, среди моралистов больше согласия, чем среди метафизиков, то это следствие позитивных законов и установленных форм в целом, которых требует гражданское общество для своего сохранения и которые связали честь и стыд, награду и наказание с идеями, необходимыми для этого сохранения.
Воспитание и привычка, сформированные этими типами представлений, содержат причину так называемых моральных чувств, которые делают то, что согласуется с преимуществами общества и его позитивными установлениями, источником незаметного удовольствия, а то, что противоречит им, – неудовольствия; чувства, которые, однако, имеют место только там, где внешние обстоятельства климата, организации и т.д. благоприятствуют этим искусственным установлениям. И которые у всех культурных народов, вышедших из состояния природы, должны быть тем более заметны у мальчиков и в низших классах, потому что этот возраст и эти классы наиболее восприимчивы к воспитанию и привычке, и новые впечатления, получаемые через них, менее всего способны быть изменены самостоятельным мышлением.
Формулы моралистов, в силу самой двусмысленности своего значения, всегда, даже в самых разнообразных системах, могли принять тот смысл, который соответствует внедрённому и политически необходимому способу представления; но который также немедленно начинает оспариваться, когда хотят проследить их до так называемых внутренних оснований морали.
В той самой пропорции, в какой смысл этих формул поднимается над общим и запутанным типом концепции, при каждом усилии мыслящих умов прояснить его полностью, при каждой попытке подчинить их всеобщему принципу, их несовместимость становится всё более заметной, а спор между их защитниками – всё более запутанным; спор, который, будучи сведён к своим простейшим пунктам, не оставляет ни одного наблюдательного зрителя в сомнении, что среди моралистов как раз меньше всего решено, существует ли моральный закон вообще или нет?»
Самое поразительное в этом споре между противниками и защитниками достоверности морали, на мой взгляд, заключается в том, что и те и другие, по общему недоразумению, путают науку с её объектом, мораль как учение с нравственностью как таковой, а побудительную причину (Triebfeder) последней с законодательным принципом (Princip) последней.
Один переносит существование, необходимость и святость морального закона на науку о нём, другой – неопределённое и колеблющееся в науке на сам моральный закон. Оба считают моральное учение неисправимым; один – потому что признаёт за ним принципы, уже полностью развитые и доведённые до чистоты; другой – потому что отказывает ему во всех возможных принципах. И те и другие тем самым препятствуют, как бы они ни старались, прогрессу науки.
Разум и солнце осветили и оплодотворили лик и сферу деятельности человечества со всех сторон. Светящая и согревающая сила солнца была известна по его благотворному воздействию задолго до того, как началось научное исследование действия этих сил.
Или же было бы столь же непоследовательно смешивать знание о независимых от нашей проницательности силах, которые всегда существовали и всегда действовали, с наукой об их действии, которая только путём постепенного прогресса может стать собственно наукой и отчасти зависит от соответствующего состояния других наших познавательных способностей, – столь же непоследовательно, говорю я, как и отрицать существование этих сил на том основании, что знание об их действии ещё не поднялось до уровня законченной науки.
Утверждать вместе с популярными философами, что мы должны наслаждаться и пользоваться благами солнца и разума, не задумываясь над тем, каким образом мы к этому пришли, было бы равносильно сокрытию не меньшей непоследовательности под покровом аллегории. Чем дальше разум продвинулся в своём действии в культурном народе, тем больше возрастает потребность действовать в соответствии с ясным представлением о его законах.
Та же самая идея, которая стала ясной в результате анализа её непосредственных черт, становится неясной в тот момент, когда речь заходит об особенностях этих черт, и её определение порождает спор. Есть болезни, от которых человеческое тело защищено нежным младенчеством и которые никогда бы не прижились без развитых органов, без пищи и занятий зрелого возраста; и есть ошибки, которые предполагают значительную степень культуры ума, невозможны в состоянии полной неясности понятия, которого они касаются, и только постепенно устанавливаются в ходе постепенного развития того же самого, которое совершается лишь после многих неудачных попыток; но также должны становиться всё более и более сомнительными благодаря питанию, которое они черпают из большего количества полу-истинных озарений, и благодаря более изощрённой проницательности их защитников. Возможно, это относится к любой другой идее в такой же степени, как к идее морали. Чем больше о ней думают в ту или иную эпоху, чем настоятельнее становится потребность в ней, тем больше опасность того, что эта идея будет помыслена неверно.
Она мыслится неверно, как только при размышлении о ней либо упускается одна из её существенных черт, либо в её состав включается черта, которой в ней не место; и от этой неверности её может уберечь лишь полностью завершённое развитие её черт, доведённое до пределов всякой постижимости. До тех пор, пока она не будет расчленена до своих последних делимых составляющих; пока найденные составляющие не будут полностью определены и признаны в качестве первых принципов; пока не будет уверенности в том, что в неразработанных составляющих не скрыт недостаток или избыток какого-либо существенного свойства, – идея не является ни чистой, ни полностью продуманной, а представляет собой более или менее игру случая.
Идея нравственности приобрела огромные преимущества благодаря тому, что наши профессиональные моралисты так широко приняли различие между нравственностью и законностью и отыскали существенную характеристику, по которой нравственный закон отличается от всех других, ограничивающих чувственное побуждение, в самом основании его обязательности.
Но по этой самой причине, чем больше весь смысл нравственного закона зависит от определения этого основания, тем вероятнее стало заблуждение относительно него. Во всех объяснениях этого основания, которые до сих пор давала философия, побуждение к удовольствию (Trieb der Lust) и закон разума более или менее явно фигурируют как существенные характеристики этого основания. Я не хочу утверждать здесь (что, как я надеюсь, смогу строго доказать в другой раз), что во всех этих объяснениях идея нравственности становится неверной из-за по существу излишней характеристики побуждения к удовольствию и по существу неполной характеристики закона разума; но это не может и не должно остаться здесь неупомянутым, что взаимное отношение этих двух характеристик совершенно не определено даже среди тех философов, которые прямо заявляют о своей поддержке обеих характеристик, и что наши мыслящие моралисты в настоящее время менее чем когда-либо согласны по вопросу: подчиняется ли в моральном законодательстве побуждение к удовольствию разуму или же разум – побуждению к удовольствию?
Некоторые видят необходимость, благодаря которой правило разума становится обязательным законом для воли, в побуждении к удовольствию. Они считают, что это побуждение является действительным законодателем, который использует разум лишь для формулирования законов, получающих свою санкцию только через него, и которые, как бы ни был благотворен успех их соблюдения, тем не менее могут представлять интерес для воли каждого человека только через удовольствие, которое их соблюдение доставляет или обещает, и через неудовольствие, которое оно предотвращает.
Другие, напротив, признают разум как действительного и законного законодателя, но отказывают ему, поскольку он существует в человеческом духе, в автономной способности действительно утверждать предписываемые им законы и действительно осуществлять их без санкции побуждения к удовольствию, без движущей силы (triebende Kraft), которая у конечных существ может корениться только в этом побуждении.
Первые, полагающие, что они открыли определяющее основание (Bestimmungsgrund) морального закона в побуждении к удовольствию, спорят о том, каким образом это основание существует в этом побуждении; является ли оно изначальным, врождённым и естественным в нём, или производным, приобретённым и искусственным? Некоторые думают, что побуждение к удовольствию, будучи творением природы, даёт своё согласие не иначе, как по закону склонности, и что оно может получить направление, благодаря которому оно соблюдает закон, противоречащий склонности, только извне, через воспитание, привычку и установления гражданского общества. Ибо государство, будучи вынужденным эгоистическими склонностями всех, кого оно объединяет, обуздывать эгоистические склонности индивида, получило бы возможность благодаря своему превосходству в благоразумии и власти утверждать эти ограничения, связывая искусственные частные выгоды и частный вред с поощрением или нарушением общего блага.
Защитники естественного происхождения моральных обязательств из побуждения к удовольствию тем успешнее могут выступать против своих оппонентов, которых они не без основания обвиняют в теоретическом ниспровержении всякой нравственности, что сами разделились в вопросе о том, каким образом эти обязательства основаны на естественном побуждении к удовольствию, на существенно различные мнения.
Одни усматривают природу инстинкта удовольствия в чувственности, вернее, в потребности чувственности, смешивают чувственность вообще с чувственностью, измененной организацией, относят все возможные виды удовольствия к физическим – равно как и рассматриваемые – объявляют нравственность благоразумно понятым и утонченным корыстным интересом, а добродетель – средством для необходимой цели инстинкта удовольствия, расширенного разумом (или средством для достижения счастья, которое должно заключаться в максимально возможной сумме приятных ощущений, их наивысшей степени и наибольшей продолжительности).
Другие, напротив, полагают, что в человеческой природе существуют два совершенно различных инстинкта удовольствия: один – эгоистический, объектом которого является собственное благо, а другой – бескорыстный, объектом которого выступает благо других. Они считают, что удовольствие от блага других и бескорыстный интерес к общему благу предполагают в разуме собственное чувство, которое следует отличать от чувственности под названием нравственного и признавать основанием моральных обязательств, не поддающимся, однако, дальнейшему объяснению.
Те, кто признает разум моральным законодателем, расходятся во мнениях относительно того, кому следует воздать эту честь – человеческому или божественному разуму. Согласно некоторым, нравственность есть естественный способ действия воли, определяемой человеческим разумом, а воля, определяемая разумом, не может желать ничего, кроме совершенных поступков, которые суть естественный объект разума. Они также почти единодушны в том, что совершенство нравственных действий заключается в их цели. Но что это за цель? Не есть ли это вновь совершенство, и что, в таком случае, должно быть обеспечено этим совершенством? Соответствие всех наклонностей и склонностей максимально возможной способности к наслаждению? Наибольшее развитие всех человеческих способностей? Максимально возможное благо человечества в целом? Или все это, вместе взятое? И в последнем случае, какой из этих различных мотивов в первую очередь определяет нравственную волю? По этому вопросу мнения защитников принципа совершенства настолько различны, что, строго говоря, они не имеют между собой ничего общего, кроме самого выражения «совершенство».
Сверхъестественники полагают, что разрешили это, как и все другие разногласия относительно основания нравственности, отыскивая это основание в божественной воле, определяемой бесконечным разумом, но по этой самой причине непостижимой для конечного разума и известной человеку лишь через откровение. Однако, кроме того, приверженцы этого мнения вынуждены допускать либо непосредственное божественное вдохновение, делающее эту непостижимую волю известной людям, либо непогрешимых толкователей смысла священных документов, и обеспечивать подлинность того и другого непрерывными чудесами, дабы оградить их от всякого подозрения в обмане и ошибке. Поэтому они столь же мало едины между собой, как и любая другая партия. Определяется ли человеческая воля разумом, или инстинктом удовольствия, или непосредственным влиянием божества, чтобы подчиниться ему; или, что не менее важно, где находится внутреннее основание морального обязательства?
Я умолчу здесь об идее свободы воли, которая тесно с этим связана! Я не стану упоминать здесь о том, что она более чем когда-либо отрицается фаталистами, подвергается сомнению догматическими скептиками, неверно оценивается детерминистами и ищется вне природы сторонниками сверхъестественного.
Недостаточность всех прежних исследований этой важной идеи настолько поразила некоторых из наших самых выдающихся философских писателей, что они без колебаний заявили: вопрос о том, в чем состоит свобода, а следовательно, и вопрос о том, может ли она быть вообще помыслена, не имеет ответа, а потому совершенно безразличен для морали.
Потрясение научного фундамента нравственности, столь заметное во всех этих явлениях, состоит, в сущности, в колебании всех прежних представлений о разуме, побуждении к удовольствию и их отношении друг к другу. И это со всей очевидностью демонстрирует всё еще далеко не завершенную всеобщую разработку понятий о разуме и чувственности, о самодеятельной силе первого и побуждении, основанном на потребности второй, – определяющем и определяемом в морали; разработку, которая возможна лишь через науку о человеческом познании и учение, возведенное к общему принципу. Поэтому это потрясение должно – к великому ущербу для нравственной культуры – либо длиться вечно, либо привести к открытию и признанию этой новой науки.