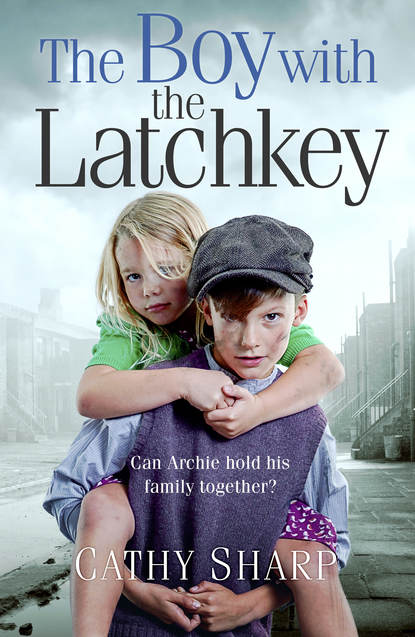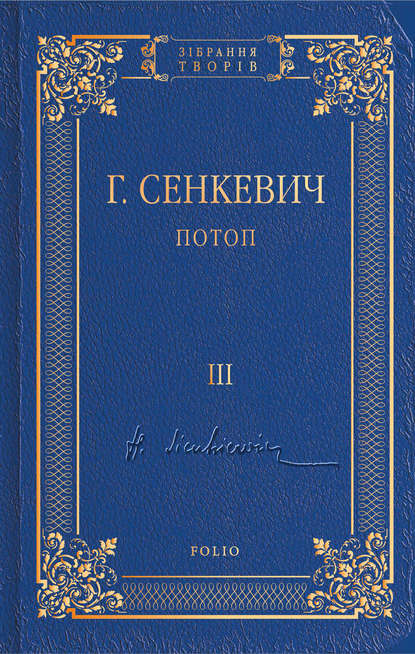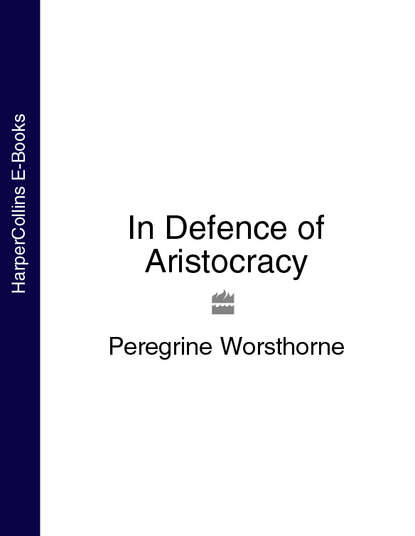Письма о кантовской философии. Том 2

- -
- 100%
- +
Противоречие между укоренившимся неопределённым и развивающимся определённым способами концепций необходимо должно вызывать между многими приверженцами одного и немногими другого споры, кои всегда были столь же неизбежны в постепенном развитии человеческого разума, сколь и необходимы для его прогресса. Множество принятых и широко распространённых доктрин, выведенных из принципов, кои почитались установленными лишь потому, что их неверность была сокрыта неясностью неразвитых фундаментальных понятий, утверждались новейшей философией отчасти в дурном, отчасти в прежнем смысле. Теперь, чем чаще сии доктрины представляются, доказываются и обсуждаются устно и письменно знаменитыми и неискушёнными философами-профессионалами; чем более они связаны в своих причинах и следствиях со всеми другими концепциями сих людей: тем более непоследовательной должна казаться утверждаемая противоположность им, доказательство коей всегда предполагает лишь совершенно новую концепцию, могущую быть объединённой с их старыми убеждениями единственно через последовательное исправление оных. Свет доказательств, исходящий от вновь определённых фундаментальных концепций, является для защитника чуждых систем лишь подобием истины, кое он стремится уничтожить тем охотнее, чем более оно для него тревожно.
Посему он собирает со всех сторон все истины, кои почитает установленными и кои, по его мнению, не нуждаются в доказательствах, или, как он их называет, все фундаментальные истины, кои он лишь надеется привести в какую-либо связь со своими доктринами; и поскольку он был вынужден обеспечить фактическое основание своей системы против новых фундаментальных концепций, ей противостоящих, система сия предстаёт в очах его и его последователей с такою твёрдостью, на какую они сами едва ли были способны доселе. Она предстаёт с возможною наибольшею силою.
Но именно так перед непредвзятыми зрителями открывается её величайшая действительная слабость. Настойчивая попытка спасти философскую доктрину, когда смешение принципов, дававших её фундаменту опору, устранено, становится последним ударом, от коего она рушится.
Лишь одна система может быть построена на последовательно определённых фундаментальных понятиях; и лишь одна философия возможна, которая в своих принципах является правильным выражением изначального устройства нашей познавательной и умозрительной способности, или необходимых и всеобщих законов, к коим человеческий дух привязан своею природою. Каждая неопределённая и, следственно, двусмысленная фундаментальная концепция порождает столько же различных систем, сколько интерпретаций допускает её выражение в языке. Отсюда материализм и спиритуализм, скептицизм и сверхъестественное, к коим можно отнести все действительные и возможные системы философии доныне. Поскольку при совершенно исчерпывающем расчленении фундаментального понятия можно указать и полное число характеристик, составляющих его содержание, то можно исчерпать и число недоразумений, возможных из-за его неопределённости, а также различных систем и сект, возможных благодаря ему. Критический философ знает поэтому, что ему не может быть противопоставлена никакая философская доктрина, которая не существовала бы уже в своей существенной форме, и что все новые доктринальные концепции, кои будут установлены в будущем, за исключением единственной, вытекающей из «Критики чистого разума», могут быть не чем иным, как модификациями уже установленных.
Он знает, что приверженцы всех сект, прошлых и будущих, будут тем сильнее бороться против его принципов, чем сильнее они потрясают их доктринальные построения, и чем менее любая из них может быть свободна от сего потрясения. Но он также знает, что для защиты ему не нужно ничего иного, кроме как осветить свои собственные фундаментальные концепции, развивая их причины и следствия. Посему он воздерживается от подлинной вражды и предоставляет своим оппонентам, которые не могут объединиться против него, ибо сами разделены на враждующие партии, изматывать друг друга. Он спокойно наблюдает за их попытками вновь обосновать свои различные доктринальные концепции. Ибо по мере того, как возрастает определённость, которую они пытаются придать ей, все явственнее проявляется особенность каждой из них, благодаря коей они находятся в прямом противоречии друг с другом и благодаря коей они никоим образом не могут существовать совместно. Крайне странным примером сего рода являются нападки последователей лейбницевской и локковской философии на кантовскую философию. Бесспорные истины, кои обе партии выдвигают против критицизма, поражают вовсе не одно и то же, а рационализм одной и эмпиризм другой; и в том, что обе они опровергают не его, а лишь друг друга, они работают против своего намерения в пользу системы, занимающей как раз среднее положение между ними.
То, что в сей распре участвуют кантианцы и антикантианцы, кои лишь тем ревностнее сражаются за формулы своих учителей, чем менее понимают их смысл, и кои, пока самодуры заняты укреплением своих различных доктринальных построек, рассматривают принесённые ими строительные материалы как оружие, кое они мечут друг в друга, – сие, конечно, бесспорно. Но даже если сии бойцы не приближают решение вражды, то и не отдаляют его. Писатели такого рода обычно находят читателей только среди себе подобных, а поскольку их несчастные рассуждения, по мере приближения к пределам постижимого, становятся все более непонятными и невкусными, они, после того как об их существовании возвестили несколько солидных газет, забываются даже собственною публикою. Сама природа философии ручается, что посредственный ум может принести в сей области не только значительный вред, но и пользу.
Самая превосходная и важная тема всей философии вообще может быть прослежена до определения конечных и единственно в сем качестве достаточных оснований наших обязанностей и прав в сей жизни и наших надежд на жизнь грядущую. Одна из самых странных особенностей философии Канта состоит в том, что разрешение сей великой проблемы возникает само собою из принципов, выводимых из разума безотносительно к ней, и что сама проблема не является лишь целью, коей подчинены изыскания критики. Ибо проблему сию можно мыслить только как такую цель, о коей нельзя иметь совершенно определённого понятия без совершенно определённых понятий тех обязанностей, прав и т. д., кои можно получить единственно через её разрешение; посему вполне понятно, что во всякой предшествующей философии, исходившей, например, из сей цели, всегда уже предполагалось в качестве предрешенного вывода то, к чему приводили последующие рассуждения.
Кантианский метод отличается от всех тех, кои занимались вышеупомянутой проблемой, тем, что решение её является естественным и необходимым следствием его исследования изначальной конституции человеческого духа, и тем, что он не желает, чтобы данные всей проблемы искали за пределами простого умения познавать и мыслить, общего всем людям. В то время как спиритуалист полагает, что он обрёл сии данные в своем мире идей в сущности якобы простых субстанций, материалист – в мире чувств в сущности якобы протяжённых субстанций, сверхъестественник извлекает их из царства благодати за пределами царства разума, а скептик объявляет их чем-то таким, что никак не может быть дано человеческому духу: – Критический философ придерживается простого расчленения необходимых и всеобщих законов силы воображения, кои он знает благодаря размышлению над фактами сознания, относящимися к внутреннему опыту, и кои он также развил бы из сих фактов без особого труда и без опасности быть превратно понятым, если бы не колебания понятий, полуистинные принципы и двусмысленные формулы, кои его читатели принесли с собою в своих прежних философских убеждениях и от коих он, конечно, не в состоянии внезапно очистить их головы, как по мановению волшебного жезла. Сие ставит на его пути препятствия, кои могут быть устранены, вероятно, лишь в случае самых немногих, и даже в сем случае очень медленно, и никогда полностью, кроме как через полный обзор новой системы.
Поскольку спор, вызванный философией Канта, ведется уже не на бесплодных полях метафизики о сущности вещей самих по себе, кои так часто объявлялись непонятными даже их мнимыми знатоками, и не на священном поле гиперфизики о смысле предложений, которые, по мнению их собственных защитников, выражают лишь тайны и не должны иметь никакого значения для разума; но на почве необходимых и всеобщих законов человеческого духа, так что каждое более точное развитие основных понятий, определяемых природою нашего разума, обнаруживает и устраняет новое недоразумение: то для внимательных и беспристрастных зрителей спора постепенно становится все более и более понятным и вероятным, что существует окончательное недоразумение, которое лежит в основе распри как предыдущих систем между собой, так и всех их с кантовской, и которым весь спор должен когда-нибудь завершиться. Даже самое отдаленное представление о таком недоразумении должно заставить человека, который более печётся об истине, нежели о своей нынешней системе, склониться к тому, чтобы прислушаться к голосу, даже если бы то был лишь голос одного человека, который объявляет бесконечным и, следственно, бесполезным всякий спор, ведущийся до открытия и признания высшего общего принципа всего философствования, и который даёт спорящим повод задуматься: могут ли они когда-либо надеяться понять друг друга относительно производных принципов, не придя сначала к согласию относительно исходного и конечного принципа.
По мере упрощения спорных пунктов спор приближается к окончательному решению. Число беспристрастных умов, в очах коих всё уже решено, растет все более и более. Многие, кого прежде темнота и запутанность вопросов отпугивали даже от простого наблюдения, ныне принимают живое участие в дальнейшем развитии событий. Среди сих последних, конечно, можно ожидать лишь немногих, а может быть, и вовсе никого из философов-профессионалов, кои уже публично заявили о своей неприязни к новой философии. Она будет тщетно защищаться против практикующих мыслителей, которые, возможно, уже несколько лет трудились над тем, чтобы поставить всю свою систему мышления в самое резкое противоречие с нею. Но и сии люди напрасно будут запутывать своими неверными толкованиями некогда упрощенные пункты аргументации. Напротив, их возражения дают тем немногим, кому по сердцу конец спора, самую желанную возможность продвинуть сие упрощение далее, придать своим выражениям большую определённость, своим утверждениям – большую связность, своим принципам – более подходящие формулы, своему ходу мысли – более поразительную простоту, а своему изложению – большую ясность.
По мере того как исследование новейшей философии приближается к последним принципам, а следственно, к наиболее общим, высшим и простейшим понятиям, выражение сего исследования должно, конечно, становиться все более своеобразным, все более бедным образами и вообще более сухим. Изложение основ элементарной философии не может быть украшено ничем иным, кроме того, что способны придать ему возможно большая трезвость рассуждений и строжайшая точность, определённость и краткость. Действительно, живописные и переливающиеся слова, с помощью которых некоторые из наших самых замечательных писателей пытались придать ясность и очарование своим глубоким метафизическим рассуждениям, оставили неудовлетворёнными строгие, но справедливые требования философского разума в той мере, в какой они очаровывали воображение читателя.
Блеск выражения, коим в сих продуктах имагинативной философии или философской фантазии завуалирована неопределённость и отсутствие фундаментальных понятий, сливается с путаницей сих понятий в тот самый уютный светлый мрак, в коем даже наши лучшие умы в прежнем состоянии философии привыкли видеть рациональные основания тех убеждений, коими они на самом деле были обязаны воспитанию, темпераменту, внешнему положению и всевозможным иным случайным обстоятельствам, но которые, по вполне понятным причинам, они предпочитали приписывать разуму. Излишне упоминать здесь названия позднейших сочинений, в коих философски рассматриваются сии вкусы, например, за и против откровения, и которые не только приятно развлекают всех читателей со вкусом, но и безошибочно убеждают тех, для кого их тема была уже предрешенным выводом истины.
Сверхъестественник поглощает, восхваляет и цитирует философские рапсодии, которые борются с естественной религией в пользу сверхъестественной, а натуралист торжествует над каждым новым памятником, который прославляет победу разума над слепой верой, и над коим философская проницательность соперничает с поэтическим искусством изображения. То, что при всех попытках такого рода, при всей ценности, которую им навсегда гарантирует печать вкуса и гения, сама наука и философская культура человеческого духа тем не менее ничего не выигрывают; то, что они оставляют господствующие фундаментальные понятия в их прежней неопределённости и еще более расширяют господство тех же самых понятий; то, что они все более и более удаляют из поля зрения публики те принципы, из развития которых, по старому недоразумению сторон, всё происходит, – это еще не самое худшее, что можно им возразить. Именно они создали заблуждение, даже в самых прекрасных умах, что популярность философских сочинений является мерилом их основательности; что философские принципы должны получать доказательства не вверх по их высшим причинам, а вниз по их следствиям, и что философская попытка может быть благотворной только в той мере, в какой она заставляет своих читателей менее трудиться и более забавляться.
Благодаря им, не только среди любителей философии, но и среди самих профессиональных философов, отвращение и неспособность ко всем трудоемким разборам были взращены и доведены до высшей степени. Именно им – а не многочисленным бестолковым школьным философам, чьи декламации выпадают из памяти слушателей тем вернее, чем более сам учитель обязан ими только своей памяти, – им, которые как самостоятельно мыслящие люди действуют на самостоятельно мыслящих людей с упором и успехом, следует приписать столь широко распространённое в настоящее время отвращение философских умов к тем занятиям, от коих только и можно ожидать реформирования философии. Наконец, они более всего способствовали странной неопределённости понятия философии, которая ничем не уступает двусмысленности слов гений, свобода, просвещение и т.д., и в коей кроется причина того, что говорят нечто непонятное даже для некоторых самых известных философов, когда утверждают либо отсутствие прежней, либо необходимость будущей элементарной философии.
Тот, кто желает судить о доктринальном здании новейшей философии, не зная законченного плана целого, только по некоторым предшествующим предварительным работам, и особенно только по той внешней стороне, под коей фундамент элементарной философии показывает себя ему, имеет, конечно, достаточно материала, чтобы насмехаться над сухостью сей философии. Но он также похож на – как бы его назвать? – проходящего мимо зрителя лишь начатого фундамента будущего дворца, коего отвращает голая кладка, который скучает по квартирам верхних этажей, где еще нет и следа нижнего этажа, и который недоволен мастером-строителем за то, что тот не начал с крыши. Научные и популярные рассуждения взаимно вредят друг другу, когда они смешаны вместе; они взаимно поддерживают друг друга, когда они точно разделены. Когда мы однажды овладеем законченной и признанной системой полностью перечисленных, развитых принципов философии, облеченных в наиболее подходящие выражения: тогда для философского писателя, станет так же невозможно использовать искусственные слова и дидактические формулы в отрыве от научных дискуссий, как и выражать фундаментальные научные понятия метафорами и аллегориями.
Он будет знать, как говорить на научном языке с профессиональными философами, коим он должен дать окончательные основания для своих утверждений, и на популярном языке с не-философами, коим он должен дать только ближайшие основания. Для смешанной публики он будет знать, как писать тем популярнее, в общем-то, чем более – чем более совершенным будет его знание законов воображения, общих всем людям и определяемых природою способности воображения, коей подчиняются все его читатели, – позволит ему извлечь на свет то, что бесспорно истинно в преобладающих мнениях и убеждениях публики, с коими он должен связать доказательства своих утверждений, и поместить спорное в тень, пока оно не потеряет себя благодаря доказательствам того, что было установлено. Если наши популярные философы стремятся даже в своих научных учебниках стать понятными для всех классов читателей, то они становятся тем непонятнее в своих трактатах, предназначенных для смешанной публики, чем чаще они подмешивают в них метафизические искусственные слова и формулы, чье колеблющееся и двусмысленное значение они полагают общеизвестным, возможно, потому, что это стоило им так мало сомнений и разбивания головы.
То, что философский писатель, который делает определение границ и трактовку актуальной науки делом своей жизни и, следственно, в шумных размышлениях имеет перед глазами только философов по профессии, имеет менее досуга думать об украшениях здания, когда он занят его фундаментом; то, что он должен потерять в живости описательного воображения то, что он приобрел в тонкости препарирования; то, что искусство популярной декламации становится для него более чуждым в той же степени, что и для учёного мастера – это столь же неизбежное, сколь и неоспоримое следствие естественной ограниченности человеческого разума. Но и оно затрагивает лишь обработчика науки, фундамент которой еще не достроен, а не исполнителя полезных результатов уже сложившейся и очищенной науки, которому не требуется и десятой доли времени и усилий, чтобы понять то, что пришлось изобрести первому, и сделать своим то, что последний вложил в его руку; У него, следственно, достаточно досуга, чтобы изучать трудное искусство популярной декламации, упражнять таланты, относящиеся к нему, и почерпнуть у ораторов и поэтов столько же для прекрасного тела, сколько у философа профессии для духа своей будущей работы.
Разум, объединенный с самим собой во всех своих теоретических принципах, ограничивает творческое воображение только в интересах той цели, ради коей он занимается популярным представлением философских результатов. Каждый из его эффектов становится более выразительным в той мере, в какой направление его сил более определенно. Его сходства становятся более меткими, его картины более выразительными, его группы более гармоничными, выражение чувств более простым и ярким, игра остроумия более меткой, а унисон всех сотрудничающих способностей ума более поразительным: так как работа проницательности, направляемой продуманной системой принципов, становится более тщательной.
Пожалуй, нет более верного средства лишить философию всякого благотворного влияния на дела реальной жизни, чем попытка, столь популярная в последнее время у наших так называемых эклектиков, популяризировать научные принципы философии преждевременно. В то время как сии популяризованные принципы теряют всю свою применимость из-за своей неопределённости (коей можно избежать лишь путем строгой дедукции из конечных принципов), они приобретают своим распространением среди смешанной публики влияние, в коем всегда только от весьма случайных внешних обстоятельств зависит, будут ли дурные последствия ложного, которое в сих формулах соединено с истинным, лишь перевешивать или же быть перевешенными благими последствиями последнего. Со времен разумных метафизических мечтаний Мальбранша Франция не имела иной философии, кроме так называемой народной; и если популярность – истинный признак настоящей философии, то французская, возможно, опередила не только немецкую, но даже английскую.
Принципы Монтескьё, Руссо, Вольтера и др., кои, с точки зрения собственно научного содержания, суть лишь наполовину истинные во всех своих формулах, вытеснили также наполовину ложные максимы расточительства и деспотизма из образа мыслей той части нации, которая чувствовала себя подавленною последствиями сих максим, в то время как ей казалось, что идеалы Монтескьё, Руссо, Вольтера и др. обещали облегчение. Из-за неизлечимого состояния администрации, которая более не могла сдерживаться, и полной невыносимости ига, которое на большее число возлагалось меньшим, ныне большее число людей стало отстаивать большинством своих вооруженных сил ту популярную философию, которая сделала столь очевидным для всего переустройства французского государства отпечаток её колеблющегося смысла – что истинное проявляется в таком же количестве мудрых и справедливых установлений, как ложное – в поспешных и несправедливых действиях новых законодателей, и из-за сего у просвещенного гуманитария до сих пор оставалось сомнение: изменит ли Франция когда-нибудь свои политические пороки, лишь изменив их, или же подлинно уменьшит их? Вопрос, решение коего зависит от случайных внешних обстоятельств, например, от успеха финансовых операций, талантов и доброй воли министров и демагогов, изменений в политической ситуации в остальной Европе.
Пока у нас нет полной системы высших принципов, кои суть не что иное, как наиболее определённое выражение первоначальных законов силы воображения; пока мы заняты применением философских принципов до их всеобщего развития; пока мы работаем над прикладной философией, не обладая чистой философией: до тех пор и философ-профессионал в области опыта, и бизнесмен в области философии будут играть одинаково жалкую роль. Последний будет отвергать многие законы разума, от правильности коих зависит достоинство человечества, как беспочвенную софистику, только потому, что они опровергаются опытом.
Первый, с другой стороны, захочет привести множество действительно беспочвенных соображений о мире как законе природы. Незаменимость опыта и важность того вклада, который он должен внести в применимость философских принципов, не может быть доказана ничем лучше, чем строго научной формой сих принципов, в коей только и может полностью проявиться их действительное значение и границы их собственной действительности и из коей следует, что их применение должно зависеть не менее от количества и характера опыта, чем от реального владения самими принципами, которое состоит только в их ясном сознании.
Второе письмо.
О прежнем разногласии философствующего разума с самим собой касательно источника долга и права.
Ничто, дорогой друг, не может служить для кантовской философии более желанным оправданием её тщательных исследований конечных принципов человеческого познания, желания и воли, чем взаимно противоречивые суждения наших писателей о характере и происхождении долга и права, которые в последнее время столь громко и часто высказываются. Некоторая неопределённость и двусмысленность, обнаруженные в наших популярных и научных представлениях о естественном праве, – особенно в мнениях, высказанных до сих пор о Французской революции, и в оценках принципов, предположительно лежащих в основе нынешней Конституции Франции, – должны поразить любого беспристрастного наблюдателя как своим размахом, так и важностью своих последствий.
Я говорю здесь не о низших слоях нашей литературной публики, чьи суждения определяются отношением обстоятельств времени к их частной выгоде, и, следовательно, не об армии наших аристократических и монархических газетных писателей и публицистов, которые не более способны помыслить о концепции изначального равенства между людьми без действительного преступления против государства, чем произнести её без страха за свои привилегии и должности; – равно как и не о великой толпе наших демократических и космополитических апостолов свободы, у которых призвание просвещать век исходит из желудка, которые, возмущённые неравным распределением благ, проповедуют изначальное равенство и, усматривая причину того, что их заслуги остаются непризнанными и невознаграждёнными исключительно в ошибках государственных конституций, мечтают о золотом веке в состоянии природы. Я говорю здесь лишь о тех людях, чьи труды отмечены несомненной печатью самостоятельной силы мышления и которые единодушно или даже подавляющим большинством голосов неизбежно определяли бы образ мыслей нации, если бы среди поучительных результатов их исследований содержалось хоть одно утверждение, относительно смысла которого существовало бы единодушие или хотя бы большинство голосов.
Одна половина этих почтенных и заслуженных писателей восхваляет французских законодателей, другая же порицает их за то, что те приняли естественное право в качестве основы своей новой формы правления и дали положительную санкцию верховной власти государства этому праву, которое уже давно утверждалось одной партией философов как предрешённый вывод и столь же решительно отвергалось другой.
Для друзей естественного права нет ничего яснее того, что разумная природа человека должна приниматься в расчёт при создании и совершенствовании гражданской конституции; что этой природой определяются как определённые требования, от которых человек как гражданин может отказаться, так и определённые притязания, которые он как человек должен предъявлять государству; что без предпосылки определённых неотчуждаемых требований и неотъемлемых прав не может быть ни законности позитивных законов, ни святости договоров; что, следовательно, без предпосылки естественного права не может быть никакого позитивного права, и каждое государство, сколь бы хорошо оно ни было устроено, будет зависеть лишь от произвола отдельных своих членов, которые сумеют распорядиться своей силой, и от капризов случая, им благоприятствующего.