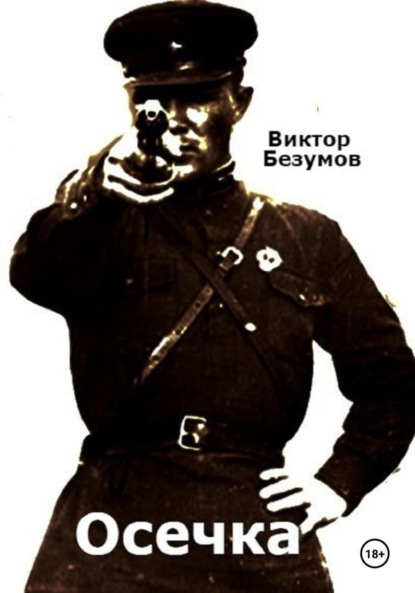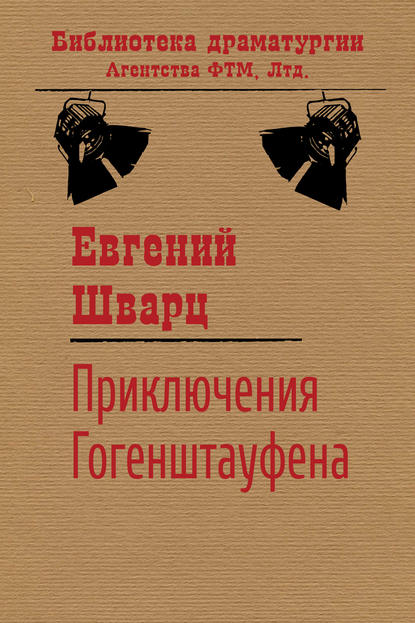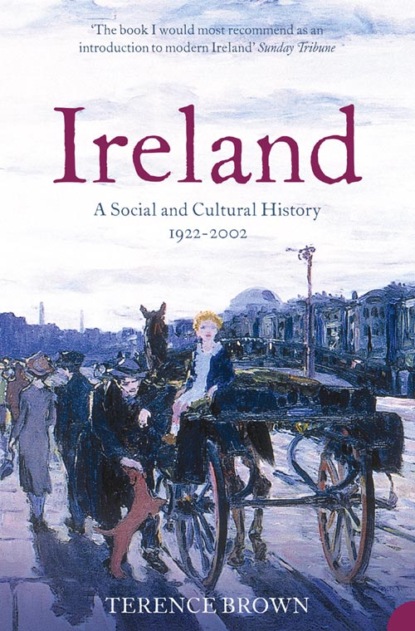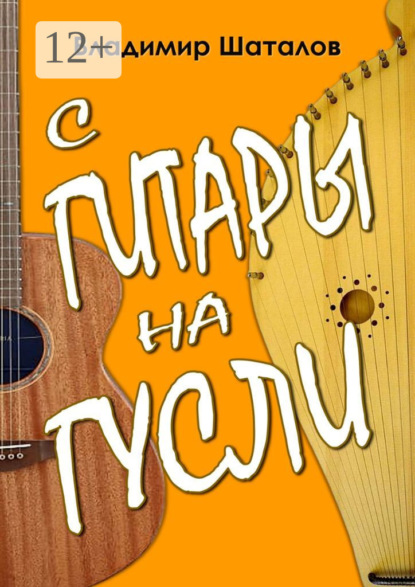Письма о кантовской философии. Том 2

- -
- 100%
- +
Но для противников естественного права столь же очевидна ничтожность права, которое, если бы и существовало, должно было бы существовать лишь в силу своих признанных и неоспоримых оснований, между тем как до сих пор не было приведено ни одного основания, со значением которого согласились бы даже его собственные защитники. Они, напротив, согласны в том, что так называемое право сильнейшего – единственное, что человечество принесло с собой из состояния природы в лоно гражданского общества; что разумная природа человека сформировалась и продолжает формироваться лишь в обществе и именно через борьбу между хитростью слабого и насилием сильного; что действительная сила позитивных законов зависит исключительно от силы законодателей и правителей, соединённой с благоразумием; что разум, согласно свидетельству опыта, даже в лучших государственных конституциях способен защищать более слабых лишь постольку, поскольку сам поддерживается физической силой; и что он может, следовательно, возвыситься до ранга источника всеобщих и равных прав и обязанностей лишь поскольку способен, например, посредством постепенного прогресса культуры, преодолеть ту глупость, благодаря которой большая часть человечества слабее лишь потому, что не знает, как использовать свои физические силы.
Нет ничего проще, чем убедить себя, что истина должна занимать среднее положение между мнениями противников и друзей естественного права. Это утверждалось и признавалось достаточно часто, притом что спорящие стороны не отходили от своих противоположных точек зрения и не приближались к этой середине. Ввиду полного отсутствия общих принципов, точное определение этого вопроса, которое могло бы удовлетворить бо́льшую часть самостоятельно мыслящих умов, абсолютно невозможно.
Я убеждён, что любое посредничество между защитниками и противниками естественного права, при котором обе стороны не отказываются полностью от своих прежних фундаментальных концепций, возможно лишь ценою отказа от того, что составляет, на мой взгляд, подлинное естественное право. Так, например, большинство противников, без сомнения, сняли бы свои возражения, если бы защитники признали, что они «не хотят понимать под естественным правом ничего иного, кроме изначальных сил человеческой природы, которые основаны на эгоистическом инстинкте, руководимом разумом и подчиняющемся ему лишь в силу собственной выгоды, и которые применяются в гражданском обществе лишь постольку, поскольку совместимы с пользою государства; каковое обстоятельство сначала должно быть определено позитивным законодательством». Но я убеждён, что такое соглашение между сторонами было бы худшим, что могло бы случиться с естественным правом. Оно полностью устранило бы всякую возможность в будущем открыть истинную и всеобщую форму этого права; возможность, которая, пока эта форма реально не существует, может быть подготовлена и вызвана лишь продолжающимся разногласием сторон.
В современном состоянии нашей научной и нравственной культуры ничто не является одновременно столь ясным и столь туманным, столь устоявшимся и столь спорным, столь правдоподобным и столь загадочным, как основание наших естественных обязанностей и прав. С одной стороны, существование этих обязанностей и прав заявляет о себе через чувства, которые не могут быть совершенно чужды ни одному человеку, претендующему на звание морального; через чувства, которые выражаются даже в обыденном сознании в правильности суждений о правом и неправом, что не может быть следствием научных открытий; чувства, которые делают невозможным даже для самого искушённого мыслителя опровергнуть веление своей совести о неправомерности поступка, каким бы умозрительным убеждением, отменяющим различие между добром и злом, он ни руководствовался. С другой стороны, однако, действующая причина этих чувств не только находится вне круга зрения обычного человека, но и сама настолько далека от той точки зрения, которую философский разум приобрёл в своём развитии до «Критики чистого разума», что её подлинная форма может быть воспринята лишь весьма смутно и в самых разных видах даже самыми проницательными исследователями, которые в силу каких-либо обстоятельств остались на этой точке зрения или даже позади неё, при всех возможных направлениях их индивидуальных точек зрения.
Из противоречия между ясностью чувств и смутностью понятий об объекте естественного права можно объяснить все перипетии этой науки, столь разнообразно утверждаемой, отрицаемой, подвергаемой сомнению, оспариваемой и защищаемой. Благодаря ясности этих чувств естественный закон в равной степени уверен в своём реальном существовании в качестве субстанции умопостигаемой науки, сколь из-за смутности понятий он лишён возможности утвердить свои притязания на форму науки и на существование в качестве таковой. Поскольку этот последний вид существования обычно смешивается с первым как противниками, так и защитниками, нет ничего понятнее, чем то, каким образом один мыслитель, который судит о естественном праве либо согласно одной из различных установленных до сих пор фундаментальных концепций, которую он постичь не может, либо согласно всем им вместе, взаимно друг друга уничтожающим, может и должен полностью отрицать его реальность, – другой же, напротив, который держится за некую такую фундаментальную концепцию и считает различие между нею и другими лишь случайным, может и должен эту реальность утверждать. Оба связывают существование самой вещи с концепцией, которую они либо принимают, либо отвергают; меж тем как объект её, вне сферы науки, заявляет о себе единственно через чувства, которые по своей природе, несмотря на всю свою ясность, должны оставаться неотчётливыми и, несмотря на всю свою непогрешимость, должны быть отчасти непостижимыми, отчасти непостигнутыми, пока философствующий разум не придёт к согласию с самим собой относительно их действующей причины. Поскольку ни одна философия до сих пор не выявила эту действующую причину, а вместе с нею и истинное фундаментальное понятие естественного закона, которым определяется его научная форма и существование, то в этом отношении естественному праву до сих пор приходилось испытывать в равной мере значительные преимущества и недостатки как от своих противников, так и от своих защитников. Если заслуга противников в том, что они предотвратили принятие какой-либо ложной формы естественного права, а заслуга защитников – в том, что они способствовали вере в реальность его сущности, то столь же неоспоримо, что судьба, которую естественное право до сих пор имело в законодательстве, государственном управлении и вообще в позитивной юриспруденции, в значительной мере принадлежит его философским противникам и защитникам, и что последние имеют наибольшую долю в неправильном применении, а первые – в полном подавлении принципов естественного права, из коих то одно, то другое так поражает моральное чувство в нашей позитивной юриспруденции. Друзья естественного права никогда не смогут утвердить его существование против его противников, пока они связывают это существование с неопределённой и неверной концепцией этого права, а противники никогда не смогут доказать эту неопределённость и неверность защитникам, пока те продолжают отрицать существование права, которое ставится выше всех сомнений моральным чувством. Против них обоих естественное право требует защиты своей чести: за свою неверно оценённую реальность – в отношении своих противников, и за свою неверно оценённую научную форму – в отношении своих друзей; предприятие, которое, ввиду отсутствия до сих пор последовательно определённых и универсально применимых принципов, по общему признанию, возможно лишь в виде намёков, но которое будет тем понятнее для вас, мой друг, поскольку вы в равной степени недовольны действиями как друзей, так и противников естественного права. Намерение моего последующего рассмотрения ни в коем случае не состоит в том, чтобы установить определённую концепцию права и долга – дело, для которого недостаточно одних намёков; – но в том, чтобы обратить ваше внимание на основательность и необходимость результатов философии Канта, которые к сему относятся.
Даже тот защитник естественного права, который считает необходимость, а следовательно, и реальность его строго доказуемыми из определённого представления о нём, которым он, по его мнению, обладает, должен признать, и даже обычно утверждает это сам, что долг и право также заявляют о себе через чувства. Он не может скрыть от себя, что добро и зло существовали задолго до той концепции, которую он, либо сам, либо вместе с некоторыми учителями естественного права, считает единственно верной; и что моральный закон должен был бы связывать лишь философов, и только ту их часть, которой посчастливится найти якобы верную фундаментальную концепцию его истинности; что он вообще не может существовать для огромного мира не-философов; если его требования и их основательность могут быть поняты только через концепцию, которая предполагает редкие предварительные знания и большие усилия образованной силы мысли, и которая, тем не менее, даже со всеми этими вспомогательными средствами, может быть достигнута лишь немногими самостоятельно мыслящими людьми. Будет ли гражданин вообще, и особенно простой человек, связан позитивными законами государства во всех случаях, когда он может избегнуть принуждения, если справедливость этих внешних законов и связанного с ними принуждения не станет для него очевидной (или, по крайней мере, не должна становиться очевидной) через внутренний закон, от которого предполагается, что он в состоянии предписать его для себя и признать его нерушимым? Внутренним законом, без признания которого судьи были бы вынуждены принять оправдание преступника, что он надеялся избежать наказания и потому не считал себя обязанным, или признаться самим себе, что они управляют по простому закону сильнейшего? Внутренним законом, одним словом, который настолько же ясен для чувства простого человека, насколько он запутан, двусмыслен и спорен для мысли философов? Поэтому различные и взаимно противоречащие фундаментальные концепции морали и естественного права следует рассматривать лишь как столь же различные попытки постичь происхождение и действующую причину чувства, которое существует независимо от всех этих концепций, предшествует всем философским рассуждениям о долге и праве и представляет собой общую задачу для всех рассуждений о морали и естественном праве. Хотя некоторые философские партии считают это чувство простым следствием его объекта, который, по их мнению, был продемонстрирован независимо от чувства метафизическими причинами, и который, по их мнению, может быть понят обычным человеком, но ясен только философам, есть, тем не менее, другие, которые считают это чувство основанием его объекта, который будет существовать для человека только через него. Так, например, Руссо искал чувство несправедливости в способности умиляться при виде чужих страданий и нашёл его здравым*); а известный немецкий философ морали полагает, что вывел причину именно из этого чувства, из благожелательности, или способности получать удовольствие от процветания других. Согласно одному из них, несправедливость будет распознаваться исключительно неприятными чувствами, а согласно другому, позитивный долг будет распознаваться и приятными чувствами, посредством представления о дурных и хороших последствиях, которые произвольное действие имеет для состояния наших ближних; и в обоих случаях причина обязательного характера естественного закона в конечном счёте будет заключаться во врождённом стремлении к удовольствию и отвращении к неудовольствию.
Убеждённые, что удовольствия и неудовольствия от добра и зла существенно и по роду отличаются от тех, которые сопровождают представление о посторонних удовольствиях и страданиях, и что в противном случае справедливость и несправедливость должны зависеть только от более сильной или слабой раздражительности нервов и большей или меньшей живости воображения, – некоторые отечественные философы приняли для чувства, из которого они выводят существование морального закона и естественного права, особый, своеобразный смысл, который нашёл много защитников даже в Германии под названием нравственного чувства. Согласно этой системе, мораль и закон заключаются в простом направлении воли, которое определяется не разумом (под которым до сих пор привыкли понимать только силу мысли) и не восприимчивостью к физическому удовольствию и неудовольствию, а инстинктом, свойственным человеческой природе, причём инстинктом, который не может быть объяснён из своего объекта по той самой причине, что он удерживается в сознании лишь им. Сознание этого инстинкта называется нравственным чувством вообще, к которому чувство долга и права относятся как виды к роду. Не сам этот инстинкт, а воспринимаемое соответствие акта воли ему, заявляет о себе удовольствием, а воспринимаемое противоречие – неудовольствием; оба они, поскольку являются не причиной, а лишь следствием предшествующего требования инстинкта, абсолютно, как и сам инстинкт, бескорыстны, и именно поэтому существенно отличаются от всех физических удовольствий и неудовольствий, и должны быть обозначены именем моральных чувств. Поскольку при таком способе объяснения детерминантой долга и права полагается нравственное чувство; поскольку оно делается независимым от рассуждений и всех метафизических спекуляций; поскольку его непосредственное доказательство, которым оно является и в обычном человеке, становится понятным, благодаря чему оно приводит даже простого человека к правильному суждению о правомерности или неправомерности того или иного действия ещё до расчёта его последствий; и поскольку, помимо всего этого, утверждается и обосновывается неизменность долга и закона при всей изменчивости их применения к отдельным случаям, а также благородное бескорыстие и строгая беспристрастность, составляющие характер справедливости: достаточно понятно, как система нравственного чувства нашла большое признание среди благородно настроенной нации, столь выгодно отличающейся от всех других торжественной серьёзностью и живостью духовного чувства.
То обстоятельство, что эта система выводит долг и право из импульса, который можно лишь принять за факт и не объяснять далее, который можно характеризовать только его последствиями, а не постигать его причину, который можно воспринимать лишь через чувства и не сводить к понятиям, – сделало её либо подозрительной, либо неприятной для большей части немецких философов. Тем не менее, её следовало бы рекомендовать тем более в Германии, чем больше было неудачных попыток, с помощью которых наша философия, или, скорее, наши философии, пытались объяснить причину морального обязательства, и чем естественнее, при таком большом количестве взаимно противоречивых мнений по одному и тому же вопросу, должно было возникнуть предположение, что этот вопрос должен содержать нечто необъяснимое. Но о необъяснимости этой причины эти философии не имели отчасти никакого представления, отчасти лишь смутные подозрения, но, конечно, никакой определённой концепции. Наши догматические метафизики считали своим профессиональным долгом объяснить всё, не исследовав предварительно и не согласовав между собой, что вообще можно объяснить; – а наши популярные философы полагали, что стали мудрее, оставив нерешённым всё, в чём они подозревали нечто необъяснимое, или, что было для них не менее важно, где они сталкивались с трудностями. Одни считали, что в состоянии понять всё с помощью закона противоречия; другие, руководствуясь здравым смыслом, не желали понимать ничего, о чём бы этот оракул ничего не изрёк.
К счастью для чувства долга и права, оно оказалось в ряду изречений здравого смысла, которые следует принимать без дальнейшего исследования, или, как предпочитают выражаться, без размышлений; но вскоре его стали рассматривать как путаную идею, которую можно разрешить в ясные [понятия] по закону противоречия.
Считается, что этот последний шедевр философского искусства и природы был достигнут теми, кто ищет основание моральных обязательств, с одной стороны, в разуме, который способен мыслить и, следовательно, одобрять лишь единство многообразного, или, как они его называют, совершенство, и, с другой стороны, в удовольствии, которое они рассматривают как смутное представление этого самого совершенства и с помощью которого они определяют волю желать того, что одобряет разум. Но так как всякое удовольствие, даже грубо чувственное, называется в этой системе неясным понятием совершенства, а всё, что разум должен мыслить, должно быть единством многообразного: то приверженцы её ещё не согласились между собою, каково должно быть это совершенство, которое в нравственном чувстве смутно воображается, а в основных понятиях долга и права ясно мыслится? – Является ли [оно] совершенством действующей личности, или – вселенной, или того и другого одновременно? И что, наконец, является той единой вещью, к которой должно относиться многообразие в личности и во вселенной, если совершенство должно возникнуть в обоих? Двусмысленность слова «совершенство» избавила большинство вольфианцев от этого вопроса, так как они смогли найти в каждом употреблении этого слова тот смысл, который им был нужен. Так, некоторые объясняют совершенство, которое должно составлять предмет нравственного чувства, как соответствие воли закону разума. Поскольку они не могут понимать под этим законом логический закон мысли, не объявляя проступки и несправедливость простыми теоретическими ошибками и не путая мораль с логикой, они представляют себе моральный закон под ним в виде круга в объяснениях, обязательная сила которого, когда выясняется его причина, снова выводится ими из идеи того совершенства, которое заключается в желании следовать этому закону. Тот, кто видит среди них достаточно остро, чтобы осознать эти круги, и имеет достаточно мужества, чтобы захотеть выйти из них, лишь подвергает себя ещё худшей неясности. Поскольку он никогда не должен терять из виду удовольствие как главную движущую силу и совершенство как объект морального обязательства, он видит себя вынужденным, в результате точного поиска определённого понятия этого совершенства, остановиться, наконец, на совершенстве своей личности, или вселенной, или обоих одновременно, и искать причину всего этого совершенства в конечной цели, или цели, которая, вместе взятая, установлена для его личности, вселенной и обоих, либо по необходимости природы, либо по воле Божества. Поэтому он вынужден искать основание своего фундаментального понятия долга и права в метафизике, и либо в атеизме, либо в теизме; либо он должен признаться себе в беспочвенности всех понятий долга и права и объяснять их, как догматический скептик, из общей беспочвенности всех научных понятий; либо, если его нравственное чувство слишком громко заявляет о своём несогласии с этим, ему ничего не остается, как искать успокоения своего сердца, в котором ему отказывает разум, в лоне сверхъестественной веры. Назначенные преподаватели философии, вынужденные в силу политических обстоятельств работать в одном и том же русле, – конечно, не всегда могут быть столь точны в изложении причин предписанного решения предписанной проблемы. Они, как показывают их учебники, в большинстве своём согласны с тем, что конечная причина морального совершенства, или цель, ради которой всё в человеке и во вселенной должно гармонировать, чтобы из этого возникло совершенство, являющееся причиной морального чувства, состоит в счастье разумных существ. В концепции этого счастья либо мораль, которая должна быть его результатом, которая должна определяться им, снова помещается как существенный компонент и как самое благородное основание счастья; либо вся концепция с помощью риторической обработки помещается в удобную обёртку, в которой наша популяризированная философия до сих пор так хорошо себя чувствовала. Одним из следствий живого ощущения этого комфорта является «одурманивание», при котором наши моральные философы забывают, что под счастьем они сами опять-таки понимают не что иное, как совершенство состояния приятных ощущений всех видов, и что поэтому их объяснение, или их якобы ясное понятие морального чувства, если подчинить их собственные объяснения [требованию] ясности, должно читаться следующим образом: «[Моральное чувство] есть неотчётливая идея того совершенства, которое состоит в нравственном волении, то есть в смутной идее того совершенства, которое является конечной целью и называется блаженством, или совершенством состояния неотчётливых идей совершенства».
В каждой попытке обосновать мораль и естественное право реальность чувства добра и зла признаётся постольку, поскольку пытаются объяснить его причину. Но как мало пользы от такого признания для морали и естественного права, видно уже из одного того обстоятельства, что в каждом из этих способов объяснения моральное чувство исходит из разного основания, в каждом ему приписывается разный объект, а под общим названием долга и права подразумевается нечто совершенно иное в самом деле. Если наши популярные философы утверждают, что различие между принятыми ими фундаментальными понятиями, как это имеет место повсеместно в морали и естественном праве, случайно, и находят его лишь в различии названий, то я утверждаю, руководствуясь самым глубоким убеждением, что приверженцы всех до сих пор созданных систем морали и естественного права не согласны в сущности своих фундаментальных понятий и сходятся лишь в названиях. Я допускаю, что в каждом из этих различных фундаментальных понятий нравственное чувство характеризуется существенным признаком своего объекта; но также лишь одним, который в сочетании со случайным признаком принимается за всю сущность, за весь объект. Каждое из этих понятий находится в прямом противоречии с другим, отличным от него, поскольку в нём устанавливается и возвышается до всей сущности другая существенная характеристика, и, следовательно, через него другая сущность придаётся долгу и праву. Я могу пояснить эту мысль, которая получит своё полное подтверждение только в моём следующем письме, здесь лишь на постороннем примере. Если одна философская секта будет утверждать, что животная природа, а другая – что разум – это сущность человечества, то обе будут знать человечество по одной из его существенных характеристик, но обе будут одинаково неверно оценивать его сущность. Оба они, несмотря на бесспорно истинные вещи, которые они могли бы выдвинуть в своих системах о человеке, один – о его животной природе, другой – о разуме, тем не менее, никогда не сказали бы ничего истинного о действительной природе человека и согласились бы лишь в простом названии объекта, сущность которого, как им казалось, они постигли. Такова была судьба прежних систем морали и естественного права под руками хранителей и защитников этих наук.
Противники естественного права не ставят под сомнение существование чувства добра и зла. Но поскольку в своей характеристике этого чувства они упускают все его существенные черты, у них не остаётся ни одного из тех определений для того, что называют законом, которые языковой обиход связывает со словами «естественный закон». Они признают, что это словосочетание не имеет для них никакого значения в данном контексте; или, что значит то же самое, они отрицают естественный закон. Они отрицают его, говорю я, отрицая как бескорыстие чувства добра и зла в отношении его источника, так и необходимость и неизменность его в отношении его объекта. Эта цель вытекает из обязанности гражданина подчинить собственную выгоду выгоде государства. Но причину этой обязанности, которую они отнюдь не находят в выгоде отдельного гражданина во всех случаях, когда она признаётся имеющей место, они ищут в силе общества в целом, которая превосходит силу каждого отдельного человека. По их мнению, у государства в целом нет другого права, кроме права отдельного гражданина, которое определяется его потребностями и физическими силами, и благодаря которому оно имеет возможность предотвращать принуждением такие действия отдельных его членов, которые несовместимы с его сохранением, и производить такие, которые для него необходимы. Поэтому они не отрицают, что, согласно этим предпосылкам, лишь корыстный инстинкт индивида определяет его принять обязательство, налагаемое на него преимуществом государства, и которое во всех случаях, когда принуждение может быть сорвано и никакое преобладающее частное преимущество не является решающим, устраняется самим же корыстным инстинктом. Правда, они также признают, что даже в таких случаях вредные действия нередко сопровождаются неприятными ощущениями, а благотворные – предотвращаются ими. Но они объясняют этот факт как следствие воспитания и привычки; и на примере скряги, который забывает о самом удовольствии, гонясь за средствами к нему, или, скорее, находит его в простом обладании этими средствами, они полагают, что могут хорошо понять, как человек, при изначальном эгоизме всех его инстинктов, может, тем не менее, страшиться действий, вредных для общего блага, и любить действия благотворительные, когда он не предвидит для себя никакого реального ущерба от одних и никакой реальной выгоды от других. В этой системе всё, что человек может совершать без ущерба для себя, является его правом, и только это – правом природы, которое он может осуществлять своими физическими силами как индивид. Это естественное право ограничивается гражданским правом государства, или тем, которое общество может принудительно осуществить без вреда для себя, и полностью упраздняется во всех тех случаях, когда общество может утверждать требования своей необходимости своим перевесом сил над индивидами. Но поскольку эти случаи никоим образом нельзя подвести под общие правила (ибо они зависят от случайного стечения меняющихся обстоятельств), не может существовать ни естественное право, ни социальное право, основанное на общих принципах a priori. Всё реальное право, как бы оно ни называлось, должно быть предоставлено на усмотрение частного и общественного благоразумия, с помощью которого великий естественный закон корысти, сколь бы всеобщим он ни был, применяется в качестве единственного конечного принципа – то как частная выгода, то как razón de Estado (государственный интерес) – к индивидуальной ситуации каждого конкретного обстоятельства.