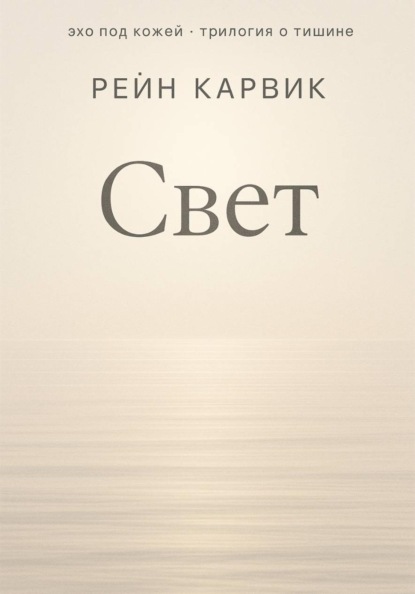Дождь

- -
- 100%
- +
Море за стеклом было неподвижным. Свет от дождя ложился на поверхность ровно, без бликов, и казалось, будто вода перестала течь. На стекле капли почти не двигались. Мир застыл в прозрачности, как нота, вытянутая до предела.
Я смотрела, как одна капля срывается и тянет за собой другую, и слышала – внутри дома что-то отзывается. Каждое падение капли вызывало отклик – не звук, а дыхание, движение воздуха.
Внизу, на пианино, лежала тетрадь. Я оставила её закрытой, но теперь страницы были раскрыты, как крылья. Бумага чуть дрожала, будто кто-то недавно провёл по ней рукой. Я спустилась вниз, чувствуя под ногами холод досок, влажных от ночного воздуха.
Тетрадь открылась на новом развороте. Слева – несколько строчек нот, справа – короткая фраза, едва заметная, как отпечаток дыхания на стекле:
«Не ищи звук – будь им.»
Я провела пальцами по буквам, и в этот момент пианино ответило. Первая нота прозвучала тихо, но чисто. Потом вторая. Третья. Они не образовывали мелодии – просто существовали, как капли дождя, не нуждающиеся в ритме.
Я стояла и слушала. Не боялась. Не пыталась понять. Вся моя жизнь до этого момента – одно сплошное объяснение, и теперь я вдруг почувствовала, что ничего не обязана объяснять. Всё, что нужно, уже звучит.
Я подошла ближе и положила ладони на клавиши. На них была влага – не вода, скорее след воздуха, насыщенного дождём. Я нажала одну клавишу. Она ответила звуком, знакомым, как имя, которое тебе шепчут во сне.
В этот момент я поняла – это не галлюцинация. Не бред. Не болезнь. Это память, нашедшая выход. Она перестала быть прошлым. Она просто перешла в другую форму.
Я играла. Медленно, почти неслышно. Дом дышал в такт. Море отозвалось низким гулом. Даже дождь, казалось, подстроился под темп. Всё вокруг стало партией, частью одной композиции, которую не нужно записывать – потому что она всегда существовала.
И вдруг я услышала шаги. За спиной, мягкие, ровные, как дыхание. Они не приближались и не удалялись, просто были рядом. Я не оборачивалась. Не нужно было. Я знала этот звук. Знала, как он идёт, чуть замедляясь на последнем шаге.
В комнате стало чуть теплее. Воздух плотнее. На миг показалось, что позади меня кто-то стоит. Не как призрак, не как видение – просто присутствие. Мир стал двоен, но не противоречив. Я – здесь. И он – тоже. Не в теле, не в голосе. В звучании.
Я продолжала играть, и звук становился всё мягче. Музыка текла, как вода, сливая всё – время, дыхание, дождь. Я не чувствовала пальцев, не чувствовала тела. Только звук, только вибрацию, которая соединяла всё во мне и вокруг.
Потом внезапно – тишина. Полная. Как если бы кто-то одним движением выключил весь мир. Даже дождь замолк.
Я осталась сидеть, не двигаясь. Сердце билось громче, чем раньше, – так громко, что я услышала его ритм в висках. И в этом ритме – три, пять, три, два, один.
Я поняла: теперь ритм не снаружи. Он во мне. Он – я.
Я встала, подошла к окну. Снаружи – ни ветра, ни дождя. Лишь белое небо и неподвижное море. Свет был таким чистым, что всё казалось вымытым изнутри.
Я прикоснулась к стеклу. Оно было тёплым. И вдруг увидела в отражении не себя – точнее, не только себя. За моим плечом – лёгкий силуэт, расплывчатый, как след на воде. Он стоял спокойно, без движения.
Я не отпрянула. Я просто улыбнулась.
– Всё в порядке, – сказала я. – Я слышу.
Силуэт не исчез, но стал прозрачнее. Сквозь него виднелось море. Оно было похоже на зеркало, отражающее небо.
И вдруг мне показалось, что границы между всем – между домом и водой, между мной и им, между звуком и тишиной – исчезли. Осталось только дыхание. Одно. Общее.
Я закрыла глаза. В груди – тепло, как после долгого выдоха. В голове – не слова, не мысли, а ощущение, будто кто-то тихо положил ладонь на сердце и сказал: теперь можешь не бояться.
Я стояла так долго. Потом вернулась к пианино, закрыла крышку.
На тетради – новая строчка, едва различимая, написанная, кажется, моим почерком:
«Когда дождь уйдёт, останется тишина. Но это не конец, это её форма.»
Я провела пальцем по этим словам. На коже остался след чернил.
За окном солнце впервые пробилось сквозь облака. Свет упал на зеркало между окнами, и на мгновение комната наполнилась отражённым золотом.
Я посмотрела на своё отражение – теперь без тени, без силуэта. Только я.
Но в тишине всё ещё слышалось дыхание.
И я знала: это не прошлое, не галлюцинация, не призрак.
Это просто музыка, ставшая мной.
Дождь закончился.
Но ритм остался.
Три, пять, три, два, один.
И в этой тишине между окнами я наконец поняла – это не звук утраты. Это звук жизни, которая научилась помнить.
Глава 4. Город, где никто не смотрит в глаза
На третий день после дождя я впервые вышла в город. Море к этому времени стало тихим, почти вежливым – как будто извинялось за недавний шторм. Воздух был прозрачным и немного солёным, от него кружилась голова. Всё вокруг выглядело чище, чем я помнила: мокрая мостовая отражала небо, а дома, покрытые слоем соли и времени, казались хрупкими, как старые открытки, пережившие чью-то нежность.
Я шла медленно, не потому что устала, а потому что боялась нарушить ритм этого утра. После дней, проведённых в доме, шаги по камню звучали непривычно громко. Казалось, город слышит меня, считает, запоминает. Иногда из окон выглядывали люди, но когда я поднимала взгляд, шторы мягко сдвигались, будто случайно. Никто не улыбался. Никто не встречался глазами.
У каждого здесь был свой темп, своя тишина. Продавщица у лавки молча взвешивала яблоки, старик, сидевший на скамейке у аптеки, глядел на землю, а мальчишка, проходя мимо, прижимал к груди собаку, не поднимая головы. Даже птицы летали низко и будто нарочно не пересекались с моим взглядом.
Я вспомнила, как Алекс однажды сказал: «Есть города, где люди смотрят вверх, потому что им некуда больше смотреть. А есть такие, где все смотрят вниз, чтобы ничего не забыть». Тогда я посмеялась, не поняв, о чём он. Теперь понимала слишком хорошо.
Город был как дом – только большего масштаба. В нём тоже что-то звучало. Не громко, неразборчиво, как если бы кто-то пробовал настроить инструмент. Улицы звенели от ветра, фонари – от ржавчины, окна – от старого стекла, которое дрожало при каждом шаге.
На перекрёстке я увидела кафе. Дверь была приоткрыта, и изнутри пахло кофе и мокрым деревом. Табличка над входом покосилась, буквы поблёкли, но название я смогла разобрать: “Точка росы”.
Внутри было почти пусто. За стойкой стояла женщина с тугим пучком и глазами, в которых отражалось окно, но не я. В дальнем углу – мужчина, спиной к залу, перед ним чашка, дымящаяся ровным паром.
Я выбрала место у окна, заказала чёрный кофе, хотя не пила его уже несколько лет. Ожидание казалось здесь частью ритуала: всё происходило медленно, с каким-то внутренним благоговением к паузам. Даже ложка, когда я перемешивала сахар, звенела так, будто проверяла воздух на прочность.
Когда я поднесла чашку к губам, старик в углу обернулся. Лицо – узкое, серое, с морщинами, которые выглядели не как следы возраста, а как карта трещин по телу камня. Глаза – светлые, почти прозрачные. Он смотрел не на меня, а сквозь, как будто видит то, что стоит за моей спиной.
– Вы не отсюда, – сказал он. Не спрашивая, просто констатируя.
– Нет, – ответила я. – Я… из этого дома, у моря.
Он кивнул, будто всё понял. Сделал глоток, поставил чашку.
– Некоторые дома здесь помнят сильнее, чем люди, – произнёс он. – Особенно если в них когда-то звучала музыка.
Я подняла глаза.
– Вы знали Алекса?
Старик не ответил сразу. Только слегка улыбнулся.
– Здесь все его знали. Только никто об этом не говорит.
Он произнёс это спокойно, без загадочности, но в его голосе было ощущение чего-то, что лучше не трогать.
– Почему? – спросила я.
Он посмотрел в окно.
– Потому что он ушёл не один.
Я почувствовала, как холод проходит по коже. Внутри стало тихо, будто мир затаил дыхание.
– Что вы имеете в виду?
Он медленно повернул голову ко мне.
– Иногда, – сказал старик, – человек уходит, но дом не отпускает всё, что было с ним связано. Музыку, слова, дыхание. Всё остаётся. Дом продолжает жить этой памятью. И если кто-то возвращается туда, он начинает слышать. Не потому что ему мерещится. Потому что дом помнит.
Я смотрела на него, не мигая. Слова казались слишком близкими к тому, что происходило со мной.
– А если память говорит со мной? Если она звучит, как будто кто-то рядом?
Старик усмехнулся.
– Тогда не мешайте ей. Здесь это безопасно. Только не задавайте вопросов. Город не любит, когда его спрашивают о прошлом.
Он снова отвернулся к окну. Его отражение в стекле выглядело моложе, чем лицо. Я не могла отвести взгляд – казалось, в отражении он шепчет что-то себе под нос, но губы не двигались.
Когда я вышла, воздух стал гуще. Солнце пыталось пробиться сквозь облака, но свет казался здесь чем-то лишним, непрошеным. Люди по-прежнему не смотрели в глаза. Каждый шёл по своей траектории, как будто видел вокруг себя невидимые стены.
Я шла по улице, ощущая лёгкое покалывание в пальцах. Мир был плотный, звенящий. На перекрёстке я услышала, как где-то за спиной звякнуло стекло – коротко, звонко, точно в такт шагам.
Я обернулась – никого.
Тогда я поняла, что город звучит не только внешне. Он живёт на той же частоте, что и дом. Только если дом говорит шёпотом, то город – дыханием множества. Каждая улица – как такт, каждая дверь – пауза, каждый человек – звук, который не хочет быть услышан.
Я шла и слушала.
Гул электрических проводов.
Плеск воды в ливневках.
Далёкий лай собаки, повторяющийся каждые восемь секунд.
Это всё складывалось в мелодию.
И вдруг мне стало страшно: не от звуков, а от того, что я больше не различаю, где музыка, а где просто жизнь.
Я остановилась у витрины старого магазина. За стеклом – пыльные манекены, бледные, почти прозрачные. Они стояли вплотную друг к другу, и у всех были опущены головы. На одном из них – белая рубашка, в точности как та, что была на Алексe в тот вечер.
Я подняла руку, коснулась стекла. Оно было холодным, но на секунду мне показалось – под пальцами отзывается пульс.
Может, просто дрожь от ветра.
А может, город дышит через свои окна.
Когда я вернулась домой, небо снова потемнело. В воздухе висел запах грозы – не сильной, а той, что не собирается начаться. Я закрыла дверь, прислонилась спиной к стене и впервые за долгое время почувствовала одиночество не как пустоту, а как форму тишины, которая ждёт, чтобы кто-то произнёс её вслух.
Я прошла к окну. Вдали виднелся город – его крыши, огни, узкие линии улиц. И я поняла: всё, что я слышала сегодня, всё, что говорил старик, – не о нём. Это всё о доме. О тех, кто не ушёл до конца.
Я открыла тетрадь. На последней странице – новая фраза, написанная едва различимыми чернилами:
«Город помнит тех, кто слушает.»
И я знала – завтра я снова туда пойду.
Потому что теперь мне нужно услышать не только дом.
Мне нужно услышать, как звучит город, где никто не смотрит в глаза.
Утро было ровным, как чистый лист. Никаких скачков света, никаких внезапных звуков – только тонкая вибрация моря вдалеке, будто кто-то нащупывал первую ноту. Я надела пальто, спрятала волосы под шарф и вышла в город, заранее решив: сегодня – просто идти, слушать и ничего не спрашивать. Старик из «Точки росы» сказал, что город не любит вопросов. Иногда с музыкой так же – спросишь лишнее, и она запнётся, уйдёт в тень.
Улицы после дождя выглядели будто только что протёртые чьей-то невидимой ладонью. Водостоки тихо дышали, стеклянные витрины отражали бледное небо, а в них – меня, смазанную, чуть медленнее настоящей. Я отметила это с холодной ясностью: здесь отражения всегда опаздывают – на долю такта, на короткий вдох. И это опоздание почему-то успокаивало.
На углу – киоск с открытками. На стойке аккуратно разложены виды нашего города: маяк в тумане, набережная в лунной полосе, чайки на перилах. Девочка-подросток, сутулая, в куртке, великоватой на размер, сидит на табуретке и листает телефон. Я остановилась, взяла одну открытку – на ней мой дом с моря, снятый издалека: белое пятно стен, тёмная полоска крыши, спящий склон. С обратной стороны – пусто, кроме едва заметной вдавленности, словно кто-то пробовал писать карандашом и передумал.
– Сколько? – спросила я.
Девочка пожала плечами, не поднимая глаз:
– Как хотите.
Я положила монету – щёлкнуло по дереву звонко, непривычно для такой тихой улицы. Девочка кивнула, но не посмотрела. Я повернула открытку так, чтобы свет лёг на следы от почти-надписей. При некотором наклоне проступила тонкая линия: «дом дышит». Я моргнула, и надпись исчезла. Наверное, просто царапина бумаги. Я убрала открытку в карман.
Дальше был рынок – небольшой, всего десяток столов под козырьком. Рыбаки, молча, без лишних жестов, раскладывали серебро рыбы на льду, раздвигая ножом, как листы партитуры. У одного кончики пальцев были окрашены в синеву – не от моря, нет, от метиленового карандаша, которым он помечал коробки. Он ловко поднял глаза – и тут же опустил, будто обжёгся. Я спросила самую простую фразу, которая пришла в голову:
– Свежая?
Он кивнул. Ничего больше. Но в этом кивке я услышала: «Сегодня – да. Вчера – нет. Завтра – как море позволит». В городе, где никто не смотрит в глаза, движения берут на себя работу слов.
На сквозном проходе, между рынком и портом, стоял передвижной стенд с фотографиями. Сначала я подумала, что это школьная выставка – снимки были сняты простой камерой, прямо, без позы. Люди на них не улыбались. Многие отвернулись. Дата внизу каждой карточки – без года, только «октябрь, понедельник», «апрель, среда». У некоторых снимков не было подписи вовсе; у некоторых – только место: «у пристани», «у старого пирса», «у маяка». Я стояла, чувствуя, как из-под фотографий поднимается холод, похожий на сквозняк в пустой комнате.
– Красиво, да? – рядом возник голос женщины. Она держала в руках ножницы и рулон крафтовой бумаги, как хористка – нотную тетрадь. – Мы так запоминаем.
– Что именно? – спросила я.
Она задумалась, прикусила губу:
– Не лиц – места. Лица меняются. Места – звучат дольше.
Она отвернулась, быстро, как будто сказанное было лишним. Я осталась одна перед стендом, и мне внезапно стало не по себе от того, как спокойно город согласился с идеей, что лица – вторичны. Я вспомнила, как Алекс однажды сказал: «Если ты запомнишь место – люди придут сами. Если запомнишь лица – место исчезнет». Тогда мне это показалось жестоким. Теперь – просто точным.
Я пошла вверх по улице, где стены домов сходились почти встык, оставляя узкую полоску неба. На резком повороте – парикмахерская, старая, с дверью, украшенной выцветшей лентой в красно-белые полосы. На стекле меловой надпись: «Режем молча». Я улыбнулась. Так честнее.
Внутри пахло шампунем и железом. Парикмахер, мужчина лет пятидесяти, застёгнутый до горла, точил ножницы о ремень. В кресле – мальчик, очень маленький, лет шести. Глаза закрыты. На коленях – камешек, гладкий, как слеза, с белой полосой – знак моря. Парикмахер заметил меня в зеркале и кивнул. Я ответила тем же. Ни слова. Только звук ножниц – сдержанный, спокойный, как дыхание в такт.
Снаружи к стеклу прислонялся мальчик постарше – тот самый, что утром держал собаку. Теперь он не смотрел внутрь, а смотрел на свои ботинки. Собака спала у него в ногах, уткнувшись носом в ладонь. Когда я вышла, мальчик коротко свистнул – раз, два, три. Собака подняла голову: раз, два, три, два, один. Я сжала пальцы, слыша знакомую последовательность. Мальчик перевёл на меня взгляд – первый за весь день встречный взгляд – и тут же опустил. Но свист повторил. Не как пароль – как приветствие.
На площади перед церковью звонил колокол – «звонил» не то слово: кто-то прижимал язык, не давая развернуться звуку, и получалось глухо, как если бы звон происходил в другой комнате, за раствором стен. У входа в церковь сидела женщина с корзиной свечей. Она перебирала их как чётки, по одной, на слух. Я купила свечу, не заходя внутрь, – не потому что чуждо, а потому что музыка этого города – снаружи, не под сводом.
– На помин? – спросила она тихо.
– На память, – сказала я.
Она кивнула. Я поняла: здесь это одно и то же.
Дальше – портовая контора. Дверь скрипнула, как старый виолончельный смычок. Внутри настенные часы показывали неверное время, стрелки ходили рывками, как дыхание, сбитое лестницей. Седой мужчина штамповал какие-то бумаги, и сам штамп звучал каждый раз по-новому – точно, с разными промежутками, будто он менял размер по собственному ощущению.
– Расписания на штормовые дни нет, – сказал он, не поднимая глаз. – Слушайте море.
– Я и слушаю, – ответила я.
Он всё же посмотрел – быстро, чуть сбоку, как смотрят те, кто отучил себя от прямого взгляда. Потом снова опустил:
– Тогда вы не спросите лишнего.
Я почувствовала, как лёгкий ветер прошёл по пальцам – будто кто-то невидимый перелистал тетрадь. Я вышла, стараясь не обернуться.
К полудню поднялся туман. Тонкий, холодный, без определённой формы – он складывался в проходах между домами, точными белыми тактами, и рассасывался у светофоров, где красный цвет боялся зажигаться ярко. Я шла по улицам, и мне казалось, что город и правда – партитура, где каждый перекрёсток – пауза, каждый поворот – фермата. Я не искала знаков – они сами находили меня на стекле витрин, на бумажных ценниках, на стендах с рыбной выкладкой, где цифры складывались в знакомые последовательности. «3—5—3—2—1» теперь казалось не просто ритмом дождя, а чем-то вроде ключа, которого я раньше не знала.
Я снова зашла в «Точку росы». Внутри было светлее, чем утром. Женщина за стойкой протирала блюдца – медленно, будто не посуду, а стекло очков перед дальним чтением. Старика не было. Его стол казался пустым так же, как пустеет комната после того, как перестают звучать последние ноты.
– Кофе? – спросила она.
– Да, – сказала я. – Такой же.
Она кивнула. Пока кофеварка дышала паром, я заметила на стене часы. Они шли, но стрелки, казалось, спешили по минутной шкале и отставали по часовой, как два разных сердца в одном теле. Ни у одного человека за соседними столами не было взгляда, идущего выше уровня плеч. Я поймала своё отражение в стекле сахарницы – и оно смотрело мне в глаза, как будто только в крошечных предметах города есть право на прямоту.
Женщина поставила чашку на стол, рядом – тарелку с тонким печеньем.
– Сегодня тихо, – сказала она, словно оправдывая пустоту.
– Мне нравится, – ответила я.
Она кивнула, повела плечом к окну:
– Там – громче. Иногда после дождя люди слышат старые истории. Не вслух. Внутри. Пусть сидят. Проходит.
– У всех проходит? – спросила я, забыв об обещании «не спрашивать».
Она задумалась.
– У тех, кто не живёт у моря, – да, – сказала она наконец. – А у тех, у кого дом помнит… нет. Но это не болезнь.
Она ушла, оставив меня наедине с чашкой. Я слушала, как кофе остужается, как невидимые, микроскопические трещинки в поверхности жидкости расползаются, как паузы между звуками. В какой-то момент мне показалось, что в глубине чашки, в её чёрной выпуклой поверхности, мелькнула белая полоска, как отражение пены: «не спрашивай». Я улыбнулась – это уже игра сознания, но она была честной: я знала, чего хочу, и знала, чего боюсь.
Я вышла, и город встретил меня мягким шумом шин по мокрому камню. Мимо прошёл автобус – старый, едва держась на ходу, с табличкой, где цифра «3» была исписана чьей-то рукой поверх прежней «5». Автобусы здесь, кажется, тоже любят последовательности. Водитель, седой, с грубо выбритым лицом, задержал на мне взгляд – на долю секунды – и опустил. Я подняла руку, как делают, когда благодарят молча. Он кивнул – коротко, будто отдал честь невидимому начальнику.
У книжной лавки сидела женщина, она подрезала корешки старых книг ножом, чтобы они получились ровнее для переплёта. На столе в ящике – ворох отсыревших страниц. Она вытаскивала одну, ощупывала её пальцами, как проверяют здоровье ребёнка, улыбалась уголком губ и складывала бережно, как салфетку. Я попросила у неё бумагу.
– Под открытку, – пояснила я.
Она отдала мне лист – плотный, шероховатый, похожий на кожу старого яблока.
– Пишите крупно, – сказала она тихо, – иначе город съест. Он любит мелкие буквы.
– Он любит хранить? – спросила я.
– Он любит хранить недослышанное, – сказала она. – Полуслова. Полуобещания. Их легче носить.
На площади у фонтана – металлическая чаша с неподвижной водой. Я присела и увидела там не небо – дом. Мой. Белые стены. Темнеющее окно. Линия пианино – угадывается через тень. Это невозможно, подумала я, после чего – возможно, если город, как и стекло, умеет складывать отражения, как складывают аккорды: не по законам оптики, а по законам памяти.
К вечеру туман собрался в порту, как оркестр перед концертмейстером. Чайки сели на причалы – белые ноты на линейках. Я шла обратно тем же маршрутом, пытаясь ничего не сдвигать в сознании, как оставляют стол сервированным до утра, чтобы не испугать утренний свет. На перекрёстке меня догнала девочка из киоска с открытками. Она протянула мне ещё одну карточку – без картинки, просто серо-голубой прямоугольник, словно кусок неба.
– Вам забыли дать, – сказала она.
– Что это? – спросила я.
– Пустая, – ответила и добавила, будто сделала что-то неправильное: – Здесь так принято, иногда.
Я провела пальцем по пустоте. Бумага отдаёт волной, как вода. Я кивнула, поблагодарила – тихо. Девочка уже уходила, не оглядываясь, ссутулившись, как те, у кого звуки тяжелее плеч.
Дома я не зажгла свет. Положила открытки на стол, раскрыла тетрадь. Чернила за день подсохли – и всё же мне казалось, что буквы внутри неё живут, как кормовые огни кораблей – горят, даже если их не видишь. На первой пустой открытке я написала крупно, как просила переплётчица: «Город помнит тех, кто слушает». Слова легли ровно. Я подула на них, хотя это смешно – как будто могу ускорить сушку памяти. Через минуту буквы начали расплываться, превращаясь в серые тени. Я не испугалась. Это и было нужно: чтобы город взял себе часть смысла.
Я прислонилась лбом к стеклу, закрыла глаза. Город шумел ровно, не как опасность – как море, которое можно слышать из любой точки, если знать, куда положить руку. В этой ровности было много человеческого: усталость рабочего дня, звяканье посуды в «Точке росы», закрывающиеся ставни рыночных лотков, свист мальчишки собаке – раз, два, три, два, один. Всё это складывалось во фразу: «Не спрашивай – слушай».
Старик в кафе сказал: «Некоторые дома здесь помнят сильнее, чем люди». Теперь я бы добавила – некоторые города слушают внимательнее, чем мы. И ещё – им легче хранить нашу музыку, чем нам самим.
Перед сном я поднялась наверх, остановилась у зеркала между окнами. Моё отражение смотрело прямо, без опоздания. Я подумала, что сегодня впервые за много дней оно живёт со мной в одном такте. Я приложила ладонь к стеклу, и тёплый отпечаток остался на миг – как маленькая лампа внутри. Издалека отозвалось море – низко, как согласие.
Я легла и долго не могла заснуть – не от тревоги, от ясности. В голове звучала пустая открытка своими незаписанными словами. Этот город действительно не смотрит в глаза. Но он поднимает лицо к звуку – и этого, возможно, достаточно, чтобы в нём можно было остаться.
Перед тем как провалиться в сон, я услышала внизу короткий, нежный щелчок – будто пианино взяло одну ноту само, без моих рук. Я улыбнулась в темноте и не пошла проверять. Если дом и город договорились между собой в моё отсутствие, значит, они решили считать меня своей. Это самая тихая, самая надёжная форма принадлежности – та, которую слышишь, но никогда не держишь.
На следующий день город встретил меня не туманом – светом. Он не был тёплым, скорее молочным, как будто солнце не взошло, а просто включили лампу над всем побережьем. Этот свет лишал контуров, делал улицы мягкими, как страницы старой книги. В нём не было тени, и от этого казалось, будто всё вокруг нарисовано одной непрерывной линией.
Я шла по направлению к площади, туда, где вчера висел стенд с фотографиями. Хотелось проверить: существуют ли они днём так же, как ночью. Иногда вещи здесь растворялись – не исчезали, а просто переставали нуждаться в зрителе.
Стенд стоял на месте. Только фотографии были другими. Те, что я видела вчера, исчезли – их заменили новые, но на них всё равно не было лиц. Только улицы, окна, двери. Одно фото – дом у моря. Мой дом. Снятый, кажется, с того же ракурса, что и открытка.