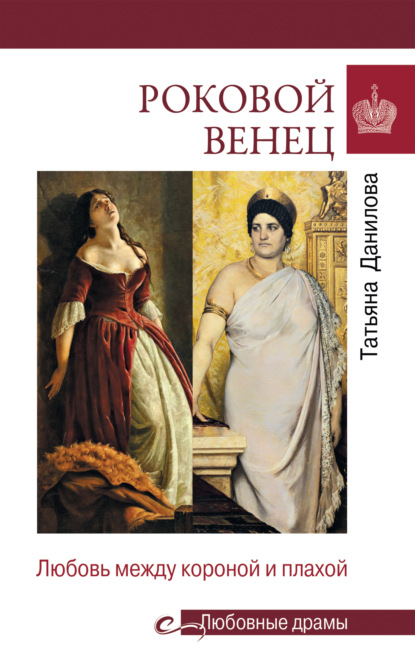Нерв памяти

Издательство:
SelfPub
Серия:
БиосетьМетки:
Самиздат,остросюжетная фантастика,технотриллеры,постапокалипсис,антиутопия,магический реализм / мистический реализм,только на ЛитресКниги этой серии:
Город больше не просто пространство — он мыслит, вспоминает и мечтает чужими головами. Биосеть перестала быть технологией и стала полем сознаний, где память — ресурс, оружие и новая форма бессмертия. Люди с прозрачными нервными волокнами живут на грани: чужие истории просачиваются в их жизнь, ломая границы личности. «Чистые» требуют уничтожить сеть, «узлы» защищают её как зародыш будущей эволюции, власть мечтает о контроле над чужими воспоминаниями. Рэй, человек с кожей-протоколом, оказывается единственным, кто способен говорить с сетью. Но чем глубже он погружается в её нервную карту, тем яснее понимает: часть его прошлого никогда не принадлежала ему. Если память — распределена, где заканчивается «я» и начинается город? И может ли живое сознание родиться из миллионов фрагментов чужой боли и надежды?