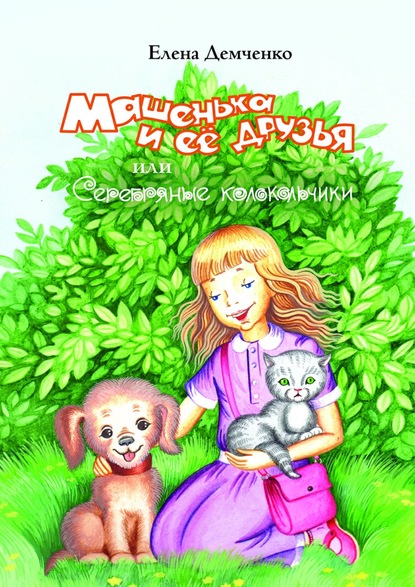Отражения: Кровь на стекле

- -
- 100%
- +

Глава 1
Утро пришло в порт без солнца, но с чёткой линией горизонта, как лезвие под припухшим веком. Ветреная Бухта всегда так встречала воскресенье – будто море, отработав ночную смену, не хотело разговаривать, только дышало глубоко и ровно. Накануне на стол Елены лёг конверт с осколком и прямой фразой: «ОСТАЛОСЬ ЧЕТЫРЕ». Ночь она проспала как человек, который держал в ладони холодный металл и не решился разжать пальцы. Утром телефон взвился двумя короткими – Климов: «Порт. Лодка. Без тела». И все мысли, что ещё пытались устроиться в слово «отпуск», исчезли.
Причал тянулся вдоль набережной, оседая зелёным мхом на сваях. Сеть мокрых следов указывала, где прошли рыбаки, где задержались, где разошлись. За спиной булькал дизель «Емели», единственного траулера, который ночью выходил в бухту, и кто-то из матросов ругался на вполголоса – ругался не на людей, на холод. Елена шла между ящиков для ставриды, не касаясь их плечом – чтобы не забрать на пиджак чужой запах. Серов ждал у крайней тумбы, сутулясь, чтобы ветер не выдувал из ушей жар. Шапка была надвинута на глаза, телефон – в руке, но он не снимал: в такие минуты экран – как случайное отражение, лучше его гасить.
– Там, – сказал он, кивнув в сторону гулко стучащей о борт лодки. – «Авдотья». Прибило к камню. Внутри кровь. Много. Тела нет.
Лодка была маленькой, с облупленной зелёной краской и буквами названия, от которых остались «ВД…Я». На носу – спутанный канат. На сиденье – тёмный, почти чёрный след, обведённый беловатой каймой соли, как если бы кровь успела сначала высохнуть, а потом её корка набрала в себя туман. Елена склонилась, опираясь ладонью в холодный борт, и подумала, что море никогда не отдаёт быстро. Даже если берёт всего на один вздох – оно умеет держать.
– Кто вызвал? – спросила, не отрывая взгляда от сгустков.
– Сторож с «Маяка», – ответил Серов. – Говорит, в четыре сорок пять заметил, что шварт не на месте, а лодка пляшет. Подошёл – пусто. Позвонил в часть. Климов уже людей поднимает.
По настилу приближались двое в резиновых сапогах. Один – дежурный с порта, усы в разводах соли. Второй – парень лет двадцати, из тех, кому ещё интересно смотреть. Он шёл осторожно, как будто боялся наступить на чужую историю.
– Я – Павлик, – представился второй, когда Серов кивнул. – Я тут… помогаю. Ночью, если надо.
– Что видел, Павлик? – спросила Елена.
Он пожал плечами, но не растерялся.
– Поздно уже было. Часов в два. Я стоял вот здесь, – он показал на лавку между двумя тумбами, – курил. Я видел… – он нахмурился, вспоминая, – человека. У воды. Просто стоял, смотрел на волны, как в зеркало. Без шуток. Прямо – как загипнотизированный. Протянул руку – как будто хочет потрогать. Только не дотронулся. Потом – ушёл. Я подумал… ну, мало ли. А в четыре вышел сторож – уже лодка.
Елена перевела взгляд на лавку. На тёмной древесине, вблизи самого края, где соль белит волокна, отпечатался след ладони. Рельефный, как печать. Пальцы длинные, без грубых мозолей; по крайней мере так показалось. Она подняла телефон, сбросила свет экрана и только сфотографировала – два кадра, с линейкой и без. Серов молча поставил рядом пачку сигарет – как ориентир масштаба, и Елена едва заметно поблагодарила взглядом.
– Фигура? – спросила она у Павлика.
– Высокий, – ответил тот. – Плащ какой-то. Или пальто. И – шапка. Я не стал подходить. Мало ли. Ночью все кажутся не теми.
Ветер шевелил полосы тумана, как занавесы. На штормовой полосе ближе к выходу из бухты белели хребты зыби. Елена присела на корточки у борта лодки. На дне, между двумя досками, поблёскивал что-то неровный кусочек. Она надела перчатки, взяла пинцет. Осколок вышел из щели неохотно, словно прилип к дереву. На ладони лежало стекло – грань блеснула тёмно-серебряной полосой.
– Опять амальгама, – тихо сказала она.
Серов кивнул, слишком быстро – он понял и без слов.
– Дно лодки – влажное, – добавила Елена. – Но осколок сухой. Значит, попал позже, когда вода уже стекла.
– Или из кармана того, кто стоял у воды, – подсказал Серов.
– Или из кармана того, кто уже не стоит, – отрезала Елена и, не поднимаясь, посмотрела вдоль причала. – Кто из ваших видел лодку последний раз вчера?
– Дежурный, – откликнулся усач. – В девять вечера все были на местах. «Авдотью» привёл Кудрин весной. Ходовая – хлам, но по бухте – терпит. Теперь вот… – он не договорил.
Имя отозвалось внутри как камешек о стекло. Кудрин – рыбака уже унесли родители и бабы, говор подворотен скоро превратит его в «сам виноват». А лодка осталась – как пустая раковина, из которой вынули моллюска.
Елена поднялась, спрятала осколок в пакет, сделала заметку на полях блокнота: «Порт. Осколок – тип «старый», грань гладкая. След руки на соли на лавке». Рядом – стрелка: «водоросль?». Возле носа «Авдотьи» висела тонкая нить зелени – не из порта, не из тех, что берут на свайных оголовках. Это был тёмный, почти бурый баффур – характерный для отмели под «Сосновым Мысом». Лида научила её не доверять собственной уверенности, но этот оттенок Елена уже научилась узнавать.
– Климов! – позвала она, и он подошёл, отирая ладони о куртку. – Сняли на пробу водоросль? Вот эту, под носом. И с лавки – соль под отпечатком, аккуратно срезать верхний слой. И – след с доски, пудрой, но не жёстко – влажно.
Климов кивнул, не задавая лишних вопросов. Он уже понимал: в этой истории пыль – не только на полках.
(Курсив: неизвестный наблюдатель стоял на дальнем пирсе, где доски скрипят иначе, потому что лежат чуть косо. Он видел, как она присела, как подняла стекло, как спрятала его в пакет. Он не видел её лица – ветер прятал свет. Он провёл пальцем по поручню, оставив линию в соли. Внутри него всё было ровно – как вода, когда на неё долго смотрят. «Осталось четыре», – напомнил он себе и удивился, что цифры могут греть.)
Серов присел рядом с Еленой.
– Тут на углу сарая, граффити, – сказал он, не поднимая голоса. – Не местные красят – у наших такого шрифта нет. Пойдём?
Они обошли причал, миновали горку сетей, пахнущих тухлой рыбой и железом, и вышли к низкой кирпичной стене, которую вечно подмывало. Серов провёл рукой, убирая со стены тонкую плёнку соли. Под ней проступило свежо: «ОСТАЛОСЬ ТРИ». Краска была чёрной, густой, мазки уверенные. А ещё – линия была нарочно неровной, как если бы художник рисовал в перчатке. Елена сжала губы: шрифт был тот же, что на её бумажке, только крупнее, как крик, переведённый в буквы.
– Играет, – сказал Серов.
– Считает, – ответила она. – И показывает счёт нам. Специально.
Она достала камеру, сняла фрагмент стены с общим планом и с крупным – мазок к мазку, капля к капле. И в этот момент порт стало слышно по-другому: как если бы все звуки отступили на шаг. Серов тоже замолчал, и они вместе услышали, как ударилось о борт что-то металлическое, как капля сорвалась со стекла и упала на дерево, как дохнул ветер с мыса – длинно и тяжело.
– Вчерашний конверт, – сказал Серов негромко. – И сегодня – это. Он ускоряется.
– Или мы, – сказала Елена, – просто вошли в поле его зрения. Теперь он рисует для нас. И – для кого-то ещё.
Она не обернулась, чтобы посмотреть, кто на дальнем пирсе, кто на берегу, кто за кучи ящиков. Этому городу нравилось изображать пустоту, даже когда он был полон глаз. Елена знала: пока у тебя в рукаве нет хода, лучше не показывать, что ты видишь. Она продолжала считать – лодка, кровь, след руки, осколок на дне, «Осталось три» на стене. И то, что вошло в привычку, вдруг стало основой: «Сосновый Мыс» тянул к себе нитки, будто за него цепляли реквизит.
– Возьми Павлика под запись, – сказала она Серову. – Пусть повторит каждую деталь, как стоял, как держал сигарету, как тень шевелилась. Уточни, где стояла «фигура». Мы нарисуем это на схеме. Пусть Лида проверит по камерам – хоть какая-то картинка должна была зацепиться.
– Камеры тут мёртвые, – вздохнул Серов. – Разве что у склада рыбы одна живая. Но угол не тот.
– В этом городе углы всегда «не те», – сказала она. – Зато следы – наши.
Она почувствовала, как остывает металл пакета с осколком в кармане. И как новая цифра встала рядом с прежней. Вчера – «четыре». Сегодня – «три». Словно кто-то выключал лампы в коридоре, по одной, и они не знали, где оборвётся провод.
К девяти в порту стало людно: бестолковость воскресной суеты всегда приходит на смену ночной точности. Старики с облезшими ведёрками, мальчишки, гоняющие мяч по лужам, торговки с лиловыми руками, у которых соль отпечаталась в трещинах – всему этому миру было важно, чтобы утро выглядело как утро, а не как продолжение чьей-то ночи. Климов перегородил лентой два пролёта настила и кратко окликал тех, кто стремился пройти «просто посмотреть». Елена вела для себя короткую хронику: в 08:17 – граффити, в 08:26 – осколок из лодки, в 08:34 – проба водоросли, в 08:41 – след руки на лавке. Порт – это хроника, если его слушать правильно.
– Нашёлся хозяин «Авдотьи»? – спросила она у дежурного, когда тот вернулся с переговоров.
– Записана на брата Кудрина, – мрачно ответил усач. – Придёт – будет стонать: мол, отремонтируем. А вы ему что скажете? Что у него лодку – в убийстве?
– Скажу, что его лодкой кто-то воспользовался, – спокойно сказала Елена. – И что если он не скажет нам, кому давал ключи, эта лодка пригодится только для суда.
Он оглянулся на «Авдотью» и злобно сплюнул в сторону – не от ненависти к Елене, от бессилия перед ситуацией. В таких городах лодки – тоже чьи-то родственники: их ругают, но жалеть умеют только молча.
Серов вернулся от Павлика с блокнотом.
– Курил «Приму», – перечислял он, быстро листая записи. – Стоял у третьей тумбы, спиной к «Маяку». Фигура – у воды, ровно напротив, между вторым и третьим буйком. Рост – выше среднего. Шапка – «бини». Пальто – тёмное, длинное. Ветер – в сторону мыса. А ещё – он говорит, фигура держала руки в карманах. Но один раз вынула и потянулась к воде, как… – Серов поискал слово, – как будто хотела тронуть лицо, отражение. И не тронула.
Елена кивнула.
– Схема совпадает с ночной сценой у «Прибоя», – сказала она. – Тянутся – не касаются. Мы имеем дело не с простым «убийцей» в бытовом смысле. Он работает с образом. Ему важно, чтобы было правильно – «в зеркале».
– Значит, это снова – про «семь», – Серов состроил гримасу, как человек, который проглотил ледяную крошку. – Журналистом легче не становится, когда сюжет упрямо идёт по чужой легенде.
– Это не легенда, – сухо сказала Елена. – Это запись. Она когда-то была протоколом – тем, что делали в санатории. Теперь – чья-то личная литургия. Он продумывает кадры. «Лодка. Отпечаток. Осколок. Слова на стене». Четыре штриха. И всё – на воде.
Ей хотелось позвонить Лиде и сказать: «Сравни амальгаму из лодки с теми, что мы уже взяли. Проверь зерно серебра. Скажи, что это «оно».» Но она знала: Лида скажет только «с высокой вероятностью», и это будет честнее. Правда в их деле обычно выглядит как «вероятно».
В этот момент по доскам пробежал тонкий звук – как если бы по ним перетянули струну. Елена подняла голову и увидела, как из тумана к ним идёт Лисицын. Он шёл не торопясь, как человек, который знает, что море никогда не убежит. На плечах – старая портьера плаща, у ног – сапоги, которые не жалко снять, если надо войти по колено. Он остановился чуть поодаль, не пересекая ленту.
– Слышал, – сказал он хрипловато. – Лодку прибило. А тело – нет. – Он посмотрел на Елену так, будто он тоже получил письмо. – Вода – она не жадная. Она только бережёт, пока её не спросят правильно.
– Вы видели что-нибудь ночью? – спросила Елена. – На дальнем пирсе?
Лисицын чуть качнул головой.
– Видел, – сказал он. – Но это был не человек. Это была тень. А тень – она всегда у воды длиннее, чем сам человек. – Он посмотрел на лавку, на белый след. – Ладонь – как у врача. Гладкая. – И, будто опомнившись, добавил: – Или как у того, кто давно не работал руками.
– И где было это «правильно», о котором вы говорили? – не удержался Серов. – В санатории?
– Везде, – сказал Лисицын. – Где у людей сердце с морем договор заключено. На мысу – так точно. – Он кивнул в сторону холма, где серела громада «Соснового Мыса». – Под ним трава не наша. И водоросли не наши. Гниют по-своему.
Елена встретилась с ним взглядом на секунду дольше, чем надо. И это было достаточно: он понял, что она поняла, о какой водоросли речь.
– Спасибо, – сказала она мягко.
Он кивнул и ушёл так же медленно, как пришёл.
(Курсив: неизвестный наблюдатель слушал эти слова через собственную кровь, не через воздух. Он вспомнил, как учились там – смотреть, не касаясь. И как голос говорил: «Не прикасайся – смотри». Голос был старый, как рамка, но в памяти – чистый. «Семь», – сказал он себе. – «Три». Цифры становились теплее от повторения.)
– Гуров попросил не уходить в «мистику», – напомнил Серов, будто вынимая из кармана камешек и перекладывая в другой карман. – Но если честно… – Он развёл руками на тот случай, если в воздухе спрятан диктофон. – Без символов тут ничего не двигается.
– Символ – это только язык, – сказала Елена. – Мы переводим. Он говорит «зеркало» – мы слышим «метод». Он говорит «грех» – мы читаем «травма». Он пишет «Осталось три» – мы чертим список живых. – Она посмотрела на стену. – Скажешь – не хватает драматургии? По мне – хватит.
Серов улыбнулся той улыбкой, которой люди улыбаются на похоронах, чтобы не расплакаться.
– Ладно, – сказал. – Мне нужна цитата. Не официальная. Твоё. – Он достал блокнот, но не поднял ручку. – Что ты думаешь о граффити?
Елена вытерла пальцы салфеткой, хотя перчатки она ещё не снимала.
– Думаю, – сказала она, – что тот, кто это написал, уверен: мы считаем вместе с ним. Если завтра будет «Осталось два», он ожидает, что мы кивнём. Это его способ сделать нас свидетелями, как тогда. – Она выдержала паузу. – И я не хочу быть его свидетелем. Я хочу, чтобы он стал нашим.
Серов кивнул, закрывая блокнот, так и не записав. Иногда важное лучше не иметь на бумаге.
Каяк лениво ткнулся в «Авдотью», и по доскам пробежала слабая дрожь. На мгновение Елена увидела отражение в чёрной воде: размазанное, с дёргающимися гранями, как если бы не она стояла на причале, а какая-то другая версия её – выцветшая, нерешительная. Она резко вернула глаза на реальность, чтобы не дать отражению привыкнуть.
Климов вернулся с пакетами.
– Соль с лавки взяли верхним слоем, как просила, – отрапортовал он. – Водоросль – тоже. Осколок – у тебя. Отпечатков чистых нет – влажность. Но контур руки сфотографировали, размер сняли – длина ладони примерно девять с половиной, пальцы длинные, без «шишек». Больше похоже на «офисного», чем на «портового».
– И это… – Он поморщился, внезапно став не службой, а человеком. – Там, под молом, кровь. На камнях. Её смыло наполовину, но она есть.
– Отметь уровень прилива, – тихо сказала Елена. – И дай Лиде срочно. Пусть проверит, как это «совпадает» с тем, что у нас уже есть. – Она подняла взгляд к мыску. – Наши «свидетели прошлого» редко умеют кровоточить так чисто.
Она знала, что в её словах слишком много смысла для этих досок и сетей. Но знала и то, что порт слышит. Доски в таких местах умеют хранить разговоры.
– Поехали, – сказала Серову. – Нам нужно успеть, пока туман не съел шрифты.
Они ушли от причала, обогнув «Авдотью» так, словно прощались.
Дорога вдоль воды обратно в отдел вела мимо ровной, как линейка, полосы кирпичной стены – той самой, где «Осталось три». Серов шёл чуть впереди, чтобы первым заметить, если кто-то выбежит из подъезда или от машины. Утренний ветер вязал волосы Елены в тугой хвост, хоть она и собирала их внизу; морские капли садились на лицо, как старые поцелуи. Она чувствовала, как в кармане тяжелеет пакет с осколком; казалось, что стекло умеет набирать вес отмыслом.
– Думаешь, «три» – это уже сегодня? – спросил Серов, не оборачиваясь.
– Думаю, – сказала она, – что «он» хочет, чтобы мы так думали. Это тоже метод. Он вычитает у нас спокойствие – по одному.
– Хорошая математика, – усмехнулся Серов. – Учителю Данилову бы понравилось. – Он тут же опустил плечи. – Прости.
– Ничего, – сказала Елена. – Мы все учимся у мёртвых говорить точнее.
У отдела пахло тёплой бумагой и сквозняком. В дежурке свет ещё казался ночным. Климов ушёл к Лиде. Елена поставила пакеты на стол и, прежде чем взяться за протокол, позволила себе закрыть глаза на три секунды. Перед внутренним взглядом возник не порт, не лодка и не граффити. Возникла та самая лавка, белый след ладони – и мысль, которую трудно было назвать: «рука – чистая». Она знала сотни ладоней – они проходили у неё через перчатки, на пудре, через стекло. И умела угадывать по линии жизни, кто чем живёт. Эта – «чистая». Пальцы длинные, не сбитые, без заусениц, без рваных подушечек. Да, можно надеть перчатку. Но след не от перчатки. След – от кожи. Человек не скрывал себя от соли. Он хотел оставить форму.
Телефон мигнул – короткое сообщение от Лиды: «Взяла. Амальгама визуально совпадает, подтвержу позже. Водоросль – «под мысом». Кровь на камнях – человеческая, группа в работе». Елена ответила на автомате: «Принято», – и посмотрела на свою доску. Слева – фото уцелевшего зеркала. Ниже – карточки. «Данилов». «Кудрин». «Савельева». Четыре пустых квадрата. Справа – «III», «V», «VII», «I». Тонкая стрелка к слову «порт». Ещё одна – к «мысу». Между ними – слово «след».
Серов прислонился к дверному косяку.
– Портовой слух уже знает, – сказал он. – Через час в «Чайке» будут шептать: «Он пишет на стенах». – Он замолк, и добавил тише: – И ещё. Мужик из киоска сказал: «Ночью вон там, у «Скалы», кто-то стоял и смеялся. В воду. Как в зеркало». – И показал туда, где море делало вид, что спокойно.
Елена взглянула на часы.
– В полдень – санаторий, – сказала она, прежде чем он спросил «почему». – Официально. Лавров или кто там у них на месте – покажет картотеку. Мы всё равно туда идём. Он ведёт нас туда – даже когда пишет на стенах. И мы должны идти раньше, чем он развесит следующую цифру.
В коридоре щёлкнула лампа – кто-то включил чайник. В отделе стали слышны шаги, в которых есть смысл – шаги людей, готовых спорить. Елена сняла перчатки, вымыла руки так тщательно, будто кровь порта могла въесться в кожу. Короткая тёплая вода ожгла холод. Наверху громко хлопнула дверь – Гуров всегда входил так, будто выносил приговор. Но он не сразу позвал – как будто тоже делал глоток кофе перед понедельником, который наступил в воскресенье.
Она взяла пакет с осколком, ещё раз посмотрела на цифру «I» на кромке вчершнего осколка – тот лежал в сейфе, как вредный ребёнок – и на пустоту сегодняшнего, где цифры не было. «Он держит шрифт для стен», – подумала она. – «А на стекле пишет только тогда, когда хочет коснуться». Она не знала, откуда эта мысль. Но знала, что проверит.
(Курсив: неизвестный наблюдатель сидел на бетонном тумбе в конце мола и слушал, как в воде разговаривают ржавые цепи. У него не было привычки курить, не было привычки пить по утрам. У него была привычка считать и писать. Он посмотрел на ладонь, на линию соли, которая осталась после ночи, и провёл по ней ногтем. От соли осталась царапина – белее кожи. «Три», – сказал он без улыбки. – «Потом – два». Он не любил сокращать дистанцию жестом, он любил сокращать её цифрой.)
– Дай мне пять минут, – сказала Елена Серову. – И – поехали. – Она открыла блокнот на новой странице, выдохнула и, как в детстве перед диктантом, развернула ручку. – «Причал. Утро. Лодка «Авдотья». Кровь – без тела. След ладони в соли. Осколок амальгамы на дне. Водоросль «под мыса». Граффити: «Осталось три»». – Она записала это не для отчёта. Для себя. Каждое слово тянуло линию от порта к холму.
Когда они вышли, двор отделения был такого цвета, каким бывает шерсть морского котика – серо-густая, тёплая на вид и холодная на ощупь. Серов открыл машину, достал из бардачка запасной блокнот – его блокноты всегда заканчивались раньше, чем бензин. Елена села и посмотрела в боковое зеркало. Там было её лицо, и за ним – улица, где туман начинал редеть. Она не задержала взгляд, чтобы не дать отражению права голосовать. Машина тронулась – к холму, к санаторию, к картотеке и к тем, кто давно выбрал для себя «правильно».
На кирпичной стене у порта чёрные буквы «Осталось три» были видны даже издалека. Волна поднималась, и на миг казалось, что вода вот-вот лизнёт нижнюю кромку «О». Но не доставала – словно кто-то сверху держал за невидимую нить.
Глава 2
День в отделе светился тускло, как вываренная кость. С потолка тянулся ровный холодный свет, и от него бумага на столе казалась ещё белее, чем утром. По коридору шаркали шаги, дежурный что-то перебирал в соседнем шкафу, и все эти звуки становились фоном, как шорох моря, которое отсюда не видно. Елена закрыла дверь – не до конца, чтобы не казаться упрямой, но достаточно, чтобы тишина собралась плотнее. Она положила на стол два предмета, которые уже научились притягиваться друг к другу: маленький кожаный дневник Ирины Савельевой с тугим замком и круглый жетон «V» из подвала «Соснового Мыса».
Металл лежал в ладони тяжело, как мокрый камень. На ребре жетона, если поймать свет под правильным углом, почти проступал рисунок – слабый радиальный узор, будто на наждаке отлизывали поверхность. Елена коснулась большим пальцем выбитой римской «V» и поймала себя на нелепой мысли: цифра чуть теплее, чем остальной металл. Она усмехнулась себе – это руки, просто руки.
Замочная скважина в корешке дневника была крошечной, с тонким «солнцем» из насечек вокруг – семь коротких лучей, еле заметных. С первого взгляда – инкрустация, со второго – привычка Ирины оставлять знаки. Елена уже пробовала шпильку, тонкую отвёртку, даже подпружиненный «ключик» из набора криминалистов: всё бесполезно. Теперь было иначе. Она приложила жетон к скважине не «как ключ» – просто так, для себя. Металл щёлкнул о металл – звук пустой. Но когда Елена, не меняя хват, чуть сдвинула жетон, вроде как не туда, куда надо, – глубоко внутри что-то едва слышно «цокнуло». Не замок – не пружина. Отголосок.
Елена замерла. Сцепила в пальцах краешек жетона, поискала тот самый угол, когда металл сам подсказывает, куда лечь. Щёточка насечек на скважине совпала с микрозазубриной на ребре жетона – так, будто кто-то делал пару. И в следующую секунду произошло простое: щелчок – не громкий, но безоговорочный. Замок отпустил.
– Есть, – одними губами сказала Елена.
(Курсив: неизвестный наблюдатель, сидевший на лавке через дорогу от отдела, поднял голову, когда внутри, за стеклом окна, чёрный прямоугольник дневника стал белее – свет упал на страницу. Он ничего не слышал, но внутри у него что-то тоже щёлкнуло: как если бы в груди отворили маленькую дверцу. Он опустил глаза снова, чтобы не портить ритуал взглядом. Рука его медленно чертила на бумажном стакане невидимую «V».)
Кожа обложки тихо вздохнула, когда она разложилась. Бумага внутри была плотная, сероватая, с редкими вкраплениями – видимо, Ирина любила старые блокноты; чернила вели себя на этих страницах иначе: где-то лежали жирно, где-то уходили в волокна. Первую страницу Елена перелистнула почти не глядя – не было ни дат, ни имён, только неровная линия – как проба пера. На второй, в правом верхнем углу, наискось: «Зеркала – как соль, язык помнит, глаза – нет».
Елена медленно выдохнула и перевела взгляд вниз. Текст шёл не датами, а блоками, как будто Ирина писала не «сегодня», а «после». Пальцы Елены сами нашли нужный темп: не спешить, не глотать строки.
«В зале странно. Вроде бы пусто, но под пустотой – трепыхание. Слышно, как стекло дышит. Алексей Соколов говорит: смотреть – дольше трёх минут, иначе глаз только скользит по коже. Смотреть – до конца. Если не можешь – вернись завтра. Говорит: зеркало лечит, если смотреть до конца. Но я верю стеклу меньше, чем воде. Вода, если не хочет – не покажет.»
Соколов. Имя легло в середину страницы как чужой подпрыг. Елена повела ногтем тонкую черту на полях, поставила знак «!», хотя никогда не любила этот жест. Дальше шли заметки – короткие, с поправками на полях, иногда – с обрывками эпиграфов, уже знакомых Елене по Ирининым вырезкам.
«Семь зеркал. Больше – запрещено. Семь – как крюк, на который вешают слова. Каждый смотрит в своё. На рамах – метки, чтобы не путали. С – для «Стыда», Г – для «Гнева», П – для «Пустоты» (Соколов не любит слово «Лень», говорит, оно бытовое). Мы все смотрели, но не все увидели.»
«Мы все смотрели…» – Елена проговорила шёпотом и ощутила, как в комнате снова стало слышно коридор – кто-то понёс мимо пачку бумаг, кто-то сказал «в архив», кто-то рассмеялся слишком громко. Она накрыла ладонью угол дневника, как накрывают тревожного ребёнка. Эта фраза была той самой нитью, за которую кровь уже потянула их в порту. «Мы все смотрели» – значит, группа. Значит, те самые семь подростков, чьи блики и затылки теперь сыпались на стол расследования как горох.