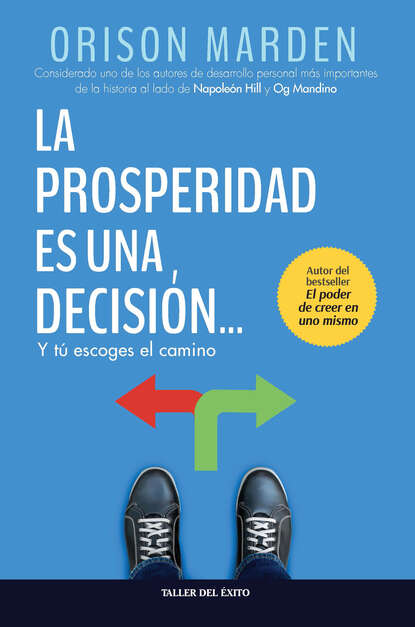Последняя петля

- -
- 100%
- +

Глава 1. День, который идёт вразнобой
В это утро – если это было утро – свет в комнате был неправильным. Слишком густым для шести, слишком бледным для девяти, слишком живым для любого часа, который Мартин помнил. Он сперва решил, что не выспался, но потом заметил часы.
На тумбочке старый будильник показывал 07:03, как и положено: две косые палочки цифр, слегка выцветший циферблат, стрелка секунд, делающая свои честные круги. А на стене, над дверью, электронное табло «Синхрон-домашний», которое когда-то выдали всем бесплатно, мигало 23:59, будто застряло на последней минуте дня. В смартфоне, брошенном экраном вниз на пол, кто-то тихо шептал голосом диктора: «Сейчас полдень. Примерно».
– Примерно, – повторил Мартин вслух и сел на постели.
Спина отозвалась старой, сухой болью, хотя ещё вчера… вчера он был моложе. Или завтра. Эти глаголы давно перестали быть полезными, как карты метро в городе, где все линии смешали в один хаотичный узор.
Он провёл ладонью по лицу. Пальцы на секунду ощутили чужую кожу – не то морщинистую, не то напротив, слишком гладкую. Морганул, и ощущение исчезло, оставив после себя тупую тревогу, как эхо чужого прикосновения.
– Доброе… – начал он, и язык не выбрал слово. Утро? День? Ночь? – …время, – закончил, голосом человека, который устал спорить с календарём.
Из кухни пахло кофе. Это было странно. Он не закладывал таймер, не помнил, чтобы вчера вечером ставил турку. Хотя теоретически он мог сделать это «потом», а «потом» случилось раньше. Такое теперь происходило постоянно: простые бытовые причинно-следственные связи вели себя, как плохо натянутые струны, – дрожали, перескакивали, рвались.
Мартин поднялся, ноги поскрипывали – то ли паркетом, то ли суставами, – и прошёл в кухню. Кофеварка – старая, ещё до-Синхронная, механическая – стояла на плите. В ней и правда шипел кофе. Над ней в воздухе висела тонкая полоска пара, не движущаяся ни вверх, ни в сторону, просто застывшая, будто её кто-то сфотографировал и забыл вернуть движение.
Он коснулся пара пальцем – горячо. Отдёрнул руку, выругался тихо и привычно. Пара не шевельнулась.
На холодильнике висел магнит с миниатюрным календарём. На нём по-прежнему значилось: «Март». Какой-то март, без числа и года, просто аккуратная надпись, сделанная чьим-то спокойным почерком. Март длился уже много месяцев, иногда становясь декабрём, иногда июнем, но сам магнит упрямо оставался мартом, как напоминание о том, что когда-то у времени были имена.
– Ладно, – сказал Мартин и выключил плиту.
За окном что-то происходило с небом. Он подошёл ближе. Окно, как и пар на кухне, застыло где-то между кадрами: по левому краю стекла висела полоска ночи – густой, с редкими звёздами, дрожащими, как пиксели на старом экране; по правому – уже разливался бледный день, без солнца, просто светло, как в обычный пасмурный полдень. Посередине по стеклу прошла тонкая, идеально ровная грань, разделяя ночь и день.
Она двигалась. Медленно, неуверенно, будто вспоминала,куда ей положено идти: вправо или влево. На пару секунд грань дрогнула, дёрнулась обратно, затем решилась и потекла вправо, глотая остатки ночи.
Мартин поймал себя на том, что следит за ней слишком внимательно, как когда-то следил за секундной стрелкой в морге.
– Ты всё равно опоздаешь, – сказал он границе, и она, конечно, не ответила.
В спальне тихо чирикнул телефон. Он вернулся, поднял его с пола. На экране загорелось уведомление: «Напоминание: 08:00. Встать». Ниже – маленькая строка системного комментария: «Событие уже произошло. С вероятностью 73 %».
– Спасибо, – сказал Мартин. – Уточнил.
Он отключил напоминание и, не читая остальные, кинул телефон на кровать. Сегодняшний день всё равно пойдёт, как ему вздумается. Все дни теперь так ходят.
Он поймал в зеркале напротив дверей своё отражение. Отражение было на пару лет старше, чем он чувствовал себя сейчас: чуть глубже складки у рта, чуть тяжелее взгляд. Плечи опущены, волосы начинаются чуть дальше, чем он привык.
– Не сегодня, – сказал Мартин отражению.
Оно пожало плечами – движение не совпало по времени с его собственным, задержалось, потом догнало.
Он отвернулся, пошёл в ванную.
Вода из крана текла нормально – ровной, прозрачной струёй. Можно было бы даже забыть, что снаружи мир пошёл вразнобой, если бы не зеркало над раковиной. В зеркале его рука тянулась к крану чуть раньше, чем в реальности; капли воды падали в раковину ещё до того, как сорвались с металла. Каждое его движение сопровождалось тихим предэко – как будто рядом жил ещё один он, на полсекунды впереди. Или позади.
Это раздражало. До боли в зубах.
– Прекрати, – попросил он ни к кому конкретно.
Зеркало не послушалось. В нём он уже умывался холодной водой и смотрел на себя усталым, чуть чужим взглядом. В реальности же он ещё только собирался открыть кран.
Иногда, в такие моменты, к нему возвращалось ощущение, что всё это – просто слишком сложный кошмар. Протяжный, вязкий сон, где логика ещё держится за края, но уже скользит. Должен же быть момент, когда он проснётся. Когда время снова станет линией, а не кучей разбросанных костей.
Он дотронулся пальцами до лица – уже мокрого в зеркале и ещё сухого здесь – и вдруг услышал, как в коридоре щёлкает радио.
Он точно помнил, что не включал его уже много дней. Недели. Годы? Время после Синхрона измерялось не датами, а плотностью событий, и по этой шкале радио было где-то «давно».
Голос диктора доносился приглушённо:
– …утренние – или, возможно, ночные – новости. Напоминаем, что временные колебания в большинстве районов города сохраняются в пределах допустимой нормы…
«Допустимой», – подумал Мартин. – Для кого.
Он вытер лицо, не разбираясь, кто из них сделал это первым – он или его отражение, – и вернулся в комнату.
Радио стояло на привычном месте на шкафу, между стопкой старых дел и коробкой с теми вещами, которые он давно собирался разобрать, но так и не успевал, потому что время вечно находило, чем ещё заняться. Диктор говорил тем же спокойным, слегка усталым голосом, каким раньше сообщали о пробках на дорогах и лёгких осадках.
– …зарегистрированы участившиеся случаи асинхронного старения. Просим граждан сохранять спокойствие. В случае, если вы заметили у себя или своих близких признаки немотивированных возрастных смещений – появление или исчезновение морщин, седины, изменение роста, – рекомендуем обратиться в ближайший центр адаптации времени. Напоминаем, что в большинстве случаев изменения носят временный характер…
«Временный характер», – усмехнулся Мартин. – Конечно. Ещё бы они носили пространственный.
Он выключил радио, не дожидаясь, чем там закончится сводка. Всё равно в конце диктор скажет ровно то же, что и всегда: «Ситуация находится под контролем. Синхрон работает штатно».
Синхрон работал. Именно поэтому мир и выглядел сейчас так, как выглядел.
Никто уже не искал виноватых. В первые месяцы ещё попытались: были комиссии, круглые столы, интервью с инженерами. Кто-то кричал, что надо «откатить всё назад», кто-то – что «мы прошли точку невозврата». Потом точка невозврата тоже рассинхронизировалась: кто-то уже жил после неё, кто-то всё ещё шёл к ней. И всем постепенно надоело удивляться.
Мартин сёл на край кровати и попытался вспомнить, что у него запланировано на… сегодня. Слово всё равно вызывало лёгкую издёвку внутреннего голоса. Планировать что-либо в мире, где утро могло внезапно оказаться позавчерашней ночью, было почти интимной формой оптимизма.
Он всё же поднял телефон и пролистал календарь. Несколько встреч светились серым, как умершие файлы: «Собеседование» – «Возможность отменена ретроспективно». «Приём у врача» – «Событие не состоялось, потому что ещё не произошло». «Встреча с…» – имя было стёрто, остались только три точки.
Единственное живое напоминание выглядело почти издевательски просто: «Выйти». Без времени, без места. Только это слово.
Он ухмыльнулся.
– Это ещё когда я себе назначил?
Телефон подумал, мигнул экраном и выдал честный ответ: «Невозможно определить. Событие создано в неустановленный момент временной шкалы».
– Ладно, – сказал Мартин. – Убедил.
Он встал, нащупал под кроватью ботинки. Одному из них явно было больше лет, чем другому: кожа на левом поблёкла, на правом – ещё держала форму. Когда он завязывал шнурки, ему на секунду показалось, что руки принадлежат разным людям: одна – с тонкими, почти подростковыми пальцами, другая – с узловатыми суставами и выступающими венами.
Это чувство тоже ушло, как только он поднялся.
В коридоре зеркало поймало его ещё раз. На этот раз он был там чуть моложе. Или просто свет упал иначе.
– Пошли, – сказал Мартин своему отражению, стараясь держать голос ровным. – Пора.
Отражение кивнуло с лёгким опозданием.
Он накинул пальто, включил на телефоне режим «локальная привязка» – бесполезную иллюзию, которая якобы помогала фиксировать последовательность событий вокруг владельца, – и потянул дверь на себя.
За дверью стоял город, который когда-то шёл вперёд, как положено, улица за улицей, день за днём. Теперь он тоже жил вразнобой.
Мартин сделал первый шаг наружу и почувствовал, как день под ногами пытается выбрать, с чего ему начаться.
Лестничная клетка встретила его запахом пыли, старого линолеума и чьей-то давней жареной картошки. Всё это было неожиданно утешающе нормальным, если не считать того, что лампочка под потолком одновременно горела и нет.
Если смотреть прямо, свет тускло лился, рисуя на ступенях привычные овалы. Стоило чуть сместить взгляд, и лампочка оказывалась перегоревшей: ступени проваливались в сероватую тень, а по стенам ползли пятна темноты. Глаза не успевали решить, какой вариант считать реальностью, и мозг, устав спорить, принимал оба.
На втором этаже дверь квартиры, в которой жил когда-то молодой преподаватель музыки с манией пунктуальности, была распахнута. На коврике у порога стояла та же пара ботинок, что и три года назад, но сами ботинки успели прожить разные жизни: левый был почти новым, правый – с отклеившейся подошвой и разлохматившейся шнуровкой.
Изнутри доносилась музыка. Бах, как всегда. Но фуга распадалась: правая рука пианиста играла начало, левая – середину, а из соседней комнаты, по-видимому из прошлого, доносился финал. Все три куска звучали одновременно, как будто кто-то включил сразу три записи.
– Неплохо держится, – пробормотал Мартин, проходя мимо.
Когда-то этот сосед ходил с часами, синхронизированными до сотых секунд, и сводил с ума весь подъезд тем, что выносил мусор каждый день ровно в 22:00. Теперь он иногда выходил на лестницу подростком в вытянутой толстовке, иногда – седым стариком в халате, иногда – полупрозрачным мужчиной среднего возраста, который спешил куда-то, чего уже не существовало.
Сегодня в дверном проёме никого не было. Только музыка, разбитая на осколки, и пустой стул у пианино – то новый, то облезлый, то вовсе табуретка.
Мартин спустился ещё на пролёт. На первом этаже, у почтовых ящиков, стояла женщина с пакетом. Точнее, стояли три.
Одна – молодая, усталая, в дешёвой куртке, с ребёнком на руках. Вторая – лет сорока с небольшим, в той же куртке, только уже заношенной до серости; ребёнка не было, только пустые руки, судорожно сжимающие ручку пакета. Третья – совсем старенькая, с тонкими пальцами и прозрачной кожей, держала пакет двумя руками, будто там лежало что-то очень тяжёлое.
Они занимали одно и то же место, один и тот же квадрат плитки. Иногда их силуэты накладывались друг на друга, иногда расходились на полшага.
– Вам помочь? – спросил Мартин, сам не разобравшись, к кому обращается.
Молодая женщина подняла на него взгляд – тёмные глаза, невыспавшиеся, но живые.
– Нет, спасибо, – сказала старушка. Голос её преломился, на полслова помолодев, на полслова осипнув. – Я уже… мы уже…
Средняя женщина ничего не сказала. Она просто смотрела на почтовый ящик, который был то крашеным и незамятой формы, то вмятым и облупленным, то совсем новеньким. На нём менялись фамилии, как бегущая строка: то знакомые, то чужие, то в три ряда.
Мартин кивнул всем троим сразу и прошёл мимо.
На улице день всё ещё пытался определиться, сколько ему лет.
Небо ухитрилось стать не только полосой между ночью и полднем, как он видел из окна, но и чем-то вроде старой фотоплёнки, на которую забыли наложить единый фильтр. Над домами справа светило унылое серое солнце – не видно, но по тому, как резались тени, оно явно где-то там было, за облаками. Слева по фасадам ещё скользила синяя ночная темнота, редкие фонари давали жёлтые островки света, от которых почему-то становилось ещё холоднее.
Асфальт под ногами был сухим и мокрым одновременно. У ливнёвки в одном и том же месте лежала лужа: в ней отражались то дневные облака, то неоновая реклама бара, который по идее должен был открываться только к вечеру.
Мартин остановился на секунду, чтобы дать глазам привыкнуть.
У ближайшего перекрёстка стоял светофор и честно пытался выполнять свою работу, как перечисление временных форм: красный, жёлтый, зелёный. Только он делал это сразу. Все три цвета горели разом, и по какой-то странной договорённости водители научились считывать себе нужный.
Машины ползли через перекрёсток слоями. Старый троллейбус, который уже лет пять как списали, стоял привидением поверх новенького электробуса. Легковушка в старом кузове накладывалась на её более позднюю модель с теми же номерами, только цвет другой, как будто кто-то проиграл в стилистике, но выиграл в бюджете.
Люди шли по тротуару, и это было самое сложное зрелище.
Вот мужчина в дорогом пальто. С одной стороны улицы он выглядел лет на сорок пять: цветущий, с плотной фигурой, уверенной походкой. На другой – его же лицо, только вытянутое, с дряблой кожей и провалившимися глазами, пальто висит мешком. Между этими двумя версиями иногда мелькала третья – подросток в дешёвой куртке, с тем же подбородком и тем же поворотом головы.
Они шли как три кадра одного фильма, наложенные друг на друга. Иногда совпадали в жесте – все сразу поправляли шарф, – иногда расходились.
Рядом девочка с рюкзаком – точнее, три девочки: одна – сама девочка, лет двенадцати; другая – уже худощавая студентка с тем же рюкзаком, только облезшим; третья – женщина с усталым лицом и тем же паттерном родинки над бровью, волосы собраны кое-как, рюкзак сменился сумкой, но походка осталась детской.
Мартин шёл среди них, и в какой-то момент ему показалось, что он тоже делится.
Краем глаза он увидел, как чуть впереди по тротуару идёт он сам – на несколько лет моложе, с тем самым выражением лица, которое бывает у людей, ещё верящих в понятие «завтра». С другой стороны улицы шёл другой он – седой, сутулый, с тростью; трость, кстати, время от времени исчезала, словно иногда он всё-таки обходился без неё.
Он задержал шаг, дал им пройти.
Молодой он прошёл сквозь него, как через дым. На секунду Мартин ощутил резкий запах спирта из морга, взгляд операционной лампы, холод металла под ладонью. Вспышки памяти не были его – или были, но из другого варианта жизни.
Старый он посмотрел на него чуть дольше. В глазах – усталость, но не безнадёжность. Как у человека, который уже принял какое-то решение, но ещё не рассказал о нём себе.
– Ещё нет, – сказал этот взгляд. Или это Мартин так перевёл.
Он фыркнул, как от дурной шутки, и пошёл дальше.
У угла дома, где раньше была булочная, теперь располагался Центр адаптации времени. Табличка над входом меняла формулировки, как настроение: «Консультации по асинхронным состояниям», «Поддержка при возрастных смещениях», «Мы помогаем вам оставаться собой». Иногда надпись становилась совсем честной: «Мы не успеваем за вами».
У входа толпились люди – точнее, их временные раскладки.
На ступеньках сидел подросток, растирая ладонью синяк на колене. На том же месте стоял мужчина лет тридцати, в деловом плаще, разговаривая по телефону; иногда трубка в его руке исчезала, и вместо неё оставался только жест. Между ними, точно в промежутке между вдохом и выдохом, появлялась старуха с тем же разрезом глаз, что у подростка, и тем же профилем, что у мужчины.
Очередь не двигалась, потому что одни версии людей всё ещё приходили, другие уже уходили.
Изнутри доносился голос – привычно ровный, успокаивающий:
– …снижение интенсивности временных расхождений прогнозируется в ближайшие… ну, относительно ближайшие периоды. Напоминаем, что Синхрон удерживает общую структуру…
Мартин остановился под вывеской, посмотрел на мерцающие буквы.
Когда-то такие центры строили как временную меру. «Пока не стабилизируем стрелку», говорили. Потом стрелка просто исчезла. Синхрон удержал обломки, как мог, и признавать, что это и есть новая норма, никто вслух не хотел.
– Это всё ты, – тихо сказал он небу. Больше некому было.
Небо, как всегда, не возразило.
Дальше по улице висел огромный экран, оставшийся от тех времён, когда ещё покупали наружную рекламу. Теперь по нему гоняли новости.
Звук был выкручен на минимум, чтобы не мешать тем, кто пытался сделать вид, что живёт обычной жизнью, но титры ползли крупно и навязчиво.
На экране показывали город сверху – тот самый, в котором он стоял сейчас. Вид с дрона, или с чего там они теперь смотрели. Машины ехали по кругу, одни – днём, другие – ночью, третьи – вроде бы вообще в каком-то другом сезоне: на крышах лежал снег, хотя под ногами у Мартина было сыро, но без инея.
Внизу светилась строка:
«ЛОКАЛЬНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ АНОМАЛИИ НЕ УГРОЖАЮТ ЦЕЛОСТНОСТИ СЕТИ. ПРОСИМ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ».
Следующая:
«МИНИСТЕРСТВО ВРЕМЕННЫХ ДЕЛ ЗАЯВЛЯЕТ: СИТУАЦИЯ НОСИТ ПРИРОДНЫЙ ХАРАКТЕР. СИНХРОН ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ».
Ниже, чуть мельче:
«ПСИХОЛОГИ СООБЩАЮТ ОБ “УСТАЛОСТИ ОТ ЧУДА”: ГРАЖДАНЕ ПЕРЕСТАЮТ РЕАГИРОВАТЬ НА РАСПАД ВРЕМЕННЫХ ЛИНИЙ».
Мартин усмехнулся. Усталость от чуда – точное название. В первый год люди снимали на телефоны всё: исчезающие дома, дети, которые засыпали младенцами, а просыпались подростками, ночи, в которых можно было встретить собственное позавчера. Теперь никто не поднимал камеру. Зачем? Чтобы снова посмотреть на то, в чём и так живёшь?
Он прислонился плечом к холодному стеклу остановки.
Автобус к этому времени должен был либо уже уйти, либо ещё не приехать. Вместо этого он существовал сразу в трёх состояниях: старый дизельный, грохочущий, с выцветшей надписью маршрута; новый, тихий, с мягкими дверями; и совсем пустое место, в которое люди по привычке всматривались, ожидая, что что-то появится.
У табло маршрутов цифры перескакивали: 11:45, 00:02, 12:00, 07:18. Сопровождающая их надпись честно пыталась успокоить: «ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНО».
Рядом с Мартином стоял мужчина в рабочем комбинезоне и держал в руках термос. Его лицо менялось не так явно, как у некоторых прохожих: то добавлялась пара морщин, то исчезала седина у висков, то спина выпрямлялась, то снова чуть сгибалась. Но взгляд оставался один и тот же – усталый, но без паники.
– Опять, – сказал он, не то Мартину, не то самому себе.
– Ага, – ответил Мартин.
– Вчера хотя бы дождь лил подряд, – продолжал мужчина. – Целых полтора часа. Как в старые добрые…
Он оборвал фразу, потому что «старые добрые» тоже растворились где-то между слоями.
– Ну, – сказал он вместо этого, – как в старые.
Мартин кивнул.
Старые времена – это когда время было старым, но не уставшим. Теперь оно было просто измотанным. Ему казалось, что сама ткань часов и минут потёрлась, истончилась в местах, где её слишком часто перезаписывали, накладывали копии, стирали и снова писали – как магнитную ленту, которую слушали до хруста.
И всё это – не потому, что кто-то запустил новый эксперимент. Не потому что очередной инженер решил “продавить систему”. Наоборот: Синхрон наконец-то сделал ровно то, чего от него так долго хотели. Он собрал все линии в одну, как его просили. Просто оказалось, что одна линия, в которой помещаются сразу все варианты, – это вовсе не линия. Это куча, свалка времени, склад вещей, которые забыли выбросить.
В этом не было взрыва, не было эффектного апокалипсиса. Не было ни чёрной дыры на месте города, ни небес, расколовшихся пополам. Был только день, который шёл вразнобой.
– Синхрон виноват, – говорил кто-то пару лет назад.
– Синхрон нас спас, – отвечал кто-то другой.
Теперь никто ничего не говорил. Слова тоже устали.
Автобус всё-таки проявился. На этот раз – более-менее цельный: новый кузов, ровный цвет, из динамиков доносился тот самый голос, что и из радио утром.
– …напоминаем, что временные колебания в вашем секторе не являются основанием для пропуска работы, – сообщил он, пока двери открывались. – Синхрон фиксирует вашу личную последовательность… насколько это возможно.
Люди вошли, каждый в свою версию салона.
Мартин не двинулся.
У него не было ни работы, ни назначения, ни точки, куда следовало бы обязательно попасть. Мир с распавшейся стрелкой времени впервые за много лет подарил ему странный подарок: отсутствие обязанности быть где-то «вовремя».
День вокруг все ещё дергался, перебирая варианты. Где-то в глубине города, в сердце «Хроноса», механизмы Синхрона продолжали делать свою работу – без него, через него, благодаря ему, неважно. Всё происходящее здесь, на улице, было всего лишь побочным эффектом их честных усилий удержать мир от окончательного распада.
Мартин смотрел, как автобус отъезжает, оставляя после себя лёгкое мерцание – след одной версии и тень другой, – и думал о том, что у времени, возможно, тоже есть предел терпению. И что однажды оно имеет право не просто ломаться, а закончиться.
Но этот день ещё не закончился. Он даже толком не начался. И если уж ему суждено идти вразнобой, кому-то придётся пройти его от начала до конца – каким бы странным ни оказалось само понятие «конца».
Он не сразу заметил, в какой именно момент утро кончилось. Не потому, что был рассеян – рассеянности себе он давно уже не позволял, – просто теперь никто не умел поймать ту секунду, когда день перестаёт быть одним и становится другим.
Сначала всё было относительно понятно: серый свет, мокрый асфальт, люди с теми лицами, которые условно подходят к слову «утро». Кто-то спешил, кто-то зевал, кто-то пил кофе из одноразовых стаканчиков, которые не меняются с годами – только логотипы модных сетей умирают и рождаются заново, а белый картон остаётся тем же.
Мартин шёл вдоль фасадов, и его собственная тень держалась достаточно ровно, вытягиваясь под тем углом, который можно было бы назвать десятью или одиннадцатью часами.
Он как раз подумал о том, что, возможно, это будет один из тех относительно цельных дней – без особых провалов, без внезапных просыпаний в чужих эпохах, – как город мигнул.
Не так, как мигают лампы или табло. По-другому.
Звук ушёл первым.
Гул машин, шелест шагов, далёкие крики чьих-то детей – всё это не то чтобы пропало, а как будто отступило, стало ватным, приглушённым, словно кто-то закрутил невидимую ручку громкости, стараясь никого не спугнуть.
Потом сменился воздух. Утренний, сырой и чуть холодящий нос, вдруг стал сухим, густым, пахнущим выхлопами и жареным мясом из ночного ларька, который здесь, в этой точке, должен открываться только после заката.
Мартин моргнул.
Когда он открыл глаза, над городом висела ночь.
Не «вечер», не «сумерки», а настоящая, плотная ночь, в которой небо превращается в чёрный экран, а свет живёт только там, где его включили люди. В окнах домов вспыхнули прямоугольники, реклама на больших экранах зажглась сразу, не утруждая себя постепенным разгоранием.
Асфальт под ногами блестел так, будто недавно прошёл дождь, хотя он помнил, что секунду назад тротуар был матовым и сухим.
– Ну вот, – сказал кто-то рядом.
Мартин повернул голову.
Киоск с кофе, который только что лениво разогревал машину, теперь сиял, как корабль в ночи. Бариста – тот же парень в вязаной шапке – стоял на том же месте, но его глаза были уже другими: не утренне-сонными, а воспалёнными от долгой смены. От чашек поднимался пар, на пластиковом меню цифры цен казались чуть крупнее, чем полчаса назад. Или полдня.
– Опять срезало, – сказал бариста, заметив, куда смотрит Мартин. – Только начали разлив – бац, и ноль-ноль.
Он показал большим пальцем вверх, туда, где над перекрёстком висело электронное табло городского времени – тот самый архаичный пережиток эпохи, когда кто-то ещё считал нужным синхронизировать все часы.
На табло мигало: 00:00.
– С Новым годом, – хмыкнул кто-то из очереди.
– Опоздали, – отозвался другой голос. – Лет на… сколько там теперь?