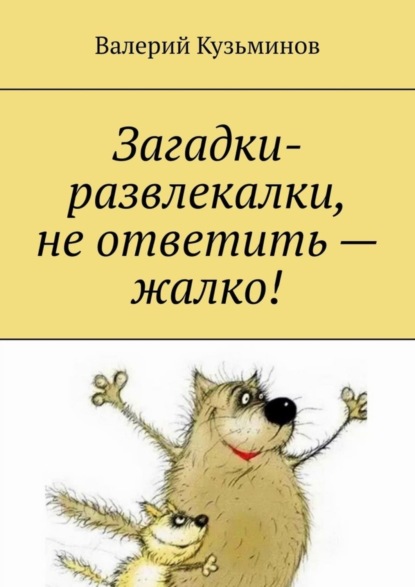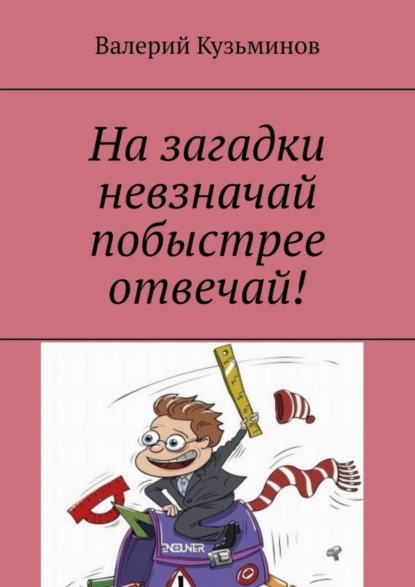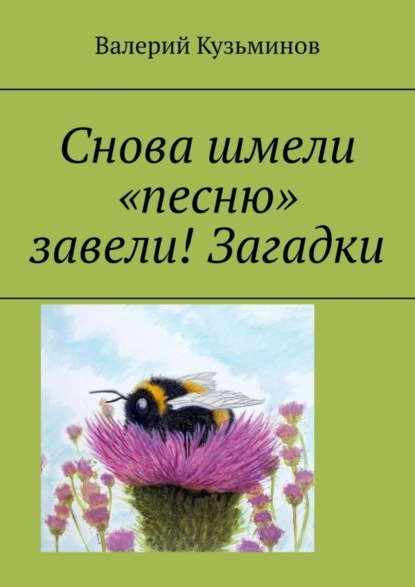Последняя петля

- -
- 100%
- +
Никто не ответил. Никто не хлопал в ладоши, не запускал фейерверков, не бросался обниматься. Полночь давно превратилась из символа чего-то нового в очередной технический сбой.
Мартин поднял голову.
Небо было всё тем же плёночным коллажем: где-то там, над дальними домами, висела полоска рассвета – размытая, как плохо стёртая надпись. Но прямо над ним, над этой улицей, ночь была настоящей, уверенной в себе.
В витрине напротив он увидел своё отражение – на этот раз чёткое, не раздвоенное, почти привычное. Человек средних лет, в пальто, с усталым лицом. На стекле бегущей строкой шли новости.
«ЛОКАЛЬНЫЙ СБРОС СУТОК В СЕКТОРАХ В-4, В-5. СЕТЬ СИНХРОНА УДЕРЖИВАЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ. ПОВОДОВ ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ».
Под этим мелькало ещё:
«ЭКСПЕРТЫ: “ЭТО НЕ НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, А ЕСТЕСТВЕННОЕ СЛЕДСТВИЕ СЛИЯНИЯ ЛИНИЙ”».
– Слышали? – сказал бариста, кивнув подбородком на витрину. – Не новый эксперимент. Можете не переживать.
Сказал он это без сарказма, слишком устало для шутки.
– Я уже давно не переживаю, – ответил Мартин.
И это было правдой. Переживание предполагает, что ещё есть шанс что-то изменить. Сейчас оставалось только фиксировать.
«Естественное следствие». Хорошие слова. Как будто то, что происходит с городом, – просто логический вывод из когда-то принятого решения. А он, Мартин, ходит по этим выводам, как по мостовой.
Он почувствовал, как где-то глубже, под привычным раздражением, шевельнулась мысль, но не стал доводить её до конца. Для этого у него ещё будет время. Или было.
Ночь держалась недолго.
Сначала зажужжал где-то в стороне трансформатор, вспыхнули и погасли сразу несколько окон, будто кто-то слишком резко переключил канал. Электронное табло над перекрёстком замигало, пытаясь пересчитать мир. Цифры скакнули: 00:00, 23:59, 12:00, 11:58…
В какой-то момент они остановились на 12:00.
Не «полночь», а «полдень».
Свет на улице сменился не рывком, а, скорее, как в театре – плавным, но всё равно чуждым переходом. Витрины будто выдохнули, отбросив глубокие тени; неоновая реклама потеряла драматизм; люди стали выглядеть некрасивее – дневной свет был безжалостен.
Киоск с кофе превратился в унылую дневную будку. Парень в шапке, который секунду назад выглядел человеком глубокой ночной смены, теперь всего лишь зевал, потягивая свой первый за день стакан. Утомление с его лица никуда не делось, просто стало другим – дневным.
– Вот, – сказал он, словно комментируя погодный прогноз. – Перешло.
– Что, день? – спросил кто-то.
– Да какая разница, – ответил другой. – Всё равно потом обратно швырнёт.
Разговоры были всё те же, что и два года назад, и год, и неделю. Только тон менялся – из удивлённого в усталый, из усталого в безразличный.
Мартин поймал на себе взгляд женщины, стоящей чуть поодаль.
Она была примерно его возраста – в этой версии. Волосы собраны в хвост, на лице – те самые морщинки вокруг глаз, которые появляются от привычки щуриться на свет. В руках – сетчатая сумка с продуктами, слишком тяжёлая для прогулки, но не для выживания.
Она смотрела на него так, будто пыталась вспомнить, где уже видела. Возможно, в другой временной раскладке, где они жили в одном подъезде. Или были пациентами одного врача. Или просто однажды вместе стояли в очереди за хлебом.
В её взгляде не было ни страха, ни интереса – только тихое признание: да, мы все здесь заложники того же самого сломанного циферблата.
Он коротко кивнул.
Она кивнула в ответ и отвернулась, увлекая за собой сразу две своих версии: одну – чуть моложе, с другой стрижкой, другую – чуть старше, с наклеенным пластырем на щеке.
Мартин подумал, что когда-то, до всех этих слияний, он бы предложил ей донести сумку. Сейчас не стал. Не потому, что стал бессердечным. Просто не был уверен, какой из неё помогать.
Он двинулся дальше.
Город в полдень казался почти нормальным, если не смотреть слишком внимательно.
Да, где-то окна ещё светились ночным светом; да, кое-где по тротуару всё ещё тянулись длинные утренние тени людей, которые давно ушли; да, над дальними домами всё ещё висела полоска вчерашнего заката. Но в целом это был узнаваемый, почти обыденный день: машины сигналят, дети кричат, кто-то ругается в телефоне, кто-то смеётся.
На углу двух улиц, где раньше висел огромный рекламный баннер «Синхрон – порядок времени в каждый дом», теперь красовался более честный плакат.
Белые буквы по тёмному фону:
«СИНХРОН: МЫ СДЕЛАЛИ, ЧТО СМОГЛИ».
Под этим – помельче:
«ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ВРЕМЕННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТОМ. НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОТКАТА».
Когда-то такие слоганы писали из гордости. Теперь – из обороны.
Мартин остановился, прочитал всё целиком дважды, как читают диагноз, который уже поставили, но ещё не смирились.
Синхрон не был новым экспериментом. Он был старой, обкатанной системой, доведённой до логического предела. Сначала его придумали, чтобы подравнять частные часы под общий ритм – чтобы у кого-то слишком не крали, у кого-то случайно не добавляли. Потом на него навесили ещё слой, и ещё, и ещё – уровни перераспределения, коррекции, компенсации.
В какой-то момент сама идея «исходной линии» стала мифом. Осталась только сеть – нечто, что помнит всё, что было, и пытается сделать вид, что это всё ещё можно собрать в одну правдоподобную историю.
Он знал об этом чуть больше, чем средний прохожий. Не потому, что читал новости. Потому что однажды оказался внутри механизма. Не метафорически, не в виде фигуры речи, а буквально – с телом, с памятью, с каждой своей секундой, которую система аккуратно переложила на свои полки.
Иногда, как сейчас, когда день скачет из утра в полночь, а потом в полдень, он чувствовал слабый отклик где-то в глубине черепа. Как если бы у горящего города был нерв, протянутый через него, и этот нерв дёргался всякий раз, когда Синхрон пытался удержать очередной обвал.
Кто-то другой назвал бы это головной болью. Он – нет.
– Это всё ещё ты, – тихо сказал Мартин, глядя на слоган. – Не надо делать вид, что ты здесь ни при чём.
Плакат, естественно, не ответил.
Зато ожил экран рядом. Кусок фасада, отданный под новостную ленту, вспыхнул, смазал полуденный свет холодным голубым.
«В СВЯЗИ С ЛОКАЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ СУТОК В СЕКТОРАХ В-4, В-5 ОБЪЯВЛЕНА ПЕРЕВОДНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗАРПЛАТ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ. ПОДРОБНЕЕ – НА ПОРТАЛЕ СИНХРОНА».
Дальше диктор, уже знакомый голосом, говорил о том, что «хаос – это лишь ощущение», а «постепенная адаптация населения позволяет говорить о новой устойчивой норме». Кадры показывали улыбающихся людей, которые жили сразу в разных возрастах: дедушка, играющий с самим собой-подростком; женщина, одновременно беременная и гуляющая с уже подросшим ребёнком. Все они смотрели в камеру чуть слишком прямо, чтобы верить в эту улыбку.
Мартин отвернулся.
Он поймал себя на странной мысли: если бы кто-то смотрел на всё это со стороны, из другого времени, ему бы показалось, что здесь случилось что-то грандиозное. Конец света, начало света, смена эпох. А по факту – будний день. Нормальный, рабочий, просто неряшливо собранный из обрезков других дней.
Люди не бегали, не кричали, не строили баррикад. Они шли на работу, в школу, в центр адаптации. Они ругались в очередях, смеялись над глупыми шутками, обсуждали старые сериалы. Они, как могло показаться, смирились.
На самом деле – просто устали удивляться.
Он вспомнил первую волну паники. Тогда ещё писали: «Синхрон сошёл с ума», «На город обрушилась временная буря», «Учёные предупреждают…». Тогда собирались подписи под петициями «Верните нам линейное время». Тогда казалось, что можно ещё открутить всё назад, выключить неудачный патч, перезагрузить сеть.
Теперь в новостях никому не приходило в голову использовать слова «откат» или «возврат». Только «адаптация», «нормализация», «естественный процесс».
Словно время – это не то, что с ними делают, а то, что само собой так вот, распадается.
Мартин посмотрел на свои руки.
В этот момент они были его – нынешнего. Без явных смещений. Кожа, знакомая до последней родинки. Шрамы, полученные в тех ещё, старых делах. Лёгкая дрожь, появившаяся после одной ночи в сердце Хроноса.
Но он знал: стоит моргнуть – и что-то сдвинется.
И всё равно он вышел из дома. Всё равно пошёл в этот день, который, по-хорошему, не знал, с чего ему начинаться.
Не потому, что надеялся что-то исправить. Просто потому, что кто-то должен был посмотреть на всё это и запомнить. Не как новость, не как статистику, а как факт. Как утреннюю боль в спине, как вкус кофе, который сварился сам собой, как лампочку, которая одновременно горит и нет.
Время имело полное право на то, чтобы однажды устать и рассыпаться. Но пока оно рассыпалось, кто-то должен был быть свидетелем.
Пока что – это был он.
Он поймал себя на том, что идёт без цели. Просто следует за улицей, как за мыслью, которую давно пора было закончить, но она упрямо расползается во все стороны.
Раньше у таких прогулок были оправдания: «подумать», «проветриться», «переварить дело». Сейчас мыслей было слишком много, а дел – слишком мало. Осталась только привычка двигаться вперёд, хотя сам «вперёд» давно отменили.
У следующего квартала начинался рынок – тот самый стихийный, который городские власти пытались разгонять ещё в те времена, когда у них были чёткие планы по кварталам. Теперь никто его не трогал: сложно разогнать то, что существует сразу в нескольких фазах.
Ряды лотков налезали друг на друга, как слои старых газет. Вот ящик с яблоками – зелёные, наливные, с блеском воды, будто только что с дерева; рядом – те же яблоки, но уже морщинистые, с тёмными пятнами, явно пролежавшие лишнюю неделю; а поверх всего – пустой ящик, на дне которого валялась одна засохшая сердцевина. Продавец стоял между ними всеми сразу, перекидываясь словами и купюрами в разные свои версии.
– Свежие, сегодняшние, – говорил он, протягивая яблоко женщине с авоськой.
«Сегодняшние» могли означать всё, что угодно: от этого утра до давным-давно отменённой осени.
Мартин прошёл мимо мясного ряда. Там было сложнее. Мясо вообще плохо переносило временные смешения. На одном крюке висел свежий кусок, ещё красный, с ровным срезом. На другом – серый, иссохший, словно его забыли здесь пару месяцев назад. Иногда они менялись местами. Покупатели научились выбирать на глаз, интуитивно угадывая, какой вариант им достанется, если протянуть руку сейчас.
Чуть дальше, у стены, сидела пожилая женщина с ведром цветов. Вода в ведре одновременно была прозрачной и мутной, стебли – то бодро стояли, то обмякали. На табличке мелом было написано: «Всегда свежие».
У неё же на коленях лежала стопка газет. Верхняя – сегодняшняя, с тем самым заголовком про «естественное следствие слияния линий». Ниже – старая, пожелтевшая, датированная тем годом, когда Синхрон ещё только запускали в тестовом режиме. В ней было: «ПРИВЕТСТВУЕМ ЭРУ ЧЕСТНОГО ВРЕМЕНИ».
Мартин почти машинально потянулся, взял ту старую.
– Сколько? – спросил.
Женщина подняла голову.
Её лицо и правда было старым – но по-честному, без скачков: морщины прорисованы временем, а не системой, глаза мутноватые, но цепкие.
– Эту не продам, – сказала она после короткой паузы. – Эту я оставляю себе. Чтобы знать, с чего всё началось.
Она улыбнулась уголком губ, и в этой улыбке было больше остроты, чем в заголовках.
– А началось с того, что мы хотели справедливости, – добавила она, больше себе, чем ему. – Чтобы никому лишнего, никому в кредит.
Мартин вернул газету на место.
– Получилось? – спросил.
– О, – сказала она, – во времени никому не лишнего.
Он не стал уточнять, что она имеет в виду. И так было понятно.
Дальше, за рынком, начинался сквер. Здесь время чувствовалось особенно странно. Деревья всегда были плохими союзниками для Синхрона: слишком уж у них свой ритм, не похожий ни на человеческий, ни на машинный.
В этом сквере каждое дерево жило в свой сезон. Один клён стоял голый, чёрный, как после ноябрьского ветра; соседний только-только распускал молодые, липкие листья; третий был забит тяжёлой, тёмно-зелёной листвой середины лета. Под ними по земле лежал снег – не ровным ковром, а клочками, как старое одеяло, из которого выдрали куски.
На одной лавочке сидела пара – точнее, три пары.
В центре – двое молодых, почти подростков: она в лёгком пальто, он в худи, их руки осторожно касались друг друга. Слева – они же лет через двадцать: она с чуть оплывшими чертами лица, но с тем же смехом; он с намечающимся животиком, но всё с теми же светящимися глазами. Справа – ещё через несколько десятков лет: она – с тростью, он – с кислородной трубкой; руки всё так же переплетены.
Смешные фразы, брошенные между ними, долетали кучей: «позвони мне», «помнишь, как тогда», «не уходи надолго», «ты всё равно никуда не денешься», «держись».
Мартин поймал себя на том, что слушает их, как хронику. Не из романтического интереса – просто как факт времени, который ещё умеет повторяться, хоть и не по порядку.
На другой лавочке, ближе к дорожке, сидел мальчишка лет восьми и швырял камешки в лужу. В той же лужи через пару метров отражался мужчина в форме – наверняка тот же мальчишка, только выросший и поступивший куда-то в органы, где форма ещё имеет значение. Их броски совпадали по траектории.
Мартин остановился.
Ему вдруг отчётливо представилось, как выглядел бы этот сквер «раньше». Одна версия каждого человека на каждой лавочке, один возраст, одна последовательность событий: встретились, поссорились, помирились, постарели, кто-то ушёл. Всё аккуратно разложено по линиям, как дела по папкам.
Тот старый мир был больным – неравномерностью, несправедливостью, кражей чужих секунд. Он это знал слишком хорошо: каждое дело, каждая жертва, каждая строка в отчётах. Тогда казалось, что достаточно поставить над всем этим честного, беспристрастного судью – систему, которая будет следить, чтобы никто не обманывал время.
Сейчас судья превратился в перепуганного архивариуса, который, испугавшись потерять хоть одну бумажку, свалил все дела в одну кучу.
И всё это – не потому, что кто-то в тайне запустил «новый эксперимент». Напротив; любой, кто ещё попытался бы провести эксперимент над временем, просто утонул бы в этом мешанине. Не осталось чистого поля, на котором можно было бы что-то испытать.
Синхрон больше не был лабораторией. Он был костылём. Подпоркой под зданием, стены которого давно дали трещину. И эта подпорка, как любой временный механизм, однажды имела полное право рухнуть.
– Ты сам себя довёл, – сказал он мысленно тому, кто когда-то был сетью, потом стал сознанием, потом – почти организмом.
Ответа не последовало, конечно. И всё же где-то на границе слуха, там, где тончайшие временные колебания переходят в шум, Мартин уловил лёгкий, едва заметный отклик.
Не звук. Скорее, отсутствие звука – провал в фоновой какофонии города, как если бы кто-то аккуратно вырезал один фрагмент и оставил после него тишину.
Он знал это ощущение.
Когда-то оно означало: «Хронофаг рядом». Не в том смысле, что где-то за углом прячется чудовище, готовое сожрать ещё кусок чужой жизни. В смысле, что сама структура времени собирается и напрягается, как мышца.
Сейчас Хронофаг был не «кем-то», а «чем-то». Режимом освещения, как шутил некогда один инженер; органом, через который сеть переваривает накопленную память.
Мартин остановился посреди дорожки.
Свет в сквере был ровный, ненастоящий – как в дешёвых фильтрах на фотографиях. Тени сгладились, лица людей посерели, лишившись контрастов. В ветвях деревьев пропали случайные отсветы разного времени суток – осталось только одно, полуденное, упрямо выровненное светило.
– Любишь ровную освещённость, да? – тихо сказал он, обращаясь в никуда.
Раньше, в той жизни, когда он ещё называл вещи по имени, за этим следовало бы что-то ещё: погоня, расследование, попытка поймать, понять, остановить. Теперь не было ни сил, ни смысла.
Свет чуть дрогнул – или ему показалось.
На дорожке перед ним две версии одного и того же ребёнка шли навстречу из разных времён. Одна – младшая, в яркой куртке, с шарфом, затянутым чуть ли не до глаз; другая – постарше, лет одиннадцати, с тем же шрамом на подбородке, но уже без шарфа, с самостоятельной походкой.
Они должны были пересечься, но не пересеклись.
В какой-то момент младшая версия просто исчезла, как кадр, который вырезали из ленты, и осталась только старшая. Как будто Хронофаг – этот нелепый, неуклюжий орган времени – решил, что две одинаковые истории для одного человека – перебор.
Мартин сжал пальцы в карманах.
Он видел такие «редукции» и раньше. В сети это называлось безлично: оптимизация, примирение версий, снижение избыточной нагрузки. В жизни это означало, что какие-то детские травмы, радости, встречи – всё то, что когда-то происходило – вдруг переставали иметь место. Люди продолжали жить, но у них становилось чуть меньше «я».
Он сам был частью этого механизма. Не хотел, не просился, но стал. Когда его память, перемолотая через ядро Синхрона, превратилась в один из фильтров, который решает, какие моменты стоит сохранить, а какие можно списать в архив.
В такие моменты город подрагивал, как сквер сейчас.
– Я не эксперимент, – сказал тихий голос где-то на границе сознания.
Он не был голосом. Не был словами. Но Мартин всё равно уловил смысл так же отчётливо, как прочитал бы бегущую строку на экране.
– Знаю, – ответил он – тоже не вслух.
Он поймал себя на том, что говорит «знаю» не просто сети, не абстрактному Хронофагу. Себе тоже. Той своей части, что до сих пор жила там, в глубине серверных залов, пропущенная через оптоволокно и обёрнутая в протоколы безопасности.
Всё, что сейчас происходило с городом – этот день, перескакивающий из рассвета в полночь, из полудня в раньше, – было не чей-то новой прихотью. Не дурацким экспериментом, который можно разоблачить и остановить.
Это был закономерный результат.
Хотели собрать все линии в одну – собрали. Хотели, чтобы никто не мог украсть лишнее, отнять у другого жизнь – сделали так, что никто больше не знает, сколько этой жизни у него есть. Хотели честности – получили честный хаос.
Мартин вышел из сквера на следующую улицу и только тогда заметил, что снова стало как бы утро.
Свет посерел, стал мягче, влажнее. В окнах домов отражались облака того самого типа, который принято называть «утренними». В кофейнях опять крутили плейлисты с бодрым джазом, будто пытаясь подбодрить тех, кто только что проснулся, хотя кое-кто уже прожил сегодня больше суток.
На перекрёстке школьники – целая стая – шли с рюкзаками, как полагается по дороге на занятия. Некоторые из них были заметно старше, чем допускает школьная форма: на лицах щетина, сигареты в руках, усталость ночных смен. Кто-то из них, вероятно, уже давно закончил школу в другой версии дня, но привычка идти по этому маршруту сохранилась.
В новостном киоске телевизор показывал всё те же кадры города сверху. Только подписи под сюжетами поменялись.
«ЭТО НЕ ЭКСПЕРИМЕНТ, – ГОВОРИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СИНХРОНА. – ЭТО НОВЫЙ БАЛАНС».
«ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ЯДРА СЕТИ ПРОПАЛ ТРИ ГОДА НАЗАД. СЛЕДОВАТЕЛИ ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ОН ПОГИБ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ».
Фотография под заголовком была ему знакома. Чересчур.
С неё смотрел он сам – чуть моложе, чем сейчас, с более резкими чертами, в костюме, который тогда казался ему чужим. Под снимком значилось: «М. Р., центральный узел проекта “Синхрон”. Статус: погиб. Данные уточняются».
Мартин посмотрел на собственное лицо, аккуратно заключённое в рамку.
«Главный архитектор», «центральный узел» – хорошие формулировки. Не вполне точные, но удобные для новостей. Для тех, кто не хочет вдаваться в подробности.
Он не стал приставать к киоскёру с вопросами, зачем тот оставил старый сюжет в эфире. Просто постоял, посмотрел на себя, которого мир уже три года как похоронил, и подумал, что у времени, в отличие от людей, нет роскоши считать кого-то окончательно «умершим».
Если ты когда-то был, ты продолжаешь быть. В чьей-то памяти, в чьих-то слоях, в чьих-то сбоях. В самой ткани Синхрона – тоже.
Город вокруг переставал пытаться сделать вид, что живёт по расписанию.
Мартин поправил ворот пальто и двинулся дальше по улице, которая помнила слишком много разных утр, ночей и полудней сразу. День шёл вразнобой, как умел. А он пока что просто шёл вместе с ним, отмечая для себя каждую трещину, каждый сдвиг, как когда-то отмечал улики в протоколе.
Он свернул в переулок просто потому, что так делал раньше. Ещё в те времена, когда дни шли от утра к вечеру, а не как выпавшая колода, где карты разных мастей лежат поперемешку. Тогда этот путь был «короче до участка». Теперь участок значился где-то между «перенесён», «объединён» и «упразднён», но ноги всё равно помнили маршрут.
Переулок встретил его запахом сырости и кошек. Тут время всегда держалось чуть менее уверенно, чем на проспекте: городские службы сюда редко заглядывали даже в линейные времена, а сейчас и подавно.
Он прошёл мимо двери, которую раньше знал как «подворотню с закладками». Теперь там висела табличка «Пункт выдачи заказов». Под ней толпились люди – в разных возрастах, конечно. Молодая девушка и она же лет через двадцать, с ребёнком на руке; мужчина средних лет и его тень-подросток, всё ещё не привыкший к собственному росту. Каждый ждал свою посылку, и у каждого в телефоне было по несколько статусов доставки, противоречащих друг другу.
– Ваш заказ уже был вручен, – терпеливо повторял автоматический голос из динамика над дверью. – Ваш заказ только что отправлен. Ваш заказ ещё не создан.
Очередь шумела, но без особого возмущения. К общему хаосу мира примешивался маленький личный хаос логистики, и на фоне первого второй казался почти милой прихотью.
Дальше начинался квартал старых магазинов, которые выжили только потому, что никому не пришло в голову официально закрывать их во всех версиях сразу. Здесь ехидно соседствовали вывески «24 ЧАСА» и «09:00–21:00», хотя слова «часы» и «до» давно потеряли смысл.
Мартин зашёл в первый попавшийся магазин – не за чем-то конкретным, просто так, для проверки собственной реальности.
Внутри время ещё больше сморщилось.
В одном проходе женщина в форме продавца одновременно выкладывала на полки макароны и уже их уценивала – на тех же полках, поверх свежих ярких упаковок лежали выцветшие, с красными наклейками «-70 %». Покупатель в конце ряда тянулся за пачкой; его рука то вытягивала новенькую, шуршащую, то проходила сквозь неё и брала ту, что успела отсыреть.
С потолка, из динамиков, лилась музыка – какой-то старый хит, который пережил несколько поколений и теперь звучал сразу во всех аранжировках. Один и тот же припев накладывался на себя же, с интервалом в пару лет: сначала глухой, записанный на живые инструменты, потом электронный, потом ещё какой-то ремикс.
На стене у входа висел экран с внутренним каналом Синхрона.
«ВАЖНО: ПОВТОРЯЕМ. НАБЛЮДАЕМЫЕ ЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО СЛИЯНИЯ ЛИНИЙ. ЭТО НЕ НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ», – говорила надпись.
Под ней сменялись лица экспертов. Один с уверенной бородой, другой – в очках, женщина с серьёзным взглядом. Они по очереди говорили примерно одно и то же: про «новый баланс», «переходные состояния», «адаптацию».
– Мы привыкли думать о времени как о прямой, – вещала женщина. – Но прямая – всего лишь удобная иллюзия. Сейчас мы сталкиваемся с более сложной геометрией. Это не катастрофа, а процесс.
– В каком месте это не катастрофа, – пробурчал кто-то у полки с консервами.
– В телевизоре, – ответил ему кто-то другой.
Мартин стоял перед экраном и слушал автоматические формулировки так же, как раньше слушал показания свидетелей: отметая лишнее, вычленяя то, что не укладывается в общую легенду.
Новая легенда была проста: так и должно было быть. Не получилось бы иначе. Никто не виноват – по крайней мере, никто конкретный.
Где-то в глубине черепа тихо отзывалась сеть. Ему казалось – нет, не казалось, я чувствовал, – что каждое такое заявление внутри вызывает лёгкое, почти неуловимое напряжение. Как если бы Синхрон сам был не до конца согласен с собственными пресс-релизами, но вынужден был их транслировать.
– Диву даюсь, – сказала рядом старушка, держа в руках банку тушёнки, которая то становилась дороже, то дешевле, в зависимости от того, какой временной штамп на ценнике успевал прорваться. – Столько умных слов, а сказать боятся главное.
– Что именно? – спросил Мартин, не сразу поняв, что вопрос адресует себе.
Она посмотрела на него прищурясь. В её глазах не было страха перед тем, что город превращается в головоломку; там была усталость человека, который уже пережил не один обвал эпох.