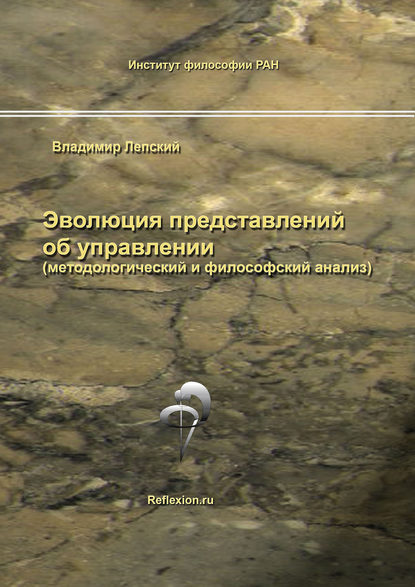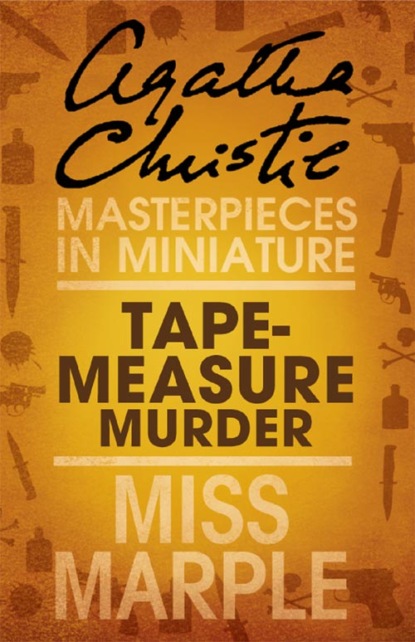Последняя петля

- -
- 100%
- +
– Что всё умереть может, – сказала она просто. – И время тоже.
Она пожала плечами и потянулась к другой банке.
Мартин не ответил.
«Имеет ли время право умереть». Фраза прозвучала в голове как чужая, но легла в тот внутренний карман, где раньше аккуратно лежали вопросы дела – те, на которые нельзя было ответить прямо в отчёте.
Он купил пакет печенья, больше из необходимости завершить какое-то действие, чем из желания. На чеке время покупки значилось тройным – 09:12, 23:58, 12:01 – с припиской: «значение уточняется сетью». Кассир пробил товар двумя разными возрастами рук, чуть запутавшись, но сканер, казалось, был к такому давно привыкший.
На выходе он остановился под козырьком – не от дождя, которого не было, а просто потому, что там висел ещё один экран с новостями. Город, похоже, решил сегодня особенно настойчиво объяснять, что с ним происходит.
Теперь показывали круглый стол. За столом – те самые лица: инженеры, чиновники, психиатры. Внизу движущейся строкой шёл вопрос от зрителя: «МОЖНО ЛИ ПРОСТО ОТКЛЮЧИТЬ ВСЁ?»
Ответ был долгим, многоэтажным. Про «невозможность полного обесточивания узлов», «риски тотального распада структуры», «возврат к хаосу до-Синхронной эпохи».
– К хаосу, – тихо повторил Мартин, глядя на улицу, где рядом шли три версии одной и той же девочки с воздушным шариком. – К хаосу.
Он видел «до-Синхрона». Видел, как одни жили слишком мало, другие – слишком много, как годы из людей вынимали, как из батареек, и перекидывали тем, кто мог заплатить. Там тоже был хаос – только тихий, бухгалтерский, записанный в табличках.
Теперь хаос стал честным, публичным. Вылез на улицы, занял небо, забрался в утренний кофе. И всё равно оставался вопрос: если система устала, если время на пределе, кто имеет право сказать ему: «достаточно»?
Ему – Мартину – это право когда-то почти дали. Не словами, не указами, но фактом того, что его память засунули в сердце сети и заставили там работать фильтром.
Он отогнал мысль. Это был не тот ход, что стоит делать посреди рынка, с пакетом печенья в руке.
Город сделал очередной вдох.
Он это почувствовал ещё до того, как заметил, как изменилась улица. Воздух на секунду стал густым, вязким; звуки смазались, как если бы их пропустили через старый магнитофон.
Слева, над крышами домов, вспыхнула полоска заката – оранжево-розовая, неожиданно красивая. Она легла поверх утренних облаков, как шрам.
За спиной включился фонарь, хотя по логике дня ему ещё рано. Свет от него лёг на асфальт плоским пятном. В этом пятне тени людей перестали множиться – на секунду каждый прохожий был только одним собой. Один мужчина, одна женщина, один ребёнок. Нет наложений, нет старых и новых версий.
Мартин, не думая, шагнул в свет.
И застывшее внутри дрожание слегка отпустило.
Он стоял в круге жёлтого, слишком тёплого для этого времени суток сияния и чувствовал, как странно ровно бьётся сердце. Как будто фонарь вырезал для него маленький карман линейности – пару секунд, в которых прошлое ещё было «до», а будущее – «после».
В такие моменты было особенно ясно, насколько сильно расползлось всё остальное.
– Это не долго, – сказал знакомый не-голос где-то на границе восприятия.
Он не стал отвечать. Просто стоял и дышал.
Потом свет дрогнул, стал обычным – опять пустил по асфальту несколько разных версий тени.
– Ну и ладно, – сказал Мартин уже вслух. – Всё равно не договорим.
Он вышел из-под фонаря.
День вокруг снова сдвинулся – не рывком, не скачком во вчера или послезавтра, а как перетасованная колода. Где-то в глубине квартала зазвенел школьный звонок, но здесь, на этой улице, кто-то зажигал вывеску бара «Ночной», хотя небо ещё держалось светлым.
У остановки, на которой он уже сегодня стоял, теперь висело другое расписание. Под цифрами часов значились диапазоны: «утро/что-то около полудня», «вечер/первая половина ночи». Кто-то заботливо добавил от руки: «как повезёт».
Рядом двое спорили.
– Это всё новый эксперимент, я тебе говорю, – убеждённо говорил один, высокий, с нервными руками. – Они там в своём центре сидят и проверяют, сколько мы выдержим.
– Да успокойся ты, – отвечал ему второй, пожав плечами. – Эксперименты давно закончились. Теперь просто так. – Как «так»?
– А вот так. Получилось, как получилось.
Мартин, проходя мимо, уловил в этом «просто так» ту особую интонацию, которая появляется у людей, проговоривших собственное бессилие до конца.
Он дошёл до конца квартала и остановился, не потому, что устал, – потому что день, казалось, снова покатился в другую сторону.
Не было ни резкого потемнения, ни вспышки солнца. Просто где-то по внутренней шкале ощутимо сдвинулся вес событий. Случайные разговоры, которые он подхватывал краем уха, стали тяжелее, как если бы речь шла о вечере; тени потолстели; запахи сменились с кофе и сырости на жареный лук и табак.
Где-то давно, в другой жизни, он бы посмотрел на часы и отметил: «шестнадцать тридцать, начало вечера». Сейчас все часы вокруг показывали каждое своё, но его тело всё равно знало: этот день успел прожить уже слишком много разных кусочков.
При этом он никак не приблизился к чему-то похожему на «конец».
Ни одного логического завершения: ни дела, доведённого до конца, ни рабочей смены, ни «пошли домой» как твёрдой точки. Только разношёрстные фрагменты – утро, полночь, полдень, ещё одно утро, кусочек вечера, старый закат, новый рассвет, наложенные друг на друга, как прозрачные слайды.
Город жил в этом состоянии как будто всегда. Люди научились не рвать волосы, а просто подстраиваться – как под капризную погоду.
Только он, Мартин, всё ещё по привычке пытался поймать структуру. Выстроить в голове хоть какую-то хронологию: сначала – потом – после. Каждое «сначала» тут же расплывалось, каждый «потом» распадался на варианты. Но сама попытка оставалась.
Может быть, именно поэтому сеть до сих пор цеплялась за него. И он – за неё.
Этот день, который не умел идти от начала к концу, был только одним из многих. Таких «сегодня» было уже не сосчитать. Они накладывались друг на друга, как страницы, между которыми кто-то забыл вытащить закладки.
Но именно в этом дне – в его нелепых перескоках, тихой усталости новостей, в детях, которые встречали самих себя из будущего, и старухах, говорящих вслух про право времени умереть, – уже звучало что-то ещё.
Как слабая нота в общем гуле, которую пока слышит только один человек.
Мартин шёл по улице, и город шёл вместе с ним – вразнобой, без стрелки, но всё ещё живой. И где-то глубоко, под слоями системных предупреждений «это не эксперимент», он чувствовал то, что никто ещё не решился сформулировать вслух: рано или поздно кому-то всё равно придётся ответить за этот хаос не оправданиями, а выбором.
Пока же день продолжал шататься между утренним светом и вечерними тенями, как пьяный акробат на растянутой, потрёпанной верёвке. И единственное, что он мог сделать сейчас, – это идти рядом и запоминать, как именно время рассыпается. Чтобы потом, когда его спросит об этом сам город, ему было что сказать.
Глава 2. Мир, где детство и старость живут рядом
Он какое-то время просто смотрел на строку на экране.
«Мать: статус – жива / умерла / данные уточняются».
Эта формулировка преследовала его уже давно. Вначале – как ошибка в базе: что-то не так подтянулось из старых архивов, сломался один из коннекторов, надо будет написать запрос в техподдержку. Потом – как шутка, чёрная и тупая, если бы не касалась его лично. Теперь – как диагноз не ей, а миру.
Синхрон любил аккуратные статусы. «Активен / не активен». «Онлайн / офлайн». «Жив / мёртв». Строка «данные уточняются» обычно висела считаные часы, пока сети договаривались между собой. Но у его матери она стояла уже третью весну, пятую зиму, какой там по счёту сейчас день – не так важно.
Мартин смотрел на экран и думал, что, возможно, только здесь система честна.
Она действительно не знала, жива мать или нет. Имелось в виду не биологически – сердце, дыхание, электрическая активность. С этим можно было бы разобраться, если подвести к телу достаточное количество проводов. Нет, вопрос был в другом: где именно проходит граница между «есть» и «нет», если куски жизни разнесло по возрастам, как осколки зеркала.
Телефон мягко вибрировал в руке. Система, не понимая, что он не колеблется, а просто откладывает момент, выдала уведомление:
«Рекомендуемый визит: сегодня. Вероятность совпадения линий: 61 %».
Как будто это было свидание, а не поход к той, кто когда-то была его якорем.
– Ладно, – сказал он самому себе, хотя голос прозвучал так, словно отвечал на чью-то чужую просьбу. – Сегодня так сегодня.
Он выключил экран и убрал телефон в карман.
Дорога к матери не была длинной. Город сжал расстояния, когда перестал верить во время: то, что раньше занимало сорок минут на троллейбусе, теперь иногда случалось «сразу», иногда растягивалось на несколько слоёв суток, в зависимости от того, какие куски дня накладывались друг на друга.
Он шёл по улицам, которые всё ещё пытались выглядеть привычно. Над парикмахерской по-прежнему висела облезлая вывеска «Салон “Время”», только слово «Время» кто-то зачеркнул маркером и приписал сбоку: «Условное». На углу, где раньше был киоск с газетами, теперь стоял терминал Синхрона – стеклянная будка с мягким светом внутри, из которой можно было запросить свою «личную хронологию». Люди иногда заходили туда, выходили с бледными лицами и больше никогда не возвращались.
Мартин старательно не смотрел в ту сторону.
Здание, где сейчас жила/умирала/уточнялась его мать, когда-то было обычной городской больницей. Потом – отделением долговременного ухода. Потом – центром когнитивной адаптации времени. Вывеску меняли несколько раз, но кирпичи были те же.
Во дворе, как водится, стояли скамейки. И на них, как водится, сидели старики.
Только стариками они были не всегда.
На одной скамейке мужчина и женщина, оба с тростями, спорили о чём-то ожесточённо, перебивая друг друга. В следующую секунду женщина превращалась в девушку с теми же глазами и тем же резким жестом руки, а мужчина рядом – в мальчишку, который ещё не научился ругаться по-взрослому, но уже умел обижаться по-настоящему. Их слова от этого почти не менялись: только вместо «ты тогда ушёл, даже не попрощавшись» звучало «ты уйдёшь, даже не попрощавшись».
Чуть дальше, возле песочницы, дети играли в будущее.
Не в полицейских и воров, не в космонавтов, даже не в «Синхрон» – эту игру запретили официально, когда выяснилось, что слишком многие дети угадывают детали его архитектуры.
Эти просто стояли кружком, с серьёзными лицами, и по очереди говорили друг другу:
– А ты будешь врачом.
– А ты – утонешь.
– А ты…
Мартин замедлил шаг. Сначала он хотел пройти мимо, не вслушиваясь; дети легко считывали внимание, особенно в этом мире, где границы между «сейчас» и «потом» стали тоньше детской кожи. Но слова сами врезались в слух.
– …а ты потеряешь две зимы, – произнесла девочка с торчащими косичками, глядя на мальчика в полосатой шапке. Говорила не зло, констатирующе. – Одну ты забудешь, другую тебе украдут.
– Зато мне потом добавят, – возразил он почти с гордостью, как будто речь шла о карманных деньгах.
– Добавят не тебе, – сказала другая. – Другому, который ты.
Они обсуждали это спокойно, как список уроков на завтра.
– А дедушка умрёт? – спросил кто-то из круга.
– Он уже, – ответила девочка в косичках. – Просто ещё не успел.
И все дружно кивнули, принимая это как рабочую версию.
Мартин оторвал взгляд и пошёл дальше. На секунду ему захотелось подойти, сказать им, что так нельзя, что так не говорят. Потом он вспомнил, что сам давно перестал знать, как «правильно».
Перед входом в корпус сидела женщина с вязаньем. На коленях у неё лежал клубок серой пряжи, который то разматывался, открывая новые, светлые витки, то наоборот, сжимался, как будто кто-то перематывал плёнку назад. Её лицо менялось мало: только кожа то разглаживалась, то покрывалась сеткой морщин, но глаза оставались одни и те же – зоркие, наблюдательные.
– К кому? – спросила она, когда он подошёл ближе.
Её голос тоже гулял по возрастам: на начале фразы звучал молодым, к концу – хрипел старческим.
– К Р., – сказал Мартин. – Отделение…
– Знаю, – перебила женщина. – К ней многие… ну как, многие. В разные времена.
Она прищурилась.
– Сын будете?
«Я уже», – хотел сказать он и поймал себя на том, что это «уже» означает одновременно «когда-то был мальчиком, который держался за её руку» и «когда-то давно считался официальным родственником в базе данных».
– Да, – сказал он после небольшой паузы.
– Тогда проходите, – женщина махнула спицами в сторону двери. – Сегодня линию с ней чуть меньше трясёт. Вам повезло.
Повезло.
Ему хотелось спросить, кому именно из них – ему сегодняшнему, тому, который уже приходил раньше, или тому, который ещё только собирается. Но он не стал.
Внутри пахло лекарствами, варёной капустой и чем-то металлическим – не то кровь, не то старый инструмент, не то просто воздух, который слишком давно гоняют по одному и тому же кругу.
Коридоры были одинаковыми, как всегда в таких местах: линолеум, стены цвета засохшей зелёной краски, таблички с номерами палат. Разница была только в том, как вёл себя свет.
В одних секциях лампы работали по привычному, человеческому расписанию: ярче днём, слабее ночью. В других – по логике Синхрона, выровненного до абсурда: ровный белый свет, не меняющийся ни при каких обстоятельствах. В третьих свет ходил волнами: то заваливался в теплый закат, то в ледяной утренний, не обращая внимания на часы.
У поста сидела медсестра, которая была сразу тремя людьми. Молодая, ещё не успевшая научиться смотреть на пациентов как на статистику; женщина лет сорока, с привычной грубоватой заботливостью; старуха с уставшими пальцами, печатающими на клавиатуре медленнее, но точнее. Они смещались друг относительно друга, как слайды в проекторе, но общая фигура оставалась на месте.
– Р. в двести шестой, – сказала она, не поднимая глаз. – Сейчас…
Она замолчала, явно проверяя что-то в системе.
Мартин знал, что именно: совпадение линий, вероятность того, что его визит сегодня «засчитается» как визит именно к этой версии матери, а не к той, которая ещё в другой палате, в другой ветке дня.
– У вас окно минут двадцать, – наконец сказала она. – Плюс-минус.
– Плюс-минус что? – машинально уточнил он.
– Всё, – вздохнула медсестра.
Двести шестая была в конце коридора, в том секторе, где свет явно подстроили под чьи-то инженерные представления о «нейтральном». Никаких полутонов, никаких теней. Всё разлито равномерно, как белая краска.
Мартин остановился у двери.
Рука сама легла на ручку, как делала это уже много раз – в разных днях, в разных составах его самого. В некоторых из этих дней он был младше, в некоторых старше, в некоторых – более виноватым, чем чувствовал себя сейчас.
Он вдохнул. воздуха было слишком много – как будто лёгкие не успевали решить, ухватить прошлое или будущее.
Потом открыл дверь.
Палата оказалась меньше, чем ему помнилось. Или он вырос. Не в смысле роста – в смысле того, сколько мира теперь помещается внутри.
Мать сидела у окна.
На первый взгляд – всё просто: женщина пожилого возраста, седые волосы собраны в пучок, худые плечи под одеялом, взгляд устремлён куда-то за стекло. На втором – сложности начинались.
Его сознание отчаянно пыталось ухватиться за одну её версию: ту самую, которую он помнил по детству. Руки – сильные, тёплые, пахнущие тестом и химией для уборки. Голос – жёсткий, но справедливый. Спина – прямая.
Перед ним эти элементы жили собственной жизнью.
Руки то становились костлявыми, с прозрачной кожей и синеватыми венами, то рубцовыми и широкими, как у женщины, которая ещё сама таскает ведра. Плечи то подрагивали от слабости, то расправлялись. Глаза под очками – да, очки тоже мигали: то на цепочке, то совсем исчезали – иногда были мутными, иногда – слишком ясными для этого возраста.
– Мам, – сказал он, и во рту тут же стало сухо.
Слово прозвучало сразу в нескольких регистрах. Один – привычный, взрослый, с хрипотцой. Другой – детский, тонкий, почти пронзительный. Третий – усталый, как у человека, который произносил это уже слишком много раз и каждый раз чуть по-разному.
Она повернула голову.
Сначала в её взгляде не было узнавания. Только тот самый фокус, который бывает у людей, смотрящих сквозь собеседника – дальше, в какие-то свои, отдельные миры. Потом что-то щёлкнуло.
– Мартин, – сказала она.
И так, как сказала, он понял, что в этот момент для неё ему одновременно пять, двадцать восемь и… ещё не случилось.
– Ты пришёл слишком рано, – добавила она и тут же, не меняя интонации, – ты пришёл слишком поздно.
Он подошёл ближе.
Её лицо дрожало – не физически, а как картинка в нестабильном сигнале. Вот знакомый изгиб губ, тот самый, который означал недовольство, если тарелка в раковине не помыта. Вот – другой, тот, что появлялся, когда она смеяться не хотела, но всё равно начинала. Между ними проскальзывала ещё одна, тонкая, почти незаметная улыбка – он не успел прожить её в своей жизни, она относилась к какому-то их будущему, которого не будет.
– Это я, – сказал он тихо, хотя понимал, что в этом «я» тоже слишком много вариантов.
– Да, – согласилась мать. – Ты тот, который сломал.
Она сказала это спокойно, без обвинения. Констатация факта.
– И тот, который починит, – добавила через секунду.
За этой секундами могли быть годы. Или их не было вовсе.
Мартин ощутил, как внутри поднимается знакомая тяжесть – не вина даже, а что-то рядом. Ответственность за то, чего ты ещё не сделал, но уже сделал.
– Я… – начал он и оборвал.
Не было смысла оправдываться перед человеком, для которого все его «до» и «после» уже смешались в одну непрерывную ошибку.
Он присел на стул у кровати.
Рядом, на тумбочке, стояла фотография. Самодельная рамка, дешёвый пластик. На снимке – он с матерью на какой-то скамейке. Ему лет десять, может, меньше; ей – ещё далеко до первого седого волоса.
Фотография тоже не держалась в одном времени.
Иногда мальчик на ней выглядел старше, чем сидящий рядом мужчина; иногда женщина – наоборот моложе обоих. Фон за их спинами то становился ясным, солнечным, то проваливался в серые пятна, как плохо проявленный кадр.
– Ты тогда всё ещё был, – сказала мать, заметив его взгляд. – И ещё не был.
Он не был уверён, о каком «тогда» она говорит.
– Я всё ещё есть, – ответил он.
Она посмотрела на него испытующе, как когда-то смотрела, если ловила его на лжи.
– Пока, – сказала она. – Пока ты есть…
Она не договорила. Взгляд ушёл в сторону, к окну, где за стеклом медленно смещались ветви деревьев. На них одновременно сидели голые, чёрные ветки зимы и распустившиеся, ярко-зелёные листья весны.
– …время тоже держится, – закончила она уже куда-то в сторону. Или уже в другое «сейчас».
Он почувствовал, как по всему корпусу лёгкой волной проходит дрожь – или это была только его внутренняя сеть, откликнувшаяся на её слова.
Снаружи по коридору кто-то проехал каталку; в соседней палате зазвенел металлический лоток; где-то внизу дети продолжали играть в «будущее».
День, который шёл вразнобой, на мгновение собрался вокруг этой комнаты, как если бы сам пытался прислушаться.
Некоторое время они просто сидели молча.
Она – у окна, он – на стуле, чуть в стороне, как учили в старой жизни: не загораживать свет, не нависать. Тишина между ними была не пустой – в ней, как в старом радиоприёмнике, шуршали помехи чужих времён.
– Ты сегодня… средний, – первой нарушила молчание мать.
Он моргнул.
– В смысле?
– Не маленький и ещё не весь седой, – объяснила она терпеливо, как ребёнку. – В прошлый раз ты был очень… – она поискала слово, – измученный. Старый. Слишком. Раньше – наоборот, только-только научился бриться.
Она чуть наклонила голову, рассматривая его.
– А сейчас ты между. Мне так легче. Меньше скачет.
Он улыбнулся краем рта.
– Рад, что попал в удобный возраст.
– Не умничай, – автоматически отрезала она. Это был тот же тон, что когда-то обрывал его попытки уходить от прямых ответов шутками.
От этого простого «не умничай» ему вдруг стало теплее, чем от любого солнца за окном.
– Ты приходишь не по порядку, – добавила она уже мягче. – Иногда ещё совсем маленьким. Вытираешь нос рукавом. Иногда… – она прищурилась. – Иногда тебя вообще нет. Только… – она провела пальцами по воздуху, будто нащупывая кого-то за стеклом. – Тень.
Он знал, о чём она. В каких-то линиях он так и не решился прийти. В каких-то – не успел. В каких-то, возможно, уже не было ни её, ни этого корпуса, ни города. Но Синхрон сжал всё это в один коридор, одну палату, один стул у окна.
– Какой я сегодня ещё? – спросил он.
Её пальцы – то старческие, с прозрачной кожей, то молодые, жилистые – нашли на одеяле невидимую складку и начали её разглаживать. Знакомый жест: так она когда-то справлялась с волнением перед экзаменами, перед разговорами с учителями, перед визитом участкового.
– Ты ещё… – она прищурилась, всматриваясь в него, как в далёкий объект. В её зрачках на секунду мелькнули отражения, которых он не знал: лабораторный свет, холодные панели, стекло серверной. – Ты ещё совсем не был.
– Это как?
– Я вижу тебя… там, – она кивнула не к окну и не в коридор, а куда-то в сторону, где, по её ощущению, проходила другая линия. – Ты стоишь в белой рубашке, очень злой, очень живой. Но тебя ещё нет.
Мартин сглотнул.
Он помнил белую рубашку. То утро, когда его вели в сердце Хроноса – официальное, выхолощенное, с подписями на бумагах. Тогда казалось, что это очередное дело, просто крупнее. Тогда ещё была стрелка времени – напуганная, подёрнутая судорогами, но живая.
– Там… – мать нахмурилась. – Там ты ещё выбираешь. Всё впереди. А тут…
Она замолчала. Складка на одеяле исчезла; пальцы сжались в кулак.
– Тут ты уже выбрал, – тихо закончила она.
Ему хотелось сказать, что выбор был не его. Что обстоятельства, что сеть, что тысячи других рук, подписывавших бумаги. Всё это было бы правдой – одной из правд.
Но в мире, где линии сливали в одну, любая попытка переложить ответственность выглядела как дешёвый монтаж.
– Наверное, да, – сказал он.
Она повернула голову к нему. На секунду лицо стало почти таким, каким было в его детстве, – без дрожи, без лишних временных налётов.
– Не «наверное», – сказала она. – Ты всегда очень точно всё делал. Даже глупости.
В уголках её губ мелькнуло что-то, похожее на улыбку, но не дотянулось.
– Мам… – начал он и почувствовал, как в горле встаёт что-то тяжёлое, шероховатое.
В детстве он боялся этих разговоров. Её прямоты. Её умения называть вещи своими именами, не смягчая. Тогда казалось, что это жестокость. Теперь – что единственное, что удерживает мир от полного растворения в вежливых формулировках.
– Я… – он поискал слова, которые звучали бы не как оправдание и не как отчёт для комиссии. – Это всё не новый эксперимент.
Она фыркнула.
– Я вижу, – сказала она. – Эксперименты хоть когда-то заканчиваются. Это… – она поискала взглядом, упираясь в потолок, в стены, в его лицо. – Это как вы потянули цепочку, а она оказалась кругом.
Она замолкла, и на секунду в палате стало совсем тихо. Даже капельница в соседней кровати, кажется, перестала щёлкать.
– Мам, – сказал он, – тебе… страшно?
Он спрашивал не как специалист по аномалиям, не как тот, кто знает, что такое «когнитивная дестабилизация». Он спрашивал как мальчик, который однажды услышал ночью, как мама плачет на кухне, и тогда не решился войти.
Она пожала плечами. Пожатие получилось несимметричным: одно – молодое, второе – старческое.
– Страх был, когда я не понимала, кто из тебя настоящий, – медленно произнесла она. – Когда ты приходил маленьким, а уходил старым. Когда я видела, как ты умираешь, а потом приносишь рисунок из школы.
Её пальцы снова нашли одеяло, но теперь не разглаживали, а собирали ткань в комок.
– А сейчас?
– Сейчас… – она задумалась. – Сейчас я знаю, что вы все настоящие. Все, которые ты. Даже тот, который ещё нет.
Она перевела взгляд на него и вдруг, совсем по-старому, строго, спросила:
– Ты ел?
Он не сразу понял, что она говорит о самом простом. В мире, где «смерть» и «рождение» перестали быть последовательными, такие вопросы звучали почти неприлично – слишком телесно, слишком конкретно.
– Не очень, – признался он.
– Вечно так, – вздохнула она. – Вечно бегал, всё расследовал, никого не слушал.