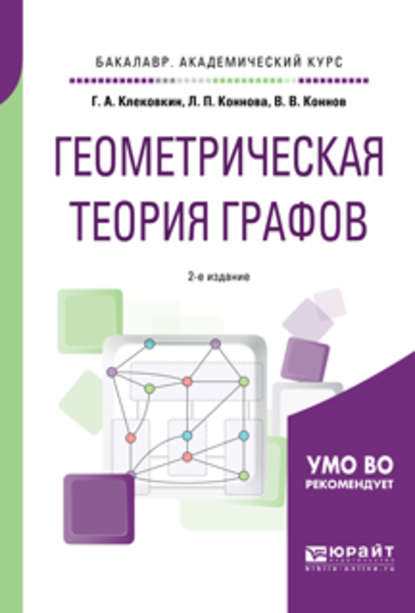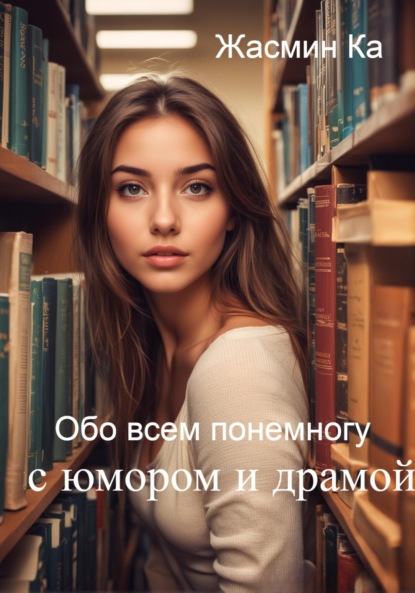Последняя петля

- -
- 100%
- +
И вдруг протянула к нему руку – ту версию руки, в которой было больше силы, чем дрожи – и с неожиданной твёрдостью сжала его пальцы.
В этот миг он был точно маленьким.
Комната чуть сдвинулась, свет у окна стал мягче, ниже, как в те вечера, когда она ждала его с двора. В коридоре послышался детский смех, и Мартин не сразу понял, относится ли он к сегодняшнему этажу или к той далёкой лестнице, по которой он когда-то бежал домой с разбитой коленкой.
– Ты всё время приходишь, когда уже поздно, – сказала мать. – И всё время – когда ещё рано.
Она говорила не упрёком, констатацией.
– А правильно – когда? – спросил он, хотя ответ был заранее обречён на размытость.
Она усмехнулась. На секунду лицо стало совсем молодым – почти девичьим, с тем самым вспыльчивым огоньком, из-за которого она в двадцать лет ушла из одного города в другой, «чтобы начать своё время».
– Правильно? – переспросила. – У времени нет «правильно». Это вы ему навесили.
Пауза, ещё одна складка на одеяле.
– Я видела, как я тебя рожаю, – сказала она неожиданно. – И как ты приходишь ко мне седой. Иногда в одну ночь. Сначала боль, крики, врачи бегают. Потом – тишина, и ты сидишь вот так, в пальто, вечно мёрзнешь, – она дёрнула за край рукава, – и молчишь.
Он почувствовал, как пальто вдруг стало тяжелее.
– Я тогда боялась, – продолжала она. – Потому что не знала, в каком порядке это всё должно быть.
– А теперь?
– А теперь… – она посмотрела на него пристально. – Теперь я знаю, что вы оба – один и тот же. И то, что я чувствовала, когда ты был крошкой, и то, что чувствую к тебе сейчас, – никуда не делось.
Она вздохнула, и этот вздох был старым, хриплым, но внутри него звучала молодая грудь, ещё крепкая.
– Страшно только за тех, кто не успеет понять, – добавила она уже тише. – За детей. За стариков. За тех, кто застрянет между.
Он молчал.
Где-то в глубине черепа снова откликнулась сеть – сухим, почти техническим импульсом. Словно кто-то внутри Синхрона делал пометку: «эмоциональная нагрузка на края возрастного спектра: критическая».
Иногда он ненавидел эту свою встроенную уши-сети. Хотелось просто сидеть рядом, слушать мать, не превращая каждую её фразу в строку отчёта, в пункт внутреннего протокола.
– Мам… – сказал он, – если бы всё шло по порядку, ты бы хотела…
Он не договорил, но она поняла.
– Умереть сначала, а потом родиться? – уточнила и усмехнулась. – Нет, спасибо. Я уже наигралась.
Она повернулась к нему, и в этот момент лицо было совсем старым – с тяжёлыми веками, с маленькой сухой морщинкой в уголке рта, которая появлялась, когда она хотела скрыть, что ей больно.
– Смерть – это хоть какая-то точка, – сказала она. – Я не про сердце и дыхание. А про… – она постучала костяшками пальцев по виску. – Про это. Когда можно сказать: "всё".
Она замолчала и вдруг, как будто вспомнив, что говорит с сыном, а не с очередной врачихой, добавила:
– Я не боюсь умереть.
Он резко вдохнул.
– Я боюсь, что этого не дадут сделать.
Слова легли в воздух тяжёлым, плотным слоем.
Он хотел возразить, что никто не запрещает. Что смерть – естественный финал. Что…
И поймал себя на том, что это всё – старые фразы из старых книжек, из учебников, из лекций по этике, которые потеряли смысл в мире, где «умер вчера, жив завтра» стало не метафорой, а медицинским статусом.
– Здесь, – она кивнула в сторону окна, – одни уже умерли, но всё ещё ходят по коридору. Другие ещё не родились, а их уже лечат от чего-то.
Она снова сжала его пальцы, на этот раз осторожнее.
– Ты мне вот что скажи, – тихо спросила. – Ты там, внутри, видишь, как это всё устроено?
«Там, внутри» могло означать много мест: его головы, Синхрона, ядра в сердце Хроноса, куда его однажды встроили.
– Отчасти, – честно ответил он.
– Тогда запомни, – сказала она. – Смерть тоже должна быть.
Он почувствовал, как слова будто проваливаются глубже, чем просто в память. Как если бы где-то в одной из тех бесконечных таблиц, с которыми работала сеть, появлялся новый столбец: «право времени на конец».
Снаружи по коридору кто-то смеялся – такой лёгкий, чистый детский смех, что на секунду захотелось поверить: где-то там действительно начинается чья-то нормальная, последовательная жизнь.
Он знал, что это не так. Но мать смотрела на дверь с таким выражением, словно сейчас именно его десятилетний «он» ворвётся в палату, разбежится и прыгнет к ней на кровать, вцепившись руками в плечи.
– Ты его приводил, – неожиданно сказала она. – Того маленького.
– Когда? – спросил Мартин, чувствуя, как шевелится где-то в груди забытый страх.
– Потом, – ответила она спокойно. – Ты ещё приведёшь.
Она улыбнулась – и в этой улыбке было что-то невыносимо нежное и невыносимо страшное одновременно.
Потому что в мире, где можно привести к матери самого себя из другого возраста, вопрос «кто кого держит на этом свете» переставал быть риторическим.
– Ты испугался, – сказала мать.
Он даже не успел выдать привычное отрицание.
– Немного, – признался.
– Наконец-то, – хмыкнула она, и в этом хмыканье было столько прежней, земной иронии, что на секунду всё остальное – Синхрон, линии, статусы – отступило.
Она отпустила его руку, и возраст на её пальцах сменился: тонкие, почти прозрачные фаланги вдруг налились силой, кожа потемнела, стала плотнее, ногти обрели знакомую форму – ту самую, которой она когда-то резала хлеб и шлёпала его по ладоням, если он пытался стянуть кусок до ужина.
– Не бойся, – сказала она, молодая и старая одновременно. – Ты уже приводил. Значит, сможешь ещё.
– Может, это была другая линия, – осторожно возразил он. – Тот, кто…
Он не договорил: попытка развести «того» и «этого» себя в этом мире всегда заканчивалась одним и тем же – обе фигуры всё равно сходились.
– Линии, линии… – отмахнулась она. – Вы всё про свои линии. А я вижу просто: ты и ты. И ещё тот, маленький, который боится темноты.
Он хотел сказать, что этот маленький давно не боится темноты. Потом вспомнил ночи в серверных, когда свет гас по три раза за смену, и в полной тишине слышно было только, как дышит железо. И понял, что врёт.
– Я не хочу его сюда приводить, – произнёс он наконец.
Она приподняла бровь – то ли седую, то ли чётко очерченную, как в молодости.
– Потому что здесь я… – она поискала слово, – не одна?
Он понял, о чём она. В этой палате, помимо неё, жили ещё её собственные версии: девочка, которая плачет в подушку от обиды на мир; женщина, которая впервые понимает, что муж не вернётся; старуха, уставшая от собственных мыслей. Каждый приход мог задеть любую из них.
– Потому что здесь ты… – он сжал пальцы в замок, – разная.
– Я и дома такой была, – фыркнула она. – Просто ты тогда думал, что это разные дни.
Она отвернулась к окну, и он вдруг увидел в её профиле ту девчонку из старой фотографии, которую когда-то нашёл в ящике стола: мать лет семнадцати, с короткой стрижкой, в дурацком пиджаке. Тогда он удивлялся, что у неё вообще было «до». Сейчас – что оно всё ещё где-то живёт.
– Мар… – начала она и запнулась.
Он насторожился.
– Что?
– Я иногда вижу тебя… – она помолчала. – Совсем старым. Старее, чем можно. Не телом, – она кивнула в его сторону. – Здесь, – постучала по виску. – И боюсь за тебя больше, чем за себя.
Он усмехнулся, но как-то криво.
– В этом мире возраст – плохой критерий для страхов.
– Не умничай, – повторила она, но без привычной резкости. – Ты думаешь, я не вижу, как тебе тяжело держать всё это…
Она неопределённо махнула рукой, в жесте было и здание, и город, и мир.
– …на себе.
Он хотел сказать, что он ничего не держит. Что Синхрон работает прекрасно и без него, что он всего лишь один из узлов, слегка перегруженный.
Но в глубине головы, там, где сознание соприкасалось с сетью, что-то сухо щёлкнуло, будто подтвердило её слова.
– Не так уж и на себе, – всё же пробормотал он. – Тут ещё…
«Лея», – хотел добавить, но язык не послушался. Имя прозвучало где-то внутри, как тихий удар по стеклу.
– Ещё кто-то, – закончил он вслух.
Мать не стала уточнять. В её глазах мелькнуло что-то вроде понимания – или, может, он просто очень хотел его там увидеть.
– Тогда не задерживайся, – сказала она неожиданно. – Пока ты здесь со мной, ты там… – она снова указала в сторону, где, по её ощущению, тянулись другие залы, другие палаты, другие узлы, – отвлекаешься.
– Я думал, ты хочешь, чтобы я был здесь.
– Я хочу, чтобы ты успел, – спокойно ответила она. – Что бы ты там ни задумал со своим временем.
Он почувствовал, как внутри сжалось что-то похожее на страх и уважение одновременно.
– Ты говоришь так, будто знаешь, что именно я задумал.
Она усмехнулась.
– Я знаю тебя. Этого хватит.
За дверью послышались шаги. Ровные, отмеренные, как метроном. Потом голос – мужской, усталый:
– Двести шестая, проверка.
Дверь приоткрылась, в щели показалось лицо – сначала молодое, с гладкой кожей и ровной бородой, потом – с морщинами у глаз, с седыми прядями, потом опять молодое.
Вошёл врач.
Мартин отметил автоматически: халат, бейдж, планшет в руке. На бейдже – фамилия, которую он уже видел в сводках Синхрона: этот человек числился сразу в трёх подразделениях, одновременно.
– Добрый… – врач было начал, оглянулся на окно, где невозможно было понять, день там или ночь, и закончить не стал. – Здравствуйте.
Он подошёл к кровати, взглянул на мать. Взгляд был профессиональный, натренированный отделять важное от второстепенного.
– Как самочувствие, Р…?
– В каком возрасте? – уточнила она сухо.
Врач чуть дёрнул уголком губ – то ли от улыбки, то ли от нервного тика.
– В текущем, – сказал он.
– Текущего у меня давно нет, – отрезала она.
Он кивнул, будто ожидая подобного ответа, и хотел было взять её за запястье, чтобы измерить пульс.
Мартин заметил, как у него на глазах меняется рука врача.
В одно мгновение это была рука тридцатилетнего мужчины: крепкая, с ещё не вздутыми венами, с коротко стриженными волосками на костяшках. В следующее – рука шестидесятилетнего: сухая, с пигментными пятнами, с лёгкой дрожью. Она взяла запястье матери так, будто знала каждый его изгиб уже много лет. Потом – снова почти юношеская, неуверенная, чуть сильнее сжимает, компенсируя страх ошибиться.
Все три версии делали одно и то же движение, но ощущались по-разному.
Мартин видел такое и раньше – на улицах, в новостях. Но в тесноте палаты, в трёх шагах от собственной матери, этот трюк времени выглядел особенно неуместно телесным.
– Давление стабильное, – пробормотал врач, глядя не на неё, а на данные, всплывающие на его планшете. Там, наверное, тоже шла странная графика: линии, которым некуда тянуться, кроме как в стороны.
– Доктор, – вдруг сказала мать, – как вас зовут?
Он поднял глаза.
– Вы же видите, – ответил автоматически.
– Вижу. Но там три имени.
Мартин мельком глянул на бейдж. Действительно: в верхней строке – одно, по центру – другое, внизу мелькала третья подпись, словно система не могла решить, какое из них считать «главным».
– Это всё я, – сказал врач и устало улыбнулся. – В разное время.
– А вы… – мать чуть наклонила голову. – Вы сами-то знаете, сколько вам лет?
Вопрос прозвучал не издёвкой, а искренним интересом.
Врач задумался, и прямо на его лице время дернуло ещё одну петлю.
Мартин наблюдал почти профессионально, как в старые времена наблюдал за подозреваемыми: взгляд, дыхание, жесты.
Сначала на секунду проявился очень старый мужчина – с ввалившимися щеками, с побелевшими ресницами. Голос его сорвался:
– Восемьдесят…
Потом поверх него наложился другой – энергичный сорокалетний, с прямой спиной, с голосом, поставленным для совещаний:
– Тридцать девять.
И, наконец, поверх обоих – юноша, который ещё учился в ординатуре, застёгивая халат неуверенными пальцами:
– Двадцать семь.
Все три голоса прозвучали почти одновременно, но с микросдвигом.
– Видите, – сказал он, моргнув, будто отгоняя наваждение. Теперь на лице застыл компромиссный возраст – тот, с которым удобнее всего ходить по коридорам. – Сеть говорит, что данные уточняются.
Он сказал это так спокойно, как будто речь шла о погоде.
– А вы не боитесь? – спросила мать.
– Чего именно? – врач поднял голову.
– Что так и останетесь между, – пояснила она. – Не туда и не сюда. Ни старый, ни молодой. Как это… – она пошевелила пальцами в воздухе. – Непрожитый возраст.
Врач перевёл взгляд на Мартина, обнаружил, что тот внимательно слушает, и чуть напрягся – старые рефлексы «не говорить лишнего при родственниках» всё ещё работали.
– Сейчас всем приходится адаптироваться, – сказал он ровным, правильным тоном. – Наша задача – поддерживать качество жизни.
– Какой? – тихо спросила мать.
Он промолчал. Ответа на этот вопрос не было ни в одном протоколе.
Мартин вдруг понял, что эпизод, который он наблюдает, стоит того, чтобы его запомнили именно так: врач, который стареет и молодеет прямо в разговоре, и женщина, которая всё равно остаётся старше – не телом, а пониманием.
– Если вы чувствуете, что вам тяжело, – продолжал врач, уже обращаясь к ней привычным тоном, – мы можем скорректировать…
– Не надо, – перебила она. – Я хочу всё помнить.
Слово «всё» отозвалось в нём болезненным эхом.
Всё – это и его детские истерики, и первый день в морге, и ток программ Синхрона, проходящий через тело, и тот момент в серверной, когда он впервые услышал Хронофага не как монстра, а как тихий, усталый голос.
– Как хотите, – сказал врач.
Он ещё немного поработал планшетом, поставил какие-то отметки в системе, потом кивнул Мартину – то ли как родственнику, то ли как коллеге по общей, слишком сложной катастрофе – и вышел. По мере того как он шёл к двери, его спина то выпрямлялась, то сгибалась, как метроном, потерявший центр.
Дверь закрылась.
– Видел? – спросила мать.
– Да, – ответил Мартин.
– Вот так и будет с вами, – сказала она. – То мальчик, то старик, то ещё не родился. И все будут говорить, что «данные уточняются».
Она поёрзала, устраиваясь удобнее. В этом движении было что-то упрямо-живое, почти детское.
– Ты не должен им позволить, – добавила она.
– Кому?
– Всем, кто там, – она опять неопределённо махнула в сторону, где для неё находился центр сети. – Тем, кто всё время откладывает. Смерть, рождение, решения.
Он почувствовал, как слова ложатся на ту самую внутреннюю полку, где уже стояло её «смерть тоже должна быть».
– Мам, – сказал он, – я не бог.
– И слава Богу, – отрезала она. – Богам хуже всех. С них все спрашивают, а сделать ничего нельзя.
Она повернулась к нему и неожиданно мягко, почти ласково, продолжила:
– Ты – тот, кто помнит.
Он вздрогнул.
– Что?
– Я не знаю, как это у вас там называется, – она скривила губы, – «узел», «фильтр», «ядро»… Но тебе это всегда подходило.
Она кивнула на фотографию на тумбочке.
– Ты ведь вечно всё записывал, – напомнила. – Сколько раз мы ходили к реке, какой хлеб был вкуснее, какие слова я сказала, когда на тебя наорала.
Он вспомнил тетрадку с кривыми строчками, в которой в детстве пытался «фиксировать жизнь». Тогда это казалось игрой.
– Если время захочет умереть, – сказала мать, – кто-то должен будет это запомнить.
Он не спросил: «зачем». Ответ был очевиден. Без памяти смерть превращается в обрыв. С памятью – в завершение.
В коридоре вновь послышались голоса – на этот раз детские.
– Тут нельзя бегать! – отрывисто, нервно.
– Это мы ещё не бегаем, – в ответ, с визгливым смехом.
– Мы уже… – и дальше фраза распалась на слишком много вариантов.
Мартин поднялся.
– Я ненадолго выйду, – сказал он.
Мать кивнула.
– Не потеряйся, – добавила, как говорила когда-то, отпуская его во двор.
Он вышел в коридор и увидел на лестничной площадке картинку, которая слишком точно попадала в название этого дня.
На одной стороне площадки, у окна, стояли двое стариков и спорили о том, как они завтра будут переезжать в новое крыло.
– Там ещё не построили, – говорил один, худой, с прозрачной кожей.
– Уже, – возражал второй, плотный, с палкой. – Я же помню, мы там сидели, когда была эвакуация.
– Эвакуация будет послезавтра, – вмешалась медсестра, но её голос утонул между временами.
– В прошлом году, – увереннее сказал первый. – До того, как включили этот твой Синхрон на полную мощность.
– Ты путаешь, – упрямился второй. – Это было через два года после.
Они оба вспоминали одно и то же событие, которое ещё не произошло и уже прошло. И в их голосах не было ни тени сомнения.
На другой стороне площадки, ближе к ступеням, дети рисовали мелками на полу.
Один аккуратно выводил квадрат – «это наша комната». Другой рисовал рядом круг – «это будет лифт, который поедет не вверх и не вниз, а в сторону». Третья девочка, с косичками, подошла к разрисованному прямоугольнику и написала рядом: «уйдут».
– Кто уйдёт? – спросил какой-то дядечка, пытаясь улыбнуться.
– Они, – девочка кивнула на стариков, даже не оборачиваясь. – Вчера, то есть завтра.
Старики, словно услышав, одновременно посмотрели в их сторону.
– Мы уже уходили, – сказал один.
– Мы ещё, – сказал другой.
И оба были правы в своей версии дня.
Мартин стоял на середине площадки – между ними, между мелками и тростями – и чувствовал, как у него под ногами время пытается выбрать направление.
Не получается.
Оно ходит туда-сюда, как человек по комнате, забывший, за чем в неё вошёл.
И он вдруг ясно понял, что именно имела в виду мать, когда говорила о тех, кто «застрянет между».
Мысль о тех, кто «застрянет между», не отпускала.
Мартин стоял на площадке, словно на границе двух стран: слева – мелки, детские голоса, лёгкие шаги; справа – трости, шлёпанье тапок, тяжёлое дыхание. В старом мире эти половины почти не пересекались: детей водили к бабушкам на праздники, стариков забирали к внукам на выходные, и всё равно между ними оставались десятилетия, на которые никто не строил мост.
Сейчас мост провели грубо, наскоро, без перил. И по нему гоняли всех сразу.
Девочка с косичками, та самая, что уверенно писала на полу слово «уйдут», подняла взгляд на Мартина. В её глазах было слишком много знания для того возраста, который значился бы в старых документах.
– Вы уже были, – сказала она просто.
– В смысле? – спросил он, хотя прекрасно понимал этот оборот.
– Вы заходили, – она кивнула в сторону палаты матери. – Там, где тётя с серыми руками.
– Только что, – кивнул он.
– Не только, – возразила девочка и несильно ударила мелком по полу. Линия, которой она обводила нарисованный «лифт», двинулась в сторону, превратилась в спираль. – Вы заходили, когда я ещё не родилась. И когда я уже большая.
Он поймал себя на том, что хочет спросить: «И какой я там?» – но не спросил.
Старики у окна продолжали спорить о переезде. Теперь к ним присоединился третий – совсем прозрачный, с худым, почти невесомым телом, как будто часть его уже отдали в архив. Он слушал, как двое других пересказывают одно и то же событие в разных временных падежах, и изредка вставлял своё:
– Это ещё будет, – говорил он тихо. – Я помню, как мы боялись до.
– До чего? – не выдержал Мартин.
Старик посмотрел на него, прищурившись.
– До того, как ты сломал, – сказал он без злобы. – И до того, как ты починишь.
Слова ударили неожиданно точно в тот нерв, о котором мать только что говорила.
Он уже хотел отшутиться, сказать что-нибудь вроде «я всего лишь инженер, не больше», но давление воздуха вокруг изменилось. Как будто кто-то невидимый провернул ручку на огромном аппарате.
Свет в лестничном пролёте стал гуще. На стенах исчезли мелкие, беспорядочные тени – остались крупные, ровные пятна.
Хронофаг любит ровную освещённость, вспомнилось.
Мартин почувствовал, как кожа на руках покрывается мурашками – не от холода, от узнавания.
Сначала он подумал, что это просто очередной сдвиг дня: утро сдвинулось к вечеру, вечер к ночи. Но нет. На этот раз менялся не город вокруг, а кто-то один, прямо тут, на площадке.
Мужчина в хирургическом костюме поднимался по лестнице, опираясь на перила. Мартин раньше его не видел – или не запоминал: таких лиц, уставших, с синими кругами под глазами, по этим этажам ходило слишком много. Бейдж болтался на груди, не успевая за скачками тела.
На ступени ниже он был лет сорока пяти: крепкий, чуть полноватый, с потным лбом.
На следующей – уже за шестьдесят: плечи осели, кожа на шее обвисла, рука сжала перила так, будто в них был последний шанс удержаться.
Ещё шаг – и перед ними оказался почти мальчишка. Лет двадцати пяти, с тонкой шеей, с глазами, в которых больше энтузиазма, чем опыта. Тот же костюм, тот же бейдж, но сидел он на нём по-другому: как форма, к которой ещё только привыкают.
– Осторожно, – автоматически бросил Мартин, когда тот мальчишка замешкался, сбившись ногой со ступени.
Мальчишка поднял взгляд – и за одну секунду прожил лет тридцать.
Мартин видел это почти по кадрово. Как напрягается линия челюсти. Как под глазами проступают тени бессонных ночей. Как плечи принимают ту привычную сутулость, что приходит от наваливающейся ответственности, – и тут же излишняя энергия юности переходит в экономное движение человека, который привык рассчитывать силы.
В следующий миг ему уже снова не было тридцати. Пальцы чуть дрогнули, перехватили перила так, словно суставы вдруг заболели.
Это был не плавный процесс старения. Это было, как если бы кто-то тасовал его возраст, вытаскивая из колоды то одну, то другую карту.
– Всё нормально, – проговорил мужчина – голос тоже скакал, то набирая низкие, хриплые обертоны, то становясь выше, чище. – Такое последнее время постоянно.
Фраза прозвучала одновременно мужским и ещё почти юношеским голосом.
– Вам помогает? – спросил Мартин, и с удивлением услышал, как в собственном вопросе проступает то самое профессиональное «мы изучаем клинику», от которого он хотел бы избавиться.
Мужчина усмехнулся. Морщина в углу рта углубилась, потом разгладилась – в зависимости от того, кто именно в эту секунду стоял на ступеньке.
– Зависит от того, кому, – ответил он. – Тому, кто сегодня сдаёт отчёт, лучше быть старше. Тому, кто идёт к детям домой, – наоборот.
Он сделал ещё шаг вверх и на мгновение стал таким старым, что кожа на лице натянулась, как пергамент.
– А тому, кто просто хочет лечь и не вставать, – продолжил он, задержавшись на этом возрастном крае, – всё равно.
Слова прозвучали сухо, без жалобы.
– А вы… чувствуете, сколько у вас… – Мартин поискал неудачное слово, – осталось?
Мужчина остановился, облокотился на перила.
– Чего?
– Времени.
Тот задумался.
В этот момент тело мостом выгнулось между возрастами: правая рука – старческая, с пятнами, левая – почти юная, сильная. На лице одновременно читались три разных биографии.
– Вчера мне сказали, что я умер два месяца назад, – наконец произнёс он. – В другой ветке. Документы пришли, соболезнования.
Он усмехнулся, и усмешка, странным образом, подошла всем его версиям сразу.
– А сегодня, – продолжил, – у меня ночная смена. Так что…
Он развёл руками, как бы показывая обстановку: лестница, мелки, старики у окна, палаты, его собственное скачущие тело.
– Думаю, пока меня заставляют работать, я жив, – заключил он.
Мартин кивнул.
Телесный ужас происходящего заключался именно в этой будничности. В том, что человек, который только что одновременно был двадцатипятилетним и восьмидесятилетним, всё ещё думал о ночной смене и отчётах.
Мужчина вдруг посмотрел на него внимательнее.
– Я вас знаю, – сказал он.
– Такое уже было, – автоматически отозвался Мартин.
– Нет, – покачал головой тот. – Не как пациента.
Он прищурился, пытаясь вытащить из памяти нужный слой.
– Вы… там, – он поднял руку, указав не вверх, а в сторону, где у Синхрона имелось множество ярусов и уровней. – В статьях. В инструкциях. В ошибках.
Мартин почти физически почувствовал, как по его имени пробежала старая волна – не человеческого, а системного узнавания.
– Не сегодня, – сказал он, мягко обрывая разговор. – Сегодня я – просто сын.
Мужчина кивнул, как принимают странный, но полезный диагноз.
– Тогда идите к ней, пока… – он запнулся, подбирая слово. – Пока та, которой вы будете нужен.
И пошёл дальше, вверх, застревая по пути в чужих возрастах.
Свет в пролёте чуть посерел. Ровная освещённость, которой так любил пользоваться Хронофаг, поплыла, вернув стенам привычную пятнистость.