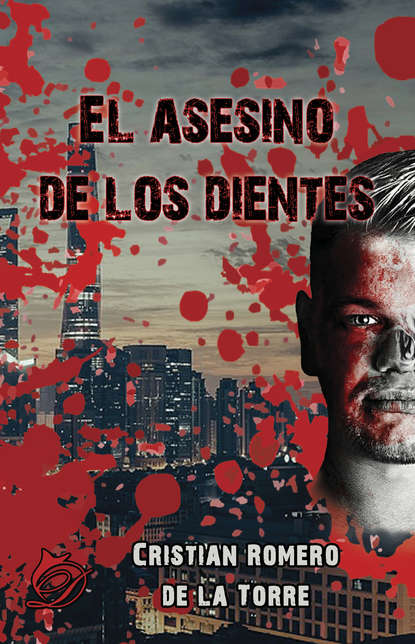Последняя петля

- -
- 100%
- +
Мартин вернулся в палату.
Мать сидела чуть иначе – ближе к изголовью, подперев подушку, как умела только она. Лицо её было… моложе. Не так, как в прошлый раз, когда он видел в ней почти девчонку; скорее, как женщина в лучшие свои сорок: сильная, жёсткая, с ясным взглядом.
– Ты надолго ушёл, – сказала она.
– На пару минут, – автоматически возразил он.
– Ты всегда так говоришь, – усмехнулась она. – «Пара минут», – и возвращаешься через…
Она задумалась.
– Через то, что у вас там было вместо лет, – закончила.
Он подошёл closer, сел на тот же стул.
– Здесь… – начал было Мартин.
– Здесь время стоит в коридоре и спорит само с собой, – оборвала она. – Я слышала.
Он не стал спрашивать, что именно она слышала.
– Ко мне приходил врач, – сообщила она.
– Я видел.
– Он бедный, – сказала мать неожиданно. – Его всё время рвёт туда-сюда.
– Всех, – тихо ответил Мартин.
Она покосилась на него.
– Тебя – больше, – заметила. – Ты это знаешь?
Он молчал.
– Я иногда… – она посмотрела на окно. – Слышу в тебе. Не тебя.
Сказано это было без мистики, скорее как наблюдение человека, который долго прислушивается к шуму в трубах и начинает различать, где вода, а где воздух.
– Что? – спросил он.
– Как будто через тебя кто-то дыхание задерживает, – сказала она. – Всего. Всех.
Она не произнесла слова «Хронофаг». И хорошо. Ему не хотелось слышать это название из её уст.
– Мам, – сказал он, – если бы…
Он запнулся.
Внутри всё сжалось: была фраза, которую он давно крутил, но так и не решался вытащить наружу.
– Если бы у времени был выбор, – наконец сформулировал он, – оно бы… стало вот этим?
Он обвёл рукой комнату, этаж, дом. Детей с мелками, стариков, которые помнят будущее, врача, отмеряющего давление в трёх возрастах одновременно.
Мать усмехнулась.
– Ты меня с Богом опять путаешь, – сказала она. – Откуда мне знать, чего там время хочет.
Она притихла. На лбу её легла знакомая складка – та, что появлялась, когда она считала в уме, хватает ли денег до зарплаты.
– Знаю только, что оно устало, – добавила.
Он слушал, и где-то внутри, в глубине своей непрошенной связи с сетью, чувствовал то же самое. Усталость – не человеческую, не даже системную, а какую-то огромную, медленную, в которой века смешались с днями.
– Время не умеет про себя говорить, – продолжала мать. – Оно через вас всех выходит. Через этих… – она снова кивнула куда-то в коридор, – прыгающих, через тех, кто родился и умер одновременно, через детей, которые играют в «завтра», как будто уже там были.
Она посмотрела на него внимательно.
– Через тебя.
Это прозвучало не как обвинение, а как факт.
– Если в какой-то момент оно решит, что с него хватит, – сказала она, – хорошо бы, чтобы рядом был кто-то, кто не даст остальным свихнуться.
Он хрипло усмехнулся.
– Ты сейчас поручаешь мне, чтобы мир не свихнулся?
– Нет, – покачала головой. – Мир уже.
И добавила, совсем тихо:
– Поручаю тебе запомнить, ради кого всё это было.
Слова были простые. Но от них по коже пробежал холод: будто ей удалось пальцем попасть ровно в то место, чего от него требовал Синхрон, Хронофаг, город – все сразу.
Он вдруг ясно увидел, как это выглядит со стороны: человек, в чьей голове живёт слишком много чужих времён, сидит у кровати старой женщины, которая одновременно помнит, как его рожала, как провожала в школу и как видела в новостях его некролог.
Это был тот самый мир, где детство и старость живут рядом – не по праздникам, не по семейным фотоальбомам, а в каждой секунде.
Дети внизу рисовали лифты, едущие «в сторону», и писали мелками «уйдут». Старики наверху вспоминали эвакуацию из крыла, которого ещё не построили. Врач на лестнице старел и молодел, не переставая считать чьи-то удары сердца.
И где-то в глубине этого слоя звуков и светов Мартин слышал, как само время, запнувшись об собственные шаги, тяжело дышит.
– Я буду помнить, – сказал он.
Он не давал обещаний. Просто констатировал ещё одну обязанность, которая и так давно жила в нём.
Мать кивнула.
– Тогда иди, – сказала она. – Пока ты здесь со мной, там всё висит.
– Там и без меня висит, – попытался он возразить.
– Там – да, – согласилась она. – Но ты – тот, кто знает, что так не должно быть всегда.
Он поднялся.
Пальто, в котором он пришёл, вдруг показалось ему слишком тяжёлым для этой палаты, где смерть и рождение стояли у одной двери и никак не могли решить, кто первый войдёт.
На пороге он оглянулся.
Мать снова смотрела в окно. На ветках за стеклом одновременно висели почки, жёлтые листья и голый лёд.
Она подняла руку – старую, молодую, среднюю – и махнула ему, как махала когда-то из окна кухни, когда он уходил во двор.
Мартин ответил таким же жестом.
И, выходя в коридор, подумал, что главная опасность этого мира – не в том, что время потеряло направление. А в том, что люди ещё помнят, как оно когда-то шло по прямой.
Коридор за спиной закрылся мягко, почти тихо, но всё равно с характерным хлопком – как будто кто-то поставил точку в предложении, которое давно следовало закончить.
Мартин прошёл по лестничной площадке мимо детей с мелками, мимо стариков у окна. Кто-то кивнул ему – не ясно, сегодня ли они уже знакомы или ещё только познакомятся – и он ответил кивком по инерции.
Во дворе было неясно, какое время суток. Не в том старом смысле, когда надо было щуриться на солнце и смотреть на длину тени. Здесь тень одновременно была короткой, как в полдень, и длинной, как в вечер, и отсутствовала вовсе, как в пасмурное утро.
Он постоял у порога, втягивая в лёгкие запахи: влажной земли, лекарства, кое-где – табака. Детский смех, раздавшийся слева, удивительным образом совпал по интонации с чей-то кашлевой серией справа.
В каком-то смысле это было естественно: когда-то все голоса звучали одинаково – сначала криком, потом хрипом. Просто теперь эти стадии не заботились о последовательности.
Он мог бы пойти сразу домой – куда бы ни вёл сейчас этот маршрут. Мог бы вернуться в свою квартиру, где часы на стене и на телефоне давно уже не старалиcь притворяться правдой.
Но ноги свернули сами, ещё до того, как он успел дать себе приказ. Не к дому, где он живёт сейчас, а к тому, который в его внутренней карте всё ещё значился как «наш».
К дому, где они когда-то жили вдвоём.
Город послушно перестроил вокруг него расстояния. Маршрут, который в детстве был долгой дорогой через три светофора и одну остановку трамвая, сейчас спрессовался в несколько нечётких кварталов. Он пару раз пересёк сам себя – в отражении витрин увидел мужчину в таком же пальто, идущего навстречу, – но в итоге всё равно оказался у знакомого подъезда.
Дом, конечно, изменился. Фасад заделали каким-то новым, слишком гладким материалом, который любил отражать чужое время. На стене у входа висела табличка:
«Дом подключён к системе стабилизации Синхрона. В случае временных аномалий просим сохранять спокойствие».
Ниже кто-то добавил маркером: «А как?»
Мартин провёл пальцами по кнопкам домофона. Металл был тот же, старый, шершавый, только над списком квартир вместо фамилий теперь значились условные обозначения: «сектор 1А», «линия 3В», «семейный кластер».
Дверь открыли не сразу. Видимо, даже сети нужно было время, чтобы решить, пускать ли в подъезд человека, которого в этом доме одновременно давно не было и ещё не было.
Наконец щёлкнул замок.
На лестничной клетке пахло всё тем же: пылью, кошачьей шерстью, чьими-то сапогами, в которые когда-то стаскивали снег. Только к этому набору добавился лёгкий, почти неуловимый запах озона – так пахли узлы Синхрона, вмонтированные в стены.
На первой площадке сидела на перевёрнутом ведре женщина в халате. Из окна за её спиной сочился тусклый, безвременный свет.
На коленях у неё лежал младенец. Совсем маленький, красный, с сжатыми кулачками. Она что-то напевала ему под нос – не слова, мелодию, знакомую до боли: ту самую колыбельную, которой его укачивали в детстве.
– Сюда нельзя – сквозняк, – автоматически сказал Мартин, сам не ожидая от себя этой фразы. Так же когда-то говорил ему кто-то взрослый.
Женщина подняла голову.
Лицо её на секунду оказалось не молодым, каким показалось сначала, а исчерченным тонкими морщинками. Потом – обратно, гладкое, усталое, с мешками под глазами, которые только начали намечаться.
– Он ещё не знает, что такое «нельзя», – тихо ответила она. – Ему бы сначала понять, что вообще «есть».
Она взглянула на ребёнка.
Мартин тоже посмотрел – и внутри что-то неуютно шевельнулось.
Малыш был… не ровным. Не по коже – по времени. В одном мгновении это было плачущее, сминающееся от любого звука существо, готовое распасться на крик. В следующем – как будто в нём уже проступали черты подростка: резкий изгиб бровей, упрямый подбородок. Ещё мгновение – и через тонкую кожу просвечивало что-то от старика: складочка между бровями, тень будущей морщины.
И всё это – не как родительская проекция в лицо младенца, а как будто кто-то постоянно переключал каналы, показывая разные сезоны одного и того же сериала.
– Он у вас… – начал Мартин и замолчал, понимая, насколько глупо звучит любая попытка подобрать слово.
– Он у меня весь, – спокойно сказала женщина. – Просто сразу.
Она посмотрела на него чуть внимательнее.
– Вы ведь здесь жили?
Он кивнул.
– На третьем, – сказал. – Слева.
– А, – протянула она. – Это там, где тётка всё время кричала на мальчишку, что тот вечно не вовремя приходит.
Мартин усмехнулся.
– Вовремя тогда ещё бывало, – заметил он.
– Сейчас тоже бывает, – возразила она. – Иногда все свои собираются в одном возрасте – такая редкая секунда. Только она быстро проходит.
Она чуть подкачала ребёнка на руках. Тот перестал на секунду плакать, уставился в потолок – взгляд неожиданно взрослый, полный тупого, здравого удивления.
– Я его иногда вижу… – она улыбнулась, – уже дедушкой. Сидит тут же, только вместо меня. И всё равно я его качаю.
В голосе её не было ни истерики, ни восторга. Только тихая, почти нежная усталость.
– Это не страшно? – спросил Мартин.
Она задумалась, глядя на малыша.
– Страшно, когда не ясно, выживет ли, – наконец сказала. – Страшно, когда не знаешь, найдут ли сердце.
Она погладила ребёнка по груди.
– А то, что он уже где-то в старости – нет, – добавила. – Это как… – она поискала сравнение, – знать, что у него будет длинная дорога.
Мартин кивнул.
Старость, которую раньше боялись, здесь вдруг выглядела не финалом, а одной из возможных гарантий: если ты видишь себя старым, значит, доживёшь – в какой-то из линий.
– А смерть? – спросил он.
Вопрос прозвучал почти случайно.
Женщина не вздрогнула.
– Смерть… – она губами повторила слово, словно пробуя его вкус. – Я её уже видела здесь.
Она кивнула в сторону окна.
– В прошлом месяце – то есть через два года – из этого подъезда вынесли сразу двоих. Одного – в коляске вниз, второго – наверх, – она усмехнулась. – Смешно, да?
Он подумал, что нет.
– Мальчишка внизу не кричал совсем, – продолжала она. – Спал. А старик наверху всё никак не мог умереть, врачи бегали.
Она выдохнула.
– И в какой-то момент они… как будто поменялись местами, – заключила. – Тело-то одно ушло, а вот кто именно – я уже не узнаю.
Она посмотрела на своего младенца так, как люди смотрят на дальнюю дорогу: понимая, что идти по ней всё равно придётся.
– Если честно, – сказала она, – страшно не за то, умрёт он или нет. Страшно, что ему не дадут.
Эта фраза почти слово в слово отозвалась тем, что недавно сказала мать.
Мартин ощутил, как внутри опять тихо звякнуло невидимое стекло: две реплики с разных этажей, из разных возрастов, звенели одинаково.
Он поблагодарил женщину и пошёл дальше.
На третьем этаже всё было одновременно прежним и совершенно чужим.
Та же площадка, те же двери. Только рядом с каждой – маленький прямоугольник экрана, который в старой жизни назывался бы табло лифта, а теперь показывал «домашний статус»: «вернулся», «ещё нет», «уже ушёл». Иногда – всё сразу.
У двери квартиры, где он когда-то жил, стоял мужчина. С ключом в руке.
Он был… размазанный по возрасту, как и все. В одном ракурсе – ровесник Мартина, с начавшей лысиной, в другом – чуть младше, в третьем – седой, с мешками под глазами.
Мужчина несколько раз подносил ключ к замку и отдёргивал.
– Помочь? – спросил Мартин.
Тот обернулся.
В его взгляде не было узнавания – и было. Тот самый тип взгляда, когда человек пытается вспомнить, не сидели ли вы рядом в школе, не стояли ли в одной очереди за хлебом, не работали ли бок о бок.
– Я… – начал мужчина и после короткой паузы закончил неожиданно: – Я не помню, кто я здесь.
Сказано это было без пафоса, просто как факт.
– В смысле?
– По документам – владелец, – он тряхнул связкой ключей. – По линиям… – он кивнул на экран рядом с дверью.
На маленьком дисплее мигали статусные строки: «ребёнок», «гость», «покойник», «арендатор». Сеть, похоже, тоже не могла определиться.
– Иногда я захожу – там мои вещи, моя жена, – продолжал он. – Иногда – чужие, и меня выгоняют. Иногда…
Он замолчал и провёл рукой по лицу. Кожа под пальцами на секунду натянулась, как у молодого, потом обвисла.
– Иногда там вообще никого, – закончил он. – Только кровать, и на ней…
Он не стал договаривать.
Мартин представил: пустая квартира, в которой единственным «жильцом» значится чья-то смерть, зависшая в статусе «данные уточняются».
– Я пытаюсь поймать момент, когда я здесь настоящий, – сказал мужчина. – Но как только кажется, что поймал, – всё сдвигается.
Он говорил и менялся прямо на глазах.
То голос становился более низким, хриплым – как у того, кто слишком много курит и слишком мало спит. То светлел – как у человека, для которого ещё всё впереди. То в глазах проступала та особая пустота, которую Мартин слишком хорошо знал по лицам тех, кто пережил слишком много похорон и слишком мало рождений.
– Вам… тяжело? – спросил Мартин.
Мужчина усмехнулся.
– Мне… – он поискал слово, – странно.
Он повернул ключ в замке. На секунду замочная скважина совпала с возрастом руки – всё щёлкнуло как надо, дверь подалась.
За ней успел мелькнуть коридор – их коридор, если он честно позволял себе признать: тот самый рисунок обоев, тот же дверной косяк, об который он в детстве разбивал колени.
А потом картинка смазалась.
Коридор в глубине стал другим: чужие обои, чужая обувь у стены, чужой запах.
Дверь сама собой хлопнула перед носом мужчины.
На экране рядом тут же сменился статус: «временно отсутствует».
– Видите? – мужчина опустил руку. Теперь она была старческой. Пальцы дрожали, ключи в них звякнули, как маленькие колокольчики. – Я всё время прихожу позже или раньше.
Фраза была слишком знакомой.
– Мы все, – сказал Мартин.
Мужчина посмотрел на него, прищурившись.
– Вы… – начал и вдруг кивнул. – Ладно. У вас ещё есть куда вернуться.
Он не уточнил, откуда у него такая уверенность. Может быть, в какой-то из линий он видел Мартина входящим в эту дверь – настоящим, своим.
Мартин спустился вниз, не пытаясь больше «поймать» собственное прошлое.
Во дворе уже сгущались сумерки – или утро, трудно было сказать. Качели, на которых он когда-то раскачивался до стукнутых о перекладину зубов, были заняты: девочка лет пяти каталась рядом со стариком, которому, судя по трости, давно стоило бы избегать резких движений. Они смеялись одинаково – звонко, с теми же провалами на вдохе.
По пути к воротам он снова прошёл мимо женщины с младенцем.
Теперь она была совсем старой. Морщины легли плотной сеткой, волосы поседели почти до белизны. Ребёнок на её руках выглядел так же маленьким, как полчаса назад – сжатый кулачок, влажные ресницы, дрожащая губа.
– Вы… очень быстро постарели, – вырвалось у него.
Она посмотрела на него спокойно.
– Нет, – сказала. – Я просто догнала.
– Кого?
– Себя, – ответила она. – Ту, которая уже знала, чем всё это кончится.
Она улыбнулась – и в этой улыбке было сразу всё: нежность, страх, усталость, согласие.
Мартин вышел за ворота и остановился, чтобы перевести дыхание.
Город вокруг жил в своём обычном, ненормальном режиме: где-то уже зажглись витрины ночных магазинов, где-то только-только открывались утренние. На остановке одновременно ждали первый и последний автобус. На рекламном щите бегущая строка в очередной раз уверяла: «НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ ПАНИКИ. ЭТО НЕ НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ».
У него в кармане завибрировал телефон.
Он достал его, глянул на экран.
«Мать: статус – жива / умерла / данные уточняются.
Последний визит: сегодня / давно / ещё не состоялся».
Он усмехнулся – коротко, безрадостно.
«Рекомендуемый следующий визит: когда сможете выдержать», – дописал бы он сам, если бы мог править эти строки.
Он убрал телефон и пошёл по улице, где мимо него проходили люди в разных версиях себя.
Дети, которые уже знали, как они умрут. Старики, которые помнили, как ещё не родились. Влюблённые, одновременно только что встретившиеся и уже пережившие десятилетний брак.
Смерть и рождение перестали быть началом и концом. Они стали просто разными точками одной, слишком перегруженной петли.
И где-то в середине этой петли шёл он – человек, который будет тем, кто либо оставит всё так, как есть, навечно застрявшим «между», либо однажды позволит времени наконец сделать то, чего сейчас боятся сильнее всего: остановиться и начать заново.
Но до этого было ещё далеко.
Пока что ему предстояло идти по этому миру зрителем и свидетелем, фиксируя каждую лестничную площадку, где дети играют в будущее, а старики вспоминают то, что ещё не произошло. И стараться не сойти с ума от того, с какой нежностью и каким телесным ужасом время обнимает здесь и тех, и других одновременно.
Глава 3. Голоса других миров
Он проснулся от собственной смерти.
Точнее – от звука, с которым умирают. Не тела, не сердца – фразы.
В комнате было полутемно, то ли раннее утро, то ли та странная полночь, которая иногда просачивалась между часами. Мартин ещё не успел понять, сколько у него сейчас лет, в каком он состоянии, но слова уже повисли в воздухе, будто кто-то только что произнёс их прямо над кроватью:
– Я думал, успею…
Голос был его. С лёгкой хрипотцой, с тем самым выдохом на «д», который он ненавидел слушать на записях. Только старше. Гораздо старше, чем он чувствовал себя сейчас.
Вторая фраза догнала первую, как догоняет пуля звук собственного выстрела:
– Не запускай…
Эта была чужая. Или тоже его – но из той версии, где всё пошло иначе.
Мартин рывком сел.
Комната отреагировала с запозданием: сначала шевельнулась тень от шкафа, потом включился мягкий свет ночника, потом где-то в углу экрана телефона вспыхнули уведомления, пытаясь наверстать упущенное.
Он провёл ладонью по лицу. Кожа под пальцами была нормальной – не слишком дряблой, не слишком молодой. «Средний возраст», как сказала вчера мать. Сердце билось ровно, без тех провалов, которые иногда приносили с собой ночи, случайно перепутавшие себя с чьей-то смертью.
– Мне снится, – вслух сказал он.
И тут же в ответ, в той же комнате, но с другой стороны, из воздуха, немного выше – там, где когда-то висели его старые часы, – прозвучало:
– Это не сон.
Голос был опять его. Только… другой. Молодой? Нет. Скорее – тот, у которого ещё всё впереди, но он уже знает, чем всё закончится.
– Хватит, – Мартин выдохнул, раздражённо. – Я не подписывался на хоровое выступление из своих трупов.
Тишина, зависшая в комнате, была густой, но ненадолго.
На краю слышимости шевельнулось нечто, что он узнавал лучше, чем собственный тембр. Шум сети. Тот самый фон, который раньше был для него просто служебным звоном в голове, а потом научился шептать.
Он замер.
Шёпот был не голосом, не словами – сначала. Просто вибрацией, похожей на низкий гул подземного трансформатора. Потом в нём начали проступать знакомые изгибы, как если бы в белом шуме вырисовывались буквы.
«Ты…»
Чётко.
«…должен…»
Он прикрыл глаза, как будто это могло помочь.
«…закончить…»
Звуки были одновременно далеко и очень близко: где-то в глубине городской сети, под миллионами чужих запросов, и прямо под его черепом, там, где Синхрон однажды прошил его насквозь.
«…петлю».
Фраза сложилась окончательно.
Он выдохнул.
– А ты должен заткнуться, – ответил он не вслух, но достаточно чётко, чтобы любой, кто имел доступ к его внутреннему шуму, понял.
Гул замер. Не исчез – притих, как зверь, который прислонился боком к сетке и ждёт, когда к нему снова подойдут слишком близко.
Мартин встал.
Пол под ногами был холодным, ощутимо настоящим. Он сделал несколько шагов по комнате, проверяя собственную устойчивость: не телесную – временную. Иногда по утрам, особенно после таких «голосов», он обнаруживал, что одна нога принадлежит человеку, который уже прошёл через ядро Синхрона, другая – тому, кто ещё только подписывает контракт.
Сегодня повезло: обе были его нынешними.
Он оделся быстро, почти механически. Пальто, ботинки, телефон в карман. На секунду задержался у зеркала – рефлекс, который никак не приживался в новом мире, но упрямо всплывал.
Отражение смотрело внимательно.
– Ты не обязан, – сказал ему один из внутренних голосов. Совсем молодой, почти пацанский. Тот, что когда-то мечтал стать просто хорошим следователем.
– Ты должен, – одновременно с ним произнёс другой – глухой, уставший, как будто через лёгкие прошла не одна десятка лет.
Он повернулся и вышел, оставив зеркало разбираться с тем, кого именно оно показывает.
На улице город был… другим.
Не «сегодня другим, чем вчера». Просто в том смысле, что он оказался не тем местом, откуда он вышел.
За дверью подъезда его должна была встретить знакомая смесь времени – тот странный коктейль из утра, вечера и непонятного междудневья, к которому он уже привык. Вместо этого на секунду настало настоящее утро.
Настоящее – в старом смысле.
Холодный свет, в котором дома казались чуть более чёткими, чем потом. Люди – с теми лицами, которые ещё не успели прожить день. Воздух – чистый, как будто вымороженный.
И главное – тишина.
Не в смысле отсутствия звуков – машины ехали, кто-то ругался у перехода, из окна доносился телевизор. Но весь этот шум был ещё не загружен тем, что случится в течение суток.
Он стоял на пороге и понимал, что такого утра в его линии уже давно не было. Это было утро из другого города.
– Я опоздала, – послышался рядом голос.
Он дёрнулся.
Рядом с ним стояла Лея.
Не призрак, не шлейф памяти. Просто – Лея.
Та, из лабораторных коридоров, из нелепых ночных разговоров о том, как было бы здорово, если бы никто никогда больше не смог украсть чужую минуту. Та, из последнего дня перед запуском Синхрона, когда они ещё были живы в самом очевидном смысле этого слова.
На ней была та же куртка, что в одном из его самых упорных воспоминаний: чуть короткая, с оторванной кнопкой у воротника. Волосы – собраны кое-как, под глазами – круги от недосыпа.
– Ты опять идёшь туда один, – сказала она, так, как будто продолжала разговор, начатый минуту назад.
Мартин молчал.
Город вокруг вроде бы не замечал её. Машины проезжали мимо, люди обходили их по тротуару, не задерживаясь взглядом. Только один мальчишка, лет десяти, на секунду уставился прямо на неё, потом – на Мартина, потом нахмурился и побежал дальше, как будто решил, что увидел что-то, что ещё рано понимать.
– Мы уже это делали, – продолжала Лея. – Ты – туда. Я – сюда.
Она махнула рукой в сторону, где по идее должен был находиться стеклянный куб «Хронос Индастриз».
Мартин автоматически посмотрел туда.
Куб был. Стеклянный, холодный, идеально ровный. На фасаде – логотип, который когда-то казался ему просто ещё одной корпоративной картинкой: стилизованная спираль времени, слоган про честный ход. Теперь каждый раз, когда он видел эту спираль, внутри что-то неприятно скручивалось.
На секунду картинка дрогнула.
Куб исчез.
Его место заняла старая заводская пристройка – кирпичная, с облезлой краской, с выбитыми окнами. На стене – граффити: «НЕ ВРЕМЕНИ РАБОТАТЬ НА ВРЕМЯ». Никаких логотипов, никаких глянцевых дверей.
Мартин моргнул.
Куб вернулся.
Лея всё ещё стояла рядом. Только куртка на ней стала другой – более поздней, той, в которой он её уже никогда не видел: тёмной, плотной, с нашивкой «доступ в ядро».