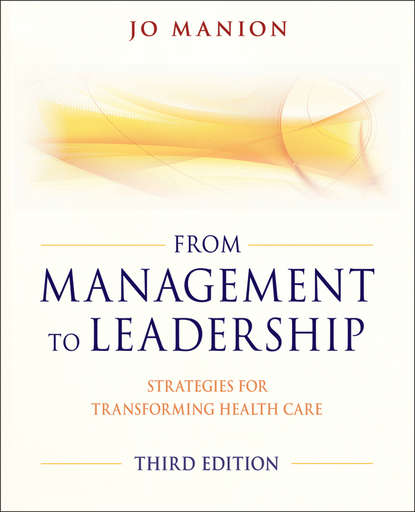Последняя петля

- -
- 100%
- +
– Мы обязаны думать о большинстве.
Поверх этого – голос Леи:
– Большинство – удобная маска для того, чтобы не видеть конкретных.
И наконец – его собственный:
– Мы за это отвечаем.
Все эти голоса наложились, как слишком много дорожек в студии, где забыли про баланс.
«Сведение трека», – сухо прокомментировал Хронофаг.
– Ты смеёшься?
«Я делаю выводы.
Ты заметил, что во всех вариантах ты сам назначаешь себя ответственным?»
Он хотел сказать «да», но язык не повернулся.
– А кто ещё? – выдохнул он instead.
Тишина внутри стала на секунду плотнее, как ватный тампон.
«Вот и я не знаю», – сказал Хронофаг.
Это был, пожалуй, самый честный ответ, который он от него слышал.
Он оттолкнулся от перил и пошёл дальше, уже не особо выбирая маршрут.
Город, словно почувствовав, что он готов смотреть дальше, прибавил ему накладок.
На одном перекрёстке он увидел сразу три версии одного и того же места, как три прозрачные пленки, наложенные друг на друга.
В первой – обычный день после Синхрона: люди разных возрастов, экраны, терминалы, мемориальные таблички.
Во второй – та же площадь во время «первой временной бури». Снег идёт вверх, часы на башне вращаются назад, люди бегут, держась за головы.
В третьей – тишина. Никаких людей. Только вода по щиколотку, отражающая серое небо, и стальное основание башни «Хронос Индастриз», искорёженное, как после взрыва.
– Здесь мы не удержали, – сказал чей-то голос.
– Здесь мы вообще не строили, – поправил другой.
– Здесь ты не дожил, – добавил третий.
Все три варианта – его.
– Скажи прямо, – обратился он к Хронофагу, не выдержав. – Ты хочешь, чтобы я чувствовал себя центром катастрофы?
«Я хочу, чтобы ты видел, где сходятся линии», – ответил тот.
– Зачем?
«Чтобы когда придёт момент, ты не подумал, что можешь просто отвернуться».
Внутри что-то неприятно совпало: слова матери про «ты не должен им позволить откладывать», взгляд Леи с мемориала, и вот это – «не отвернуться».
Он остановился посреди перехода.
Машины – те, что ещё пытались жить по правилам, – затормозили. Те, что уже давно игнорировали сигналы, прошли сквозь его тень из другой версии мира, не задев.
Голоса других его жизней чуть затихли, будто дали ему секунду.
В эту секунду он вдруг ощутил странную, почти физическую структуру вокруг себя.
Как будто кто-то обвёл его контур линией и от него в разные стороны действительно тянутся нити. К первым делам. К серверным залам. К тоннелю с Леей. К матери, которая одновременно рожает и отпускает. К врачам на лестнице, стареющим и молодеющим в одном движении.
Все эти ниточки не превращали его в куклу. Это было бы проще.
Они превращали его в узел.
Не самый приятный образ.
– Ты действительно считаешь, что всё это тянется ко мне? – тихо спросил он.
«Я ничего не считаю», – ответил Хронофаг. – «Я помню.
И то, что ты чувствуешь сейчас, – это не жалоба.
Это – предупреждение».
– О чём?
«О том, что петля уже почти замкнулась».
Фраза легла в воздух без эффектов, без грома и молний.
Город продолжал шуршать, люди переходили улицу, дети тянули родителей за руки, рекламу прокручивали по расписанию.
Только внутри у него что-то хрустнуло – тихо, как ломается тонкая палочка.
И он поймал себя на абсурдной, но очень ясной мысли: где бы он ни умер когда-то ещё – утонул, сгорел, разорвался в ядре, – всё это было только репетициями одной, настоящей смерти, которая ещё впереди.
Той, в которой ему придётся не просто исчезнуть, а решить – имеет ли право исчезнуть всё.
Он шел куда-то «просто так» – а значит, туда, куда город давно уже его вёл.
Маршрут выбрался сам: вниз, к воде. В старой жизни на набережных искали тишину и сигареты. Теперь тишину нигде не продавали, но двигаться всё равно хотелось к реке – как к чему-то, что помнит другие эпохи. У воды сложнее делать вид, что время – чистая функция сети.
Город по дороге несколько раз менял облик, будто примерялся.
Вот знакомый перекрёсток, рекламный экран, терминал Синхрона в стеклянной будке. Мигание, полсекунды – и вместо будки забор с облезлой краской, рядом киоск с газетами, на витрине которых слово «СИНХРОН» ещё только мелькает в прогнозах. Ещё рывок – и на том же месте ничего нет, кроме грязного сугроба и мусорного бака; никакой сети, никаких прогнозов.
Все три слоя не спорили между собой. Они просто были.
– Ты ходишь по своим делам, – сказал внутри один из его голосов, сухой, форменный. – А петля – по своим.
«Петля не ходит, – поправил Хронофаг. – Петля стоит. Это ты вокруг неё».
– Спасибо, стало легче, – буркнул Мартин.
Он вышел к реке.
Набережная тоже жила сразу в нескольких вариантах. В одном – свежая плитка, аккуратные лавочки, встроенные в перила датчики, измеряющие «темп локальных временных колебаний», как уверял какой-то проект. В другом – потрескавшийся асфальт, железные уродливые фонари, чьи лампочки всё равно постоянно перегорали. В третьем – вовсе пустое пространство: голая, сыроватая земля, пара кустов, тропинка, протоптанная поколениями ног, ни одного парапета.
Вода внизу текла… как могла.
Где-то она шла ровной, тяжёлой лентой нынешнего дня. Где-то – вспять: мелкие волны бежали не вниз по течению, а вверх, к условному «истоку». Местами поверхность просто дрожала, как старое зеркало, не в силах решить, какое отражение показывать.
Мартин сел на бетонный выступ, там, где три варианта набережной хоть как-то совпадали.
День вокруг не смог выбрать, сколько сейчас времени. Чуть в стороне кто-то запускал бумажный самолётик – детский смех явно был утренним. Подальше по тропе мужчина в пальто и шарфе курил так, как курят вечером: медленно, глядя в воду, уже никуда не торопясь. Над мостом, если приглядеться, мелькали огни – либо ранние фонари, либо поздние.
– Ты не обязан это всё тянуть, – сказал один голос. Его голос. Младший, почти юношеский.
– Обязан, – тут же возразил другой, жёсткий, с того периода, когда он уже был «вором времени» и пытался убедить себя, что делает всё ради нужного баланса.
– Перестаньте, – попросил он.
На секунду внутри стало тише.
И на этой тишине, как на чистом фоне, вдруг отчётливо прозвучал чужой шёпот:
– Я помню, как ты меня убил.
Мартин замер.
– Лея? – спросил он – и сам же понял, что заранее знает ответ.
Нет.
Не она.
Женский голос, но другой. Одна из тех, кто попал под первый тест распределения. Кто отдал часть своих лет ребёнку, а потом умер не там, где собиралась, и не тогда.
– Ты ничего не подписывала, – тихо сказал он куда-то в воду. – Это не было моим личным решением.
– А остальным ты так же говоришь? – спросил голос.
Он не ответил.
Река внизу шуршала. В её шуме начали проступать отдельные слова – как в плохо настроенном радио, когда между станциями вдруг улавливаешь фразы.
– …отняли детство…
– …прожил две жизни, ни одной своей…
– …ты же обещал, что будет честно…
– …я согласился добровольно…
Последний голос был мужским, твёрдым. Тот, кто считал, что идёт на сделку с системой осознанно. Потом его имя появилось в отчёте у Мартина. Потом его годы ушли кому-то, кого никогда не познакомят с источником.
– Они не мои, – выдохнул Мартин.
«Всё, что помнишь ты, – твоё», – спокойно сказал Хронофаг.
– Замолчи.
«Ты сам попросил сохранить», – продолжил тот без нажима. – «Ты не хотел, чтобы память о них просто сгнила в архиве».
Это было правдой. Когда Синхрон только начал стабилизировать первые линии, его – того, тогдашнего – буквально выворачивало от мысли, что истории людей превратятся в сухие таблицы. Он и предложил – не как герой, как упрямый бюрократ: встроить слой человеческой памяти в ядро, «чтобы было кому помнить лица».
И сеть ответила: «Отличная идея. Давайте попробуем на вас».
– Ты мог бы оставить меня в покое, – сказал Мартин.
«Тогда кто будет помнить?» – спросил Хронофаг.
Вода снизу вдруг отозвалась куском его собственной фразы:
– Если никто не будет помнить, значит, всё было зря.
Он помнил, когда сказал это. В какой-то из версий разговора с Леей – той, где они ещё не перешли на крик.
– А если помнить будешь только ты, – сказала тогда Лея, – это будет ещё одна кража.
Сейчас её голос отозвался иначе:
– Ты всё равно украл.
– Перестань, – попросил он уже её.
В воздухе что-то сместилось.
– Это не я, – сказала совсем другая Лея.
Он поднял взгляд.
На парапете, в двух шагах от него, сидела девушка.
Без мемориала, без глянцевого портрета. Живая. Может быть, чуть моложе, чем в тот день запуска. Волосы собраны в хвост, ноги свисают над водой.
Она смотрела прямо на него.
И одновременно – не на него.
– Ты, похоже, собрание зачитал, – сказала она, кивнув куда-то в сторону воды, где по-прежнему шуршали чужие фразы. – Все твои мёртвые вернулись жаловаться.
Он моргнул.
– Ты…
– Привет, – сказала она. – Я – та, которая не умерла.
Он почти физически ощутил, как внутри что-то срывается в пропасть.
– В какой линии? – спросил он.
– В той, – она кивнула куда-то вправо, – где мы даже не дошли до тоннеля.
Картинка всплыла сама: кабинет, спор, отчёт наверху, решение «проект закрывается». Они с ней сидят на ступеньках у технологического корпуса, пьют дешёвый кофе из автомата и обсуждают, куда теперь деваться.
Она там оживлена, он – обижен на мир.
Синхрон в той линии так и остался пилотным экспериментом, который признали «слишком опасным для внедрения».
– Живём, как живётся, – сказала эта Лея. – Время по-прежнему воруют, но не ты.
В её голосе не было облегчения.
– Ты счастлив? – спросила она.
– Я не там, – сухо ответил Мартин. – Я – здесь.
– Здесь ты тоже не очень счастлив, – заметила она.
«Она права», – сказал внутри один из его собственных голосов, самый занудный.
Он проигнорировал.
– Это ты? – спросил он у Хронофага.
«Нет», – ответил тот. – «Это одна из твоих линий. Я всего лишь не препятствую».
– Вежливо с твоей стороны, – фыркнул Мартин.
Лея на парапете улыбнулась так, как улыбалась тогда, в первой книге его жизни, когда ещё умела верить, что любые системы можно сделать честными, если достаточно старательно их проектировать.
– Ты всё равно думаешь о башне, да? – спросила она.
Он приподнял бровь.
– С чего ты взяла?
– С того, как у тебя напрягается плечо, когда ты слышишь слово «петля», – спокойно ответила она. – Ты всегда весь сжимаешься, когда делаешь вид, что тебя это не касается.
Он хотел возразить – привычно, рефлекторно.
Но при слове «петля» плечо действительно дрогнуло.
– Ты должен закончить петлю, – сказала Лея.
Не как Хронофаг – без инородного эха, без сетевого фона. Просто она.
Точно тем же тоном, каким когда-то сказала: «Ты должен решить, на чьей стороне».
– Опять началось, – прошептал он. – Не хватало, чтобы и ты хором с ним…
– Я не с ним, – перебила Лея. – Я с тобой.
Она выглядела одновременно настоящей и невозможной, как точка пересечения диаграмм, которой в школьной тетради быть не должно, но она всё равно там.
– В моей линии, – продолжала она, – всё пошло иначе.
За её спиной город был другим: башня «Хронос Индастриз» отсутствовала из горизонта. На её месте – недостроенный каркас, ржавеющий на ветру, с оборванными плакатами: «СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ…»
– Но знаешь что? – Лея сжала ладони, опираясь о камень. – Голоса всё равно есть.
Он повернул голову.
В её версии реки дети так же играли у воды, старики так же сидели на лавочках, кто-то так же ругался по телефону. И над всем этим – тонкий, еле слышный шум.
– Даже когда вы не включили сеть, – сказала она, – время всё равно умоляло.
– О чём?
– О том же, – вмешался Хронофаг. – «Закончите уже, сколько можно тянуть».
Он впервые услышал в его голосе что-то вроде усталой жалости.
– Мы думали, – тихо продолжила Лея, – что вы со своей петлёй – это решение.
«Мы», – отозвались в голове десятки голосов: инженеры, операторы, пациенты, тестовые группы.
– А оказалось, – она пожала плечами, – что вы просто сделали петлю видимой.
Он сжал пальцы в кулак.
– То есть всё это… – он мотнул подбородком в сторону своего города, где башня по-прежнему торчала, как стеклянный шип, – было неизбежно?
– Нет, – сказала Лея.
И тут же, почти в ту же секунду, другой голос – его собственный, из одной из погибших линий – сказал:
– Да.
«И да, и нет», – уточнил Хронофаг, как будто подводя итог заседанию.
– Прекрасно, – хрипло сказал Мартин. – Многоголосый «может быть».
– У тебя всегда было две беды, – сказала Лея. – Ты слишком любил факты и слишком ненавидел неопределённость.
Она посмотрела на него пристально.
– Сейчас у тебя будут только факты, – добавила она. – Все.
Река между версиями города на секунду стала зеркалом.
В его отражении Мартин увидел сразу нескольких себя.
Следователь в мятой рубашке.
Мужчина в костюме с логотипом «Хронос».
Тот, кто лежит на каталке, подключенный к ядру.
Тот, кто стоит один в серверной, освещённый тусклыми лампами.
Тот, кто сидит у кровати матери.
Они все одновременно подняли голову.
– Ты должен закончить петлю, – сказали они хором.
И только один – нынешний – выдохнул:
– Я знаю.
Река дрогнула, картинка распалась.
Лея на парапете моргнула – и не исчезла, как это обычно происходило с слишком честными иллюзиями. Просто её контуры стали чуть прозрачнее.
– Не сейчас, – сказала она. – Ещё нет.
– А когда? – спросил он.
– Когда тебе будет достаточно страшно и достаточно спокойно одновременно, – ответила она. – Ты всегда принимаешь решения именно в этой точке.
Её голос начал смешиваться с шорохом воды, со свистом ветра, с сетевым фоном.
– И да, – добавила она почти неслышно, – это правда всё тянется к тебе.
– Ненавижу, когда вы так говорите, – сказал Мартин.
«Привыкай», – сказал Хронофаг.
Город над рекой сменил ракурс.
Башня «Хронос Индастриз» одновременно была, не была и уже обрушена в каком-то будущем, о котором пока никто не решился говорить вслух.
А он сидел между этими версиями на бетонном выступе, слушал голоса других своих жизней и понимал: сколько бы ни было миров, в каждом из них рано или поздно находится кто-то, кто должен решить, разрешать ли времени наконец закончиться.
Он не помнил, как именно поднялся от реки. В какой-то момент просто обнаружил себя на набережной, уже в движении, с руками в карманах, с тем самым чуть сутулым шагом, который появляется у людей, привыкших нести на себе больше, чем положено одному позвоночнику.
Лея – та, что сидела на парапете, – растворилась не рывком, не красивой спецэффектной вспышкой. Просто стала совпадать с другими слоями: ещё секунду её силуэт виднелся поверх чужих прохожих, а потом он понял, что смотрит просто на камень и воду.
«Я рядом», – еле слышно отозвалось где-то сбоку.
Он уже не пытался разобрать, чей это голос – её, сети, одной из несостоявшихся Лей, той, что никогда не пошла в тоннель. В какой-то момент различать становится роскошью.
Город над рекой жил, как мог.
На одном балконе женщина одновременно поливала цветы и снимала с перил уже высохшее бельё – лет пять, как высохшее, судя по выгоревшей ткани. На остановке мальчик в школьной форме спорил по телефону с кем-то, кто обращался к нему «папа». В витрине кафе его собственное отражение на секунду накрылось другим – тем, где он ещё в форме, с расстёгнутой у горла пуговицей и с пачкой протоколов под мышкой.
– Ладно, – сказал он себе, – хватит прогулки.
«Она только начинается», – мягко заметил Хронофаг.
– Мне бы хотя бы домой дойти без хора в голове.
«Дом – это как раз то место, где хор громче всего», – резонно возразил тот.
Приходилось признать: он прав.
Квартира давно стала не убежищем, а приёмником. Стены там лучше всего ловили внутреннюю помеху: стоило ему остаться одному, как всплывали голоса – не только его, чужие тоже – всех, кого он когда-то опрашивал, спасал, не спас, запускал, отключал.
Он всё равно направился туда. Не потому, что верил в защиту четырёх стен. Скорее, потому, что хотя бы за дверью можно было перестать изображать нормального человека.
По дороге голоса, как назло, только прибавились.
Мимо него прошёл мужчина с детской рукой в своей ладони – отец, лет сорока. На секунду их плечи соприкоснулись. И в этот контакт вписалась чужая фраза:
– Я согласился отдать три года, думал, не почувствую…
За ней – ответ, из другой линии:
– А я не успел спросить сына, хочет ли он их получить.
Оба голоса были одними и теми же, просто смещёнными по времени.
Мартин отдёрнул плечо, как от ожога.
– Скажи мне ради эксперимента, – процедил он – уже не к Хронофагу, а к самому себе, ко всем этим версиям в голове, – есть в этом городе хоть один голос, который просто… довольный?
Пауза.
Её можно было бы принять за тишину, если бы он не знал, что это всего лишь сеть перебирает варианты.
И вдруг, совсем не оттуда, откуда он ждал, раздалось:
– Спасибо.
Одно слово. Детское.
Он остановился.
– За что? – спросил он.
Из темноты памяти вышла сцена, которую он почти не держал на поверхности.
Маленькая девочка в больничной палате. Лысая после терапии. Мать рядом, с руками, стертыми до синяков от бесконечных бумаг. Тогда, «до», они с Леей протащили через все комиссии экспериментальную процедуру досрочного переноса – выдрали у системы несколько месяцев чужой жизни и вбросили сюда, в маленькое тело, в наивное «ещё чуть-чуть пожить».
– Я хотела ещё один снег, – говорит девочка, лёжа под простынёй. – Он был.
Снег действительно был. Один. Может быть, не самый красивый, с грязью, с лужами – но был.
– Спасибо, – повторяет её голос.
И исчезает.
– Один, – сказал Мартин вслух. – Из тысяч.
«Бывает и так», – тихо отозвался Хронофаг.
Тон его был почти человеческий – без привычной нейтральности.
– Ты хочешь сказать, что всё это стоило одного лишнего снега? – спросил Мартин.
«Я ничего не хочу сказать, – ответил тот. – Я просто показываю, что в памяти есть и это тоже».
Он выдохнул, чувствуя, как надвигается привычная злость – не на сеть, не на город, а на самого себя. На того, который когда-то искренне верил, что можно уравнять баланс, просто сложив побольше таких «спасибо».
Он всегда недооценивал, сколько будет «я помню, как ты меня убил» на одну-единственную благодарность.
Квартира встретила его, как обычно, – никак.
Дверь, замок, короткий коридор. Обувь, с которой постоянно съезжает коврик. Стены, на которых мало что висит, кроме пары старых фотографий, которые он не имел сил ни снять, ни сменить.
Внутри время вело себя странно.
Кухня была явным вечером: на столешнице – кружка с размазанным по краю кофе, лампа под потолком даёт тёплый, жёлтый свет, за окном – темнота с редкими фонариками.
Комната – утренней: бумага на столе свежая, экран выключен, на подоконнике тянутся к стеклу бледные ростки, словно кто-то только что открыл шторы.
В прихожей висели сразу три его куртки – зимняя, осенняя и та, в которой он ходил на первые смены десятки лет назад.
Он прошёл на кухню, включил воду, машинально поставил чайник – старый, щёлкающий.
– Мы уже здесь умирали, – спокойно сообщил один из голосов. Его, патологоанатомически-сухой.
Картинка всплыла без спроса: он, в этой же квартире, только постарше, падает на пол, хватаясь за грудь. Телефон, который так и не успевает дозвониться до «скорой».
«Один из вариантов», – уточнил Хронофаг.
– Отличный, – хмыкнул Мартин. – Я хотя бы дома.
«В другом ты умер в лифте», – честно добавил тот.
– Спасибо за разнообразие.
Чайник щёлкнул. Этот звук странным образом пробился сквозь все наложения, оказался почти якорем.
Он налил воду в кружку, сел за стол.
Голоса внутри чуть отступили, как если бы решили дать ему сделать хотя бы один человеческий, последовательный глоток – от края до дна.
Он допил, поставил кружку, провёл пальцем по мокрому ободу.
– Давай так, – сказал он, глядя в пустоту через окно. – Один вопрос. Один ответ. Без шифров.
«Попробуем», – согласился Хронофаг.
– Всё это… – он обвёл рукой воздух вокруг, имея в виду и город, и голоса, и хаос линий, – тянется ко мне. Хорошо.
Он ощутил, как внутри что-то кивнуло.
– Но почему я?
Пауза.
Не та, наполненная шуршанием данных. Настоящая. Как будто тот, с кем он разговаривал, действительно задумался.
«Потому что ты уже согласился», – наконец сказал Хронофаг.
– Когда? – Мартин нахмурился. – Я такого не помню.
«Помнишь», – мягко возразил тот.
И память послушно раскрыла нужную страницу.
Не лаборатория, не серверная. Небольшой кабинет, поздний вечер. Лампа под потолком даёт ту же жёлтую лужу света, что сейчас на кухне. На столе – бумаги, договоры, протоколы.
– Вы должны понимать, Мартин, – говорит кто-то из руководства. Голос гладкий, усталый, официально сочувствующий. – Мы просим о многом.
Он – тот, прошлый – сидит напротив, с руками, сцепленными в замок.
– Кто-то должен взять на себя ответственность за человеческий слой, – продолжает голос. – Машины отлично считают, но им всё равно.
– А мне – нет, – отвечает он.
Он помнит этот разговор. Но в его версии он остановился на фразе: «Я согласен участвовать».
Сеть бережно проигрывает дальше, чего он тогда не захотел запоминать.
– Вы понимаете, что это может стоить вам… всего? – спрашивает голос.
– Если я забуду, ради кого всё это, – говорит он, – тогда всё было зря.
Он делает паузу.
Смотрит куда-то мимо собеседника – в окно, где ночной город ещё не знает, что его скоро прошьют сетью.
– Я согласен помнить, – произносит он тогда.
Вот этот момент он и вытеснил.
– Чёрт, – тихо сказал Мартин нынешний.
Чай в кружке успел остыть.
– Это не было контрактом на всю жизнь, – попытался он возразить. – Это был…
«Выбор», – подсказал Хронофаг.
– Ошибка, – жёстко поправил он.
«Любая ошибка становится частью петли, если её достаточно долго повторять», – заметил тот.
Он хотел хлопнуть по столу, но только сжал пальцы.
– И ты теперь считаешь, что раз я когда-то сказал «я согласен помнить», – значит, я обязан дотащить до конца всё, что вы на меня навешали?
«Не я навесил», – спокойно сказал Хронофаг. – «Я – то, что получится, если ты доведёшь своё "буду помнить" до логического конца».
Фраза прозвучала странно, но в ней была своя внутренняя геометрия.
Он вспомнил слова матери: «Ты – тот, кто помнит».
Слова Леи: «Если помнить будешь только ты – это ещё одна кража».
Слова самого себя: «Если никто не будет помнить – всё было зря».
Вся эта тройная петля обвилась у него в груди тугим узлом.
– И что ты от меня хочешь прямо сейчас? – устало спросил он. – Конкретно. Без философии.
«Чтобы ты не убежал, когда придёт время», – ответил Хронофаг.
Он усмехнулся.
– Боюсь, я уже слишком устал, чтобы убегать.
«Это хорошо», – сказал тот.
– Вдохновляюще.
Он поднялся из-за стола, прошёл в комнату.
Там, на стене, висела фотография, которую он давно перестал замечать. Они с Леей у какого-то белого стенда, ещё до того, как всё началось. У обоих в руках по пластиковому стаканчику с кофе, на лицах – глуповатые улыбки людей, которые верят, что конференции имеют значение.
Фотография дрогнула.
В одном слое – та же сцена, только его рядом нет: Лея стоит одна, с другим человеком, незнакомым. В другом – вообще другая женщина, с тем же стендом, а на самом стенде нет логотипа «Хронос Индастриз», только безликое название института.
Во всех версиях кто-то верит, что ещё можно всё сделать правильно.
– Ты понимаешь, – тихо сказал он, – что если я «закончУ петлю», как вы все хотите, меня как меня не останется?
«Понимаю», – без паузы ответил Хронофаг.
– И тебя – тоже, – добавил он, вдруг сообразив. – В том виде, в каком ты есть сейчас.
«В том виде, в каком я есть сейчас, быть нельзя», – спокойно сказал тот. – «Я – тоже застрял между».
Он усмехнулся одними уголками губ.
– Приятно знать, что хотя бы кто-то ещё страдает от неопределённости.
«Я не страдаю», – поправил Хронофаг. – «Я расходуюсь.
Или разрастаюсь. Это похоже».
Он сел на край кровати, чувствуя, как день – если это всё ещё был один день – наконец-то начинает тяжелеть. Не в смысле времени суток, а как гиря, подвешенная где-то внутри.