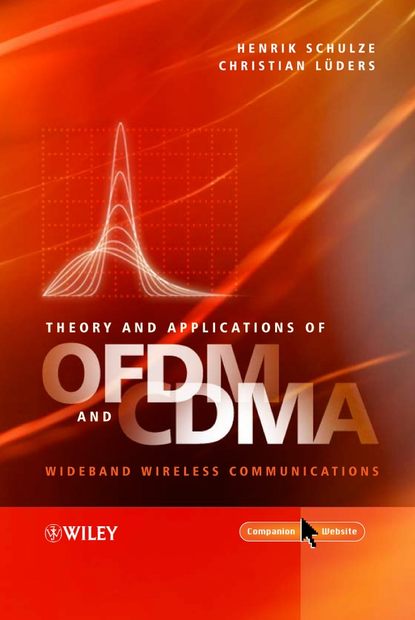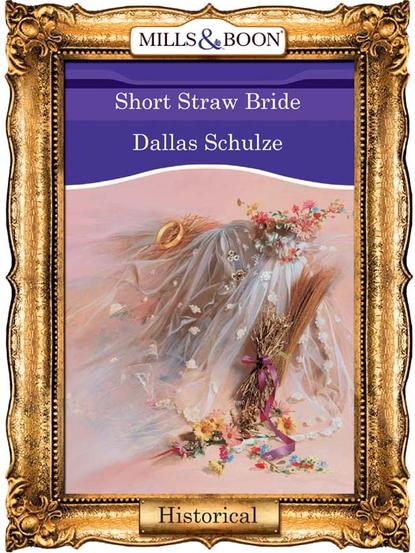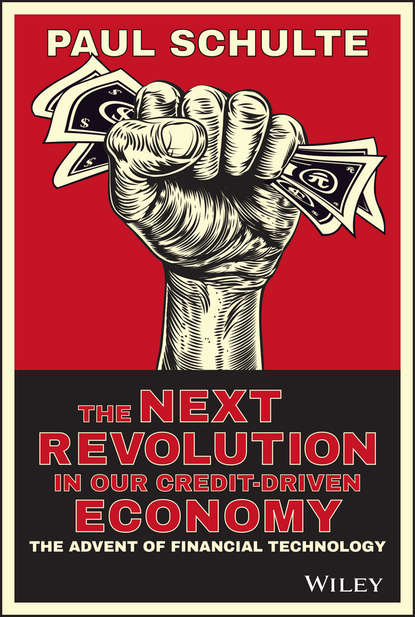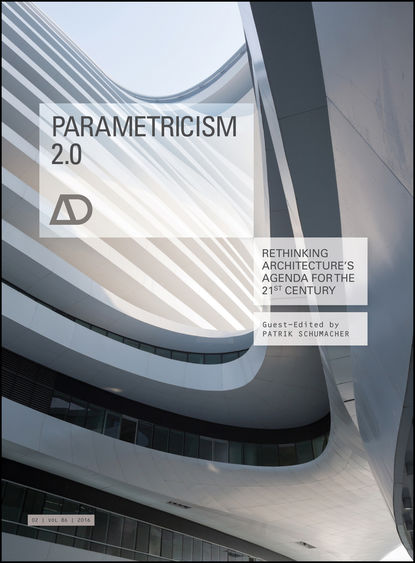Синхрон

- -
- 100%
- +

Глава 1. Человек, который уже умер
Щелчок. Капля. Дыхание. Свет из короба под потолком, будто простуженный, дёргается с короткой задержкой, как если бы кто-то нажимал выключатель в двух местах сразу: здесь и в другом месте, которое наслаивается поверх этой комнаты, чуть правее. Полосы холодного света ложатся на простыню с белёным логотипом – семь сросшихся окружностей, «Хронос», – и Мартин понимает, что они лежат не ровно: одна полоса опережает другую на долю секунды, свет догоняет свет. Он открывает глаза как будто второй раз, и во второй раз видит то же самое, но ярче. Его руки – чужие. Сухие, неровные, с мелкой сеткой сосудов, которые он помнил другими: толще, темнее, моложе. Ему кажется, что он знает их возраст, как знают вкус воды из детства, – и возраст не совпадает. Он пытается поднять левую и видит её движение сразу в двух местах: в настоящем и в блеске металлической стойки для капельницы. В отражении рука поднимается чуть раньше. Или это рука не его? Он уже видел это. Но не так.
Висит капля в трубке, тянется, не решается сорваться. Он следит за ней так, как следят за секундной стрелкой перед стартом, – и в этот момент стрелка воображаемых часов у него в голове делает скачок сразу на две деления, пропуская одно. Два. Четыре. Шесть. Счёт перестаёт быть счётом и становится чем-то вроде шороха. Трубка уходит к венам, повисает полупрозрачной ниткой; она – как часть сети, к которой подключён весь этот холодный подвал: вазельновые стены с полосой тени, щели вентиляции, коридор за стеклом двери, которая называет себя дверью, но больше похожа на экран. Пахнет лекарствами, пылью, старой бумагой и электричеством, которое пережило не одну зиму. Болят мышечные волокна, и боль не целостная – она состоит из мелких, как песок, единиц, которые время по очереди успевает и не успевает регистрировать.
Он не сразу вспоминает имя. Сначала вспоминает звук: Л. С. В. Лисов. Как крошечные стёкла, сдвинутые на ладони. Потом – Мартин. И ещё – что где-то есть голос женщины, который зовёт его по имени, закатывая последний «н» так, будто это шёпот о том, что будет завтра. Вчера – то есть завтра, поправляет себя внутренний голос, и от этого поправления становится холодно, потому что оно пришло слишком легко, как давно знакомая ошибка. Вены в висках пульсируют не в такт сердцу, а в такт капле, которую он продолжает отслеживать – уже не понимая зачем, просто чтобы удержаться в каком-то одном времени.
Он тянется к груди, чтобы ощутить биение, но ладонь проваливается в ощущение чужого ребра: костлявее, чем должно быть. Он старше, чем был. Насколько – неясно. Память выглядит как длинный коридор, в котором некоторые лампы горят ярко, а между ними – чёрные участки, от которых хочется отворачивать взгляд. Он поднимает голову. Справа на стальной тележке лежит прозрачный пакет с бумагами – в нём углом впившаяся в целлофан толстая карточка с красным штампом. Он тянет руку, но пальцы едва слушаются, и кошачье шуршание пакета звучит одновременно рядом и издалека, с задержкой в одну фразу. Бумаги тёплые, как если бы кто-то только что держал их. На карточке сверху печать «Отдел учёта временных аномалий» и подпись техникеским почерком: Лисов, Мартин. Ниже – угольно чёткое «Погиб», дата, и она сдвигается у него на глазах; цифры в центре карточки шевелятся, меняя порядок лет. 20—, 20—, двадцать два? двадцать четыре? Он моргает. «Три года назад», говорит пустая комната чужим ртом.
Он прислушивается – не к звукам за дверью (там пока ничего определённого), а к своему дыханию. Вдох как ещё одна капля. Выдох как ещё один щелчок. Холод течёт по позвоночнику. На правом запястье – пластиковый браслет, затянутый слишком туго. Чёрные буквы наполовину стёрты от времени: LISOV M. Ниже – шифр корпуса, ниже – QR-пятно, под ним на бледном пластике втиснуты микроскопические символы, которые невозможно прочитать при этом свете. Он подносит браслет ближе к глазам: «статус…» – и дальше точечный мусор, из которого в голове складывается слово «DOA», хотя он не уверен, что когда-то работал с такой терминологией. Он же был… кем? Следователем. Он знает это, как знают, что боль прекращается на вдохе. Следователь, который изучал не людей, а их оставшееся время. Это знание приходит не из прошлого, а как сигнал откуда-то со стороны, где звук и изображение не совпадают.
На стене, неподалёку от головы, висит квадратный монитор жизненных показателей. Сердце рисует зеленоватую линию, которая временами делается пропавшей, а потом возвращается там, где её не было. Противоположная стена отдаёт бликом так, что можно увидеть себя боковым зрением: голый коридор света, слабое лицо, провалившиеся щёки, тонкая щетина, как иней на решётке. В отражении он моргает раньше, чем успевает моргнуть на самом деле. Он опускает взгляд и видит стоптанные кеды на чужих ногах – слишком новые для его запомнившегося прошлого, слишком чужие для настоящего. Он пробует пошевелить пальцами на ногах. Это удаётся только на третью попытку, как если бы кто-то записал движения на ленту с задержкой.
За дверью – лёгкий шорох. Голоса срываются в электрический песок: «– …пациент… – …состояние… – …три… нет, два…» Реплики врезаются одна в другую, как если бы в коридоре одновременно шли два разговора, чуть сдвинутых во времени. Он слушает и слышит свое имя, но в чужом ударении, как его произносили в одном из отделов, куда он никогда не входил – или входил? В голову втекает странное чувство, от которого хочется закрыть глаза: в одной жизни эта дверь ведёт в больницу городского уровня, в другой – в подземный отсек «Хронос», из которого выкачали деньги и персонал, но оставили включённым свет.
Он пытается подняться. Реальность отдаёт тяжестью под рёбра – алеющее в глазах слово «осторожно» вырастает из недосыпа. Трубка цепляется, пластиковый крючок звякает о металлическое гнездо – и этот звук повторяется спустя полсекунды: слабее, выше по тону, как эхо из планшета, где кто-то просматривает запись происходящего прямо сейчас. Он опирается на локти, потом отпускает левую, правой берётся за край каталоги и ощущает под ладонью холодный рельеф: насечка от времени. Он смеётся тихо и не сразу понимает, что смеётся: звук сухой, не в его тембре. Ему не больно. Ему странно.
Пакет с бумагами скатывается со стойки, но не падает – застывает на краю, как капля в трубке. Он тянется, ловит его, и эта ловля тянется дольше, чем должна, будто между пальцами и пакетом кто-то вставил лишнюю секунду. Внутри – не только карточка с печатью «Погиб», но и плотный конверт из серой бумаги, полусотня страниц в пластиковых файлах, на титульном листе – «Свидетельство о…» и текст, расплывшийся от подземной влаги. Он вытягивает один лист. На нём его фамилия написана двумя разными ручками, и одна из подписей совпадает с его собственной подписью из памяти, а другая – нет. Дата смерти не одна – на полях тонкая цифра карандашом, как ремарка, меняющая год. Он подносит лист к свету и видит, что на обратной стороне есть отпечаток штампа, который напоминает старую кассу: «архи…», «дело…», «син…» Он не дочитывает – возвращает лист в конверт так, будто возводит назад стену.
Дышать становится легче, когда он на секунду закрывает глаза. В этой темноте – ещё одна комната. Он стоит там спиной к окну, а в окне – ночь, и свет горит так, как умеют гореть только приборы, у которых в инструкции прописано «не выключать никогда». Он оборачивается и видит, как человек в белом халате говорит по телефону, и взгляд его проходит сквозь Мартина, потому что в той комнате Мартин уже умер, давно и без громких слов, в списках – красная строка, галочка. В другой комнате тот же человек смотрит на него внимательно и не понимает, почему записи говорят одно, а глаза – другое. Он открывает глаза и возвращается сюда, на простыню с логотипом.
Его лицо встречает его в отполированном металле поручня. Полоска губ, тонкая вежливость страдания. Он говорит себе шёпотом: «Я жив». И слышит ответ из отражения: «Ты умер». Это не бред. Это даже не метафора. Это способ системы обрабатывать противоречивые явления. Он уже видел это. Но не так.
Он садится. Мир не спешит признавать его движение: приборная панель продолжает рисовать ровный горизонтальный штрих, будто никого нет и никого не было. Потом, с небольшой задержкой, вспыхивает пик – жизнь догоняет бумагу. Из вентиляции задувает холод, и этот холод приносит запах мокрой резины и консервационной пыли – склад, архив, что-то, где вещи умеют ждать десятилетиями. Он пытается вспомнить последнюю целую сцену до провала. Женщина в метро? Нет. Лифт, который шёл вниз, а потом вверх сразу. Рука на стекле – его рука или чужая – и буквы на двери: SYN— что-то. Синхрон. Слово давит на горло, как камешек.
В коридоре начинает мигать свет – не как аварийная тревога, а как разговорная пауза. Через матовый прямоугольник стекла он видит тени, двигающиеся не в ту сторону, в какую идут их обладатели: силуэт человека наклоняется вперёд, а тень продолжает стоять прямо; затем догоняет, спотыкается, сдаёт назад. Его ладонь вспоминает движение выключателя, которым он когда-то выключал жизнь в комнате, где не было никого, кроме треснувших часов – он делает это движение в воздухе, и в этот момент лампы в коридоре гаснут ровно на секунду. Слышно, как один из голосов за дверью говорит «Что за…» – и дальше шёпот глотает остаток фразы.
Он спускает ноги на пол. Пол не холодный – и от этого делается не по себе: так чисто не бывает, так ровно не ложится линолеум, так уныло не ведут себя швы между плитами. Он встаёт, задыхаясь не от усилия, а от мыслей, которые роятся, как мухи у окна. «Три года». «Погиб». «Лисов, Мартин». «Синхрон». Слова кружатся, но не составляют предложения. Он делает шаг к двери. Колено щёлкает. Лампочка на панели монитора сменяет цвет с зелёного на жёлтый и обратно. Там, за стеклом, тень на секунду вырастает до человеческого роста, а затем делается короче, как если бы человек внезапно сел. В этом смешении жестов и проекций можно жить долго, понимает он. Или умереть сразу.
Он касается пальцами двери. Пальцы – шершавые, как будто в них навсегда втерлась пыль от старых дел, и кожа не различает, где заканчивается человек и начинается архив. Деревянной ручки нет – дверь металлическая, с нажимной планкой. На уровне глаз – наклейка с номером, за которым не спрячешься: 04. И ниже – другой номер, когда-то сорванный и оставивший клейкий квадрат. Он видит в этом пустом месте цифру 41. Его собственный мозг, как зеркало, подставляет заранее выученную потерянную минуту. Он улыбается (это движение не похоже на улыбку) и нажимает на планку. Пружина оказывает сопротивление, как будто в системе есть ещё кто-то, кто держит дверь изнутри. Он нажимает сильнее. Металл под ладонью тёплый. Мир за дверью одновременно гулкий и тихий. Дверь чуть поддаётся. В щель прорывается ламповое мерцание коридора и резкая линия чужого голоса, обрывающаяся на слоге: «– …жив…»
Он замирает. Слово умирает у порога. Оно звучит так, будто его произносит кто-то, кто не верит, что такое возможно. Он не открывает дальше. Он стоит вот так – наполовину здесь, наполовину там – и видит в планке своё узкое отражение, опережающее дыхание на полвздоха, и этого полвздоха достаточно, чтобы понялось главное: за дверью мир готов признать его призраком. А здесь, в комнате, документ готов признать его трупом. В обоих случаях он – ошибка в системе учёта, секунда, записанная дважды и не совпадающая сама с собой. Он ощупывает карман больничной рубахи – кармана нет, но рука делает привычное движение, как если бы там могла оказаться зажигалка, ключ или сложенная вчетверо фотография. Пальцы встречают воздух. «Он уже видел это. Но не так», – повторяет внутренний голос, странно спокойный, как будто чужой.
Он отпускает планку. Дверь закрывается беззвучно. В комнате снова только щелчок, капля и дыхание. Он садится обратно на край каталоги, кладёт ладони на колени и смотрит на браслет. Буквы на пластике кажутся уставшими. Он наклоняется, стягивает его зубами – пластиковый замок сопротивляется, ломается, отскакивает, улетает под кровать, не издав звука. Браслет остаётся в пальцах как круг, из которого вынули предназначение. Он сжимает его, и тот меняет форму с крошечной задержкой, как мягкое зеркало. Он кладёт кольцо на карточку с печатью «Погиб», и пластик, кажется, втягивается в бумагу, как мокрая нитка. Это, вероятно, иллюзия. Или поправка мира на то, что существует человек, который уже умер, и которому ещё предстоит встать и открыть дверь. Но не сейчас. Сейчас – вдох. Выдох. Щелчок. Капля. И взгляд в металлический блик, где глаза закрываются на мгновение раньше, чем моргает он.
Дверь снова щёлкнула. На этот раз – изнутри системы, не от его ладони. Замок дернулся, как если бы кто-то передумал и всё-таки решил войти. Планка под его пальцами чуть дрогнула, и он отнял руку, сделав вид, что всегда сидел вот так, на краю каталоги, с опущенными плечами, как положено тем, кого только что вернули из ниоткуда.
Дверь открылась на ширину ладони и остановилась. В щели показался глаз – осторожный, с припухшим веком. Этот глаз сначала увидел пустую койку. Потом – его. Потом – пустую койку ещё раз. Мартин видел, как зрачок расширяется и сужается дважды, будто глаз переключает режимы наблюдения.
– Лисов… – Голос за дверью прозвучал так, как если бы слово впервые пробовали на языке. – Мартин?
Он кивнул. Это движение получилось одновременно медленным и резким: он сам ощутил, как шея повелась с опозданием, а в отражении на поручне подбородок дёрнулся раньше.
Дверь распахнулась шире. В комнату вошла женщина в серо-зелёном халате – возраст неопределимый, лицо из тех, что мгновенно забываются в коридоре, но всплывают потом на дверях кабинетов. На бейджике – «Старшая медсестра» и фамилия, которую он не успел прочитать: буквы размазались, словно кто-то провёл по пластику влажным пальцем. Она держала в руках планшет, как щит.
Она остановилась в двух шагах от каталоги, огляделась – на всякий случай – и вернула взгляд к нему.
– Так. – Она сказала это «так», как говорят «ну, прикольно», увидев чудо техники в рекламе, не веря, что оно существует вне экрана. – Как вы себя чувствуете?
Он хотел ответить честно: «Я не знаю, кто из нас настоящий». Вместо этого сказал:
– Путаю… время.
Пауза. Она опустила взгляд на планшет. Палец пробежал по экрану, и Мартин заметил на стекле своё отражение – двоившееся двумя разными ракурсами: в одном он сидел, как сейчас, в другом – лежал без движения, глаза закрыты. В нижнем углу экрана мелькнуло знакомое слово: LISOV, MARTIN. Статус: DECEASED. Дата и время смерти. Год. Три года назад. Вчера. Завтра.
Медсестра моргнула, хмыкнула и наклонила планшет так, чтобы он не видел.
– Это… ошибка, – произнесла она чуть громче, чем надо, словно убеждала не его, а устройство в руках. – База подтянула старые данные. Такое бывает.
Фраза «такое бывает» повисла в воздухе с задержкой, повторилась где-то за её спиной, в коридоре, из другого рта.
– Я… – он сделал попытку вспомнить, когда в последний раз был в этом здании, видел этот логотип, эту женщину (она делала укол? брала кровь? проходила мимо?); память отозвалась белым шумом. – Где я?
– В отделе. – Она почему-то не произнесла название отдела. – Вы в безопасности.
«В безопасности». Это словосочетание прозвучало так, как если бы его произносили над человеком, который уже лежит в земле: не потому, что так есть, а потому, что так хочется думать. Она снова глянула на экран и быстро, почти нервно, прикоснулась пальцем к строке «DECEASED» – слово мигнуло, не желая исчезать, как старый шрам, который пытаются отретушировать.
– Я… была приёмной в тот день, – неожиданно сказала она. – В день… инцидента. Синхро… – язык споткнулся о лишний слог. – В общем. Вы тогда… – Она замолчала. В её глазах одновременно промелькнули два воспоминания: в одном он закончился белой простынёй и тишиной; в другом – яркой вспышкой света за стеклом, криком «стоп тест» и запахом сгоревшей проводки. – Вы тогда не выжили.
Сказано было просто. Без театра. Как ставится галочка в электронном отчёте.
– А сейчас? – спросил он.
Она посмотрела на него как на анкету, где в одном пункте прочерк, а в другом – плюс и вопросительный знак.
– Сейчас… вы дышите, – сказала она. – И это… проблема учёта.
Он не удержался и почти усмехнулся.
– Ошибка в системе, – подсказал он.
– Не говорите так, – попросила она тихо, как будто это могло кого-то ещё разбудить. – Они не любят, когда их называют системой.
«Они». Кто именно? Программисты? Руководство? Хронос? Время? Голос в голове отметил это слово и поставил рядом маленькую звёздочку.
– Попробуйте встать, – сказала медсестра уже другим тоном: служебным. – Осторожно. Медленно. Здесь… иногда… – Она поискала взглядом нужное слово и не нашла. – Скользко.
Он поставил ноги на пол. В этот раз ощущение было чуть иным: подошвы нашли опору не сразу, словно под линолеумом шевелились другие полы других зданий, выбирая, чьим ему быть. Он поднялся. Мир сначала отъехал назад, как на колёсиках, потом вернулся на место. В отражении приборного монитора он увидел, как делает это движение дважды: сперва тонкая фигура в больничной рубахе выпрямляется, затем – чуть задержавшись – повторяет его, но с другой осанкой, как будто другой Мартин в другой комнате встаёт неохотнее.
– Нормально, – сказал он. Голос прозвучал сухо. И ещё раз – чуть глуше – из металла.
Медсестра кивнула, шагнула к двери, выглянула в коридор.
– Доктору сообщите, – сказала она куда-то в сторону. – Он… проснулся.
Слово «проснулся» покатилось по коридору, ударилось о стены, вернулось эхом. «Проснулся, – повторил кто-то. – Проснулся… Три года спустя…» В этой повторённой фразе было уже другое значение: не медицинское, а… административное.
Она жестом пригласила его следовать. Он шагнул к двери. Между косяком и его плечом по-детски проскользнуло что-то похожее на сквозняк – холодный, но не воздушный: скорее, это была волна мониторов, фиксирующих каждое его движение, каждый вдох, каждый миллиметр пути. Камера на потолке – чёрный глаз под куполом – повернулась с тихим жужжанием ему вслед и на секунду отстала, будто её привод прозевал начало движения.
Коридор оказался длиннее, чем казался из комнаты. Мартин шёл, держась за поручень, и замечал мелочи: паркетные стыки под линолеумом, выпуклые от времени; маркировку на стенах бледно-синей краской: СЕКТОР B4, БЛОК ХРОНО-МОН, стрелки влево и вправо. В одном месте стрелки перекрещивались, указывая одновременно в две стороны. Под ними кто-то шариковой ручкой приписал: «Вы уже были там».
Лампы дневного света, вмонтированные в потолок, мигали не синхронно – каждая жила своей жизнью. В одном отрезке коридора свет зажигался с задержкой, так что их тени сначала вытягивались вперёд, а потом догоняли их сзади, как отставшие двойники.
Он на секунду отвлёкся на собственное отражение в маленьком прямоугольнике стекла пожарного шкафа. В одном отражении он шагал вместе с медсестрой, в другом – шёл один, без неё. И ещё – в глубине – мелькнула третья фигура: он в деловом пиджаке, с папкой под мышкой, быстрым следовательским шагом. Тот третий исчез, как только он моргнул.
– Это… больница? – спросил он.
– Официально – да, – ответила она. – По документам. – Она, кажется, запоздало вспомнила о роли сочувствующего персонала и добавила: – Специализированный центр по… сну.
Он остановился.
– Я не спал, – сказал Мартин. – Я… умирал.
– Не надо сейчас, – устало сказала она. – Это доктору. Пусть он… решает, что вы делали.
Они свернули за угол. Здесь стены стали темнее, потолок ниже. Капли воды из кондиционера падали куда-то за фальшпанель, и каждый такой звук будто выдёргивал из воздуха по секунде. Мартин заметил, что в этих местах память внутри головы тоже слегка «подвисает»: он не мог точно сказать, сколько шагов они сделали между поворотами. Три? Пять? Ноль? В одном слое происходящего они всё ещё шли по первой прямой.
В нише у двери стоял аппарат, напоминающий банкомат. На экране плавали знакомые ещё по старым делам пиктограммы: счета времени, кредиты сна, протоколы отката. ЛОГИН, ПАРОЛЬ. Внизу мерцало сообщение: «Соединение с ядром нарушено. Повторная синхронизация… Повторная синхронизация…» и так бесконечно. В кожух аппарата, как в зеркало, было вставлено затенённое стекло. Там, внутри, Мартин разглядел себя без браслета на запястье и без рубахи, в гражданской одежде, какой он помнил себя «до», – или думал, что помнит. Тот в стекле поднял руку на долю секунды раньше него и провёл пальцами по невидимой панели. Вспыхнуло бы что-то, если бы панель была настоящей.
– Не отстаём, – напомнила медсестра. Она не смотрела в стекло. Возможно, не видела там ничего, кроме собственного силуэта.
Они остановились у двери с табличкой «Каб. 12. ВРЕМЕННЫЕ АНОМАЛИИ / НАБЛЮДЕНИЕ». Под табличкой – ещё одна, поменьше: «Ответственный: д.м.н. С. В. Малышев». Фамилия шевельнулась, как гусеница, стала на миг «Малыш…ев?» и снова застыла. Кажется, краска на пластике не любила, когда её заставляли помнить слишком долго.
– Сядете, подождёте, – сказала медсестра. – Не уходите. – Она открыла дверь и, не входя, махнула рукой. – Доктор сейчас будет.
Комната оказалась похожа на предыдущую, но чуть более обжитой. На столе – компьютер, старый, с толстым монитором, и новый, тонкий, рядом, как его собственное отражение. Оба были включены, оба показывали заставку с логотипом «Хронос». На стене висела диаграмма, на которой сеть линий сходилась в несколько узлов, обведённых красными кружками. В центре – один, самый плотный, с десятком стрелок, подписанный буквами, которые отсюда было не разобрать. Мартин почему-то точно знал, что этот узел – он. Не как человек, как место в схеме.
Он сел на стул. Спинка была холодной, но не сразу. Сначала – ничто. Потом – прохлада. Потом – привычное давление. Он протянул руку к диаграмме, но не дотянулся; пальцы в воздухе обвели круги, повторяя контуры узлов. «Время – сеть», – подумал он. Не открытие. Воспоминание из чужой лекции, на которой он, наверное, никогда не был.
Дверь за его спиной снова щёлкнула. Вошёл мужчина лет шестидесяти, в халате поверх рубашки и галстука. Лысина, седые брови, глаза, в которых усталость давно стала частью радужки. Он остановился, увидел его, замер. На мгновение из коридора за его спиной в комнату заглянуло другое время: то, в котором этот же мужчина наклонялся над той же диаграммой и говорил: «Субъект Лисов – идеальный узел. Он уже связан со временем через…» – предложение обрубилось, будто ножницы прошлись по аудиодорожке.
– Вы… – доктор вдохнул. Грудная клетка поднялась, опустилась дважды. – Сели? Хорошо. – Он сказал это автоматически, как говорят пациентам, чтобы выиграть секунду. – Я… – Пальцы его нащупали край стола, как поручень. – Давно не виделись, Мартин.
«Давно» – слово распалось на несколько линий: в одной они действительно работали вместе, обсуждали дела о пропавших сутках; в другой он видел этого человека только на фотографиях из внутренней базы; в третьей – никогда.
– Мы… знакомы? – спросил Мартин.
– Официально – да, – ответил врач. – Неофициально… – Он нахмурился, не найдя подходящей категории. – Это сейчас выясняется.
Он опустился в кресло, включил перед собой старый монитор. Тот ожил с ворчливым треском кинескопа. На экране поползли строки: ЛИСОВ, МАРТИН ВИКТОРОВИЧ. Дата рождения. Место работы. Статус: УЧАСТНИК ПРОЕКТА «СИНХРОН». Ниже – отдельная строка: СТАТУС ЖИЗНИ: ПОГИБ. Дата, время, подпись – та самая, которую он видел в конверте. Малышев провёл пальцем по стеклу, словно пытаясь стереть слово. Стекло ответило лёгким колебанием, как поверхность воды, но буквы остались.
– Система говорит, что вы мертвы, – констатировал он.
– А вы? – спросил Мартин.
Доктор поднял взгляд. В уголке его глаза, в крошечной треугольной складке, жил человек, который однажды уже принимал факт чьей-то смерти и не хотел переживать это ещё раз. В другом уголке – исследователь, который смотрел на уникальный экспериментальный результат.
– Я вижу, что вы сидите на моём стуле, – сказал он. – Дышите. Отвечаете на вопросы. Я слышу вас. – Он помолчал. – И при этом…
В этот момент новый, тонкий монитор справа включился сам собой. На нём вспыхнула та же карточка, но с другой пометкой: СТАТУС ЖИЗНИ: НЕ ОПРЕДЕЛЁН. Время вверху экрана побежало назад на минуту, потом вперёд на две. Доктор бросил взгляд на него, потом снова на старый экран. Там слово «ПОГИБ» на секунду превратилось в «ПРОЖИВАЕТ», потом обратно.
– …и при этом, – повторил он уже тише, – учёт не знает, куда вас поставить.
Мартин почувствовал неожиданное облегчение – как будто кто-то вслух сформулировал то, что он сам боялся подумать: его существование – не только его проблема. Он – баг в чужой программе.