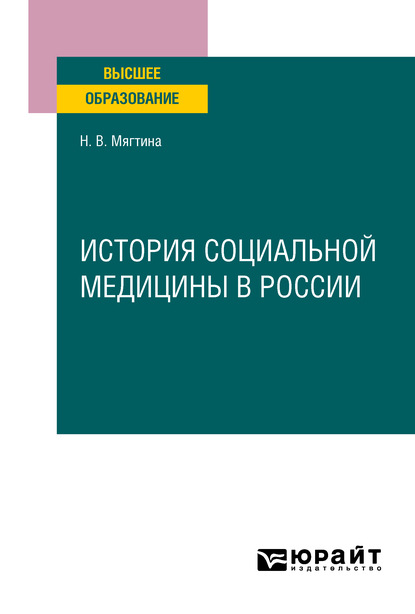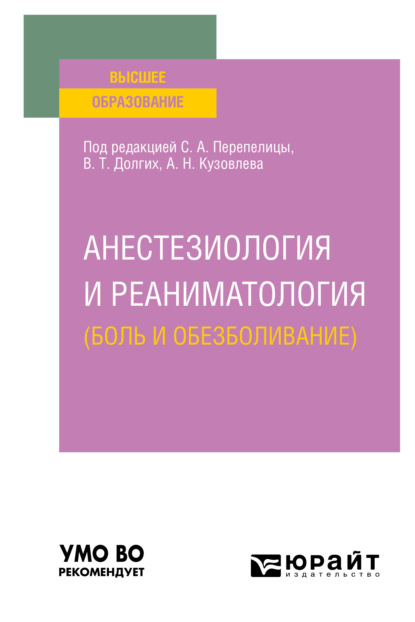Синхрон

- -
- 100%
- +
– Вы… собирались делать из меня интерфейс, – сказал он вслух, даже не задумываясь. Фраза просто всплыла, как давно записанная.
Доктор вздохнул.
– Не из вас, – устало ответил он. – Вместе с вами. – И добавил ещё тише: – Время всё равно искало кого-то. Мы лишь… предложили ему кандидатов.
Фраза «время искало» зацепилась за что-то внутри, как крючок. В какой-то ночи, много лет назад, он действительно слышал эти слова. Может быть, именно из этих уст. «Ты смотришь на время не как на линию, Мартин. Ты видишь узор. Таких мало. Из тебя получится идеальный интерфейс». Тогда это казалось комплиментом. Теперь – диагнозом.
– Сейчас не трогаем, – подвёл черту доктор, кивнув на считыватель. – Сначала посмотрим, что с вами, без… – он поискал подходящее слово и не нашёл, – …подключений.
Он открыл дверь. Внутри – узкая комната, две койки, шкаф, стол, маленькое окно под потолком, за которым виднелся только кусочек неба и обрезанная линия соседнего корпуса. Стены серые, не запоминающиеся. На стене, напротив кровати, по чьей-то прихоти приклеено глянцевое фото морского побережья: волны, горизонт, солнце, зависшее на уровне, где ещё не закат и уже не день. Фотография была немного перекошена, и горизонт на ней уходил в сторону, как стрелка времени, потерявшая север.
– Комната без часов, – отметил Мартин вслух, входя.
– Нам казалось, так безопаснее, – честно ответил доктор. – Люди, у которых время… – он неопределённо повёл рукой, – …ведёт себя странно, плохо реагируют на тикающие предметы.
Он подошёл к окну, поднял голову. В стекле отразился кусочек его лица, кусочек потолка, кусочек коридора за спиной. На долю секунды в этом крошечном зеркале мира возникла другая картинка: он, лежащий на этой же кровати, подключённый к проводам, в окружении людей в масках; мониторы, мигающие зелёным, и тот же фотообой с морем, только свежий, без пузырей на клею. Сцена мигнула и исчезла. Мартин не был уверен, видит ли он прошлое, будущее или один из тех вариантов, которые никогда не сложились.
– Сколько времени? – спросил он, стоя спиной к ним.
– По каким часам? – автоматически уточнил Кравчук, затем смутился. – Сейчас… – Он посмотрел на своё запястье. Там цифры были вполне конкретны. – По локальному – шестнадцать ноль семь.
– А по городскому ядру – пятница, три года назад, – пробормотал доктор. – Если верить отчётам. – Он махнул рукой. – Забудьте. Это не то, чем надо забивать голову в первый день… возвращения.
Слово «возвращение» прозвучало двусмысленно. Из небытия? Из проекта? Из другого времени? Из смерти? Он не уточнял. Любой вариант был одновременно верен и нет.
Инна посмотрела на его рубаху, на босые ноги, на следы от браслета на запястье.
– Я распоряжусь, чтобы вам принесли одежду, – сказала она, почти официально. – И пропуск. Временный. – «Временный» снова прозвучало как приговор. – Внутренний. – Она помедлила. – На город пока… – она качнула головой, – …рано.
Он кивнул. Внутри что-то коротко возразило: «Мне нужно на улицу. Мне нужно увидеть, что там». Но более громкий голос – осторожный, следовательский – сказал: «Сначала осмотрись здесь. Дом, в котором ты умер, имеет право на первый взгляд».
– Если что-то… – начал доктор и замолчал, не найдя формулировки для «если время снова начнёт вокруг вас вести себя не так». – Просто звоните. Или нажимайте кнопку, – добавил он, показав на старый, ещё аналоговый звонок у кровати. – Мы рядом.
Они вышли, оставив его одного. Дверь закрылась с тихим щелчком. В комнате остались горизонтальная поверхность, фотообой с кривым морем, окно в узкий кусочек неба – и он. Мартин сел на кровать. Матрас отозвался тихим вздохом, будто уже помнил чей-то вес. Он провёл ладонью по покрывалу. Ткань была шершавая, но не неприятная. Обычная. Живая.
В отражении оконного стекла он увидел себя сидящим – и тут же увидел чуть сдвинутую версию этой же сцены: он сидит, но в другой позе, с опущенной головой, с каплей крови на руке, которая сейчас чиста. В одном слое реальности он ещё не знает, что объявлен мёртвым. В другом – уже. В третьем – лежит, подключённый к системе, и всё это только ему снится. Между этими слоями – тонкая, почти невидимая пленка, которую время использует как зеркало.
Он опустил ноги на пол, ещё раз оглядел комнату. Без часов. Без календаря. Без указателей, где «до», где «после». Только он, горизонт на фото и узкий прямоугольник неба. В голове всплыло слово: «узел». Он усмехнулся сам себе.
– Узел, который забыли развязать, – сказал он в пустоту. – Или наоборот, завязали слишком туго.
Комната не ответила. Но где-то в глубине здания что-то коротко щёлкнуло, как переключатель, и по потолку пробежала лёгкая вибрация. Как если бы сеть, к которой он чувствовал себя подключённым даже без проводов, отметила: «Сигнал восстановлен. Объект… человек… узел… вернулся в систему».
Он какое-то время просто сидел, ничего не делая. Это «ничего» на самом деле состояло из множества мелких наблюдений: как тень от окна медленно ползёт по стене, хотя солнца он не видел; как на фотообое волна, застывшая навсегда, вдруг кажется на полтона ближе; как собственное дыхание то совпадает с шорохом вентиляции, то отстаёт от него.
Он лег, вытянулся на кровати, положил ладонь себе на грудь. Сердце билось ровно, скучно, как исправный метроном. Никто бы не догадался, что этот прибор уже три года числится сломанным.
«Хорошо бы уснуть», – подумал он. Просто провалиться в нормальный, человеческий сон, где время хотя бы делает вид, что подчиняется правилам. Глаза закрылись. Темнота под веками оказалась плотной, вязкой. В ней сразу всплыли лица – обрывками: мать, молодая и смеющаяся, потом – та же, с седыми корнями на висках и пустым взглядом, потом – чужая женщина с похожими руками, которой он никогда не встречал. В одном мире его мать умерла давно, в другом – лежала в палате, держась за остатки памяти; в третьем – ещё не успела состариться. Время, как всегда, не утруждало себя выбором одной версии.
Он перевернулся на бок, поджал ноги. Пружины тихо скрипнули – звук шёл сразу из двух мест: из-под него и из соседней, пока пустой кровати, будто там тоже кто-то ворочался. Он открыл глаза. Комната была та же. Только фотообой с морем чуть сместился: линия горизонта стала ровнее, но солнце оказалось выше. Мартин не был уверен, действительно ли это так или мозг решил подкорректировать картинку по своему вкусу.
Он сел, опустил ноги на пол, потянулся к тумбочке. Верхний ящик не был закрыт на ключ. Внутри – стандартный набор: пластиковый стакан, ещё один, сложенная пополам бумажная салфетка, старый, давно исчеркавшийся одноразовый блокнот и ручка. Блокнот был не из тех, на которых записывают, сколько раз дали таблетку; это был тот тип дешёвой полиграфии, который выдают на конференциях и забывают в гостиницах.
Он раскрыл его. Первые страницы – пустые. Дальше – несколько строк, написанных торопливым, нервным почерком. Чернила расплылись от пальцев или влажности, но некоторые слова читались: «сеть», «узел», «поток», «интерфейс». На одной странице – простая, почти детская схема: круг в центре, от него – линии к другим кружкам. Над центральным было написано: «Я?» – с вопросительным знаком. Рядом – стрелка и слово «Синхрон», зачёркнутое одним, потом вторым штрихом.
Он провёл пальцем по этому «Я?». Чернила были давно засохшими, но подушечка пальца всё равно ощутила лёгкую шероховатость, как шрам от старой надписи. Почерк показался ему знакомым – не настолько, чтобы сказать: «мой», но достаточно, чтобы внутренний голос шепнул: «Ты это уже видел. Или напишешь позже».
Он пролистал дальше. На последней странице крупно, по диагонали, было выведено: «Он ест время, но что делает с памятью?» Ниже – ответ, перечёркнутый так, что буквы угадывались только наполовину: «Хроно…» и ряд кривых. Он закрыл блокнот, как закрывают чужой дневник. Если это писал он сам – в другой версии жизни – тем более не хотелось подглядывать.
В нижнем ящике нашлось ещё кое-что: зелёный пластиковый браслет с датой трёхлетней давности и штрихкодом. На нём было написано только: «Субъект 01». Без имени. Он положил браслет рядом с тем, который снял с руки. Один: LISOV M, другой: 01. В сумме получалось оскорбительно просто.
Он поднялся, подошёл к двери. Ручка была такой же нажимной, как у входа в кабинет. Снаружи – глухо. Шаги иногда проходили по коридору, но создавалось впечатление, что шумы доходят до него с лагом, как если бы он находился в странной буферной зоне между двумя потоками времени. Ощущение было знакомое. Как в детстве, когда он лежал в комнате и слушал, как за стеной мать разговаривает по телефону, и иногда слова догоняли друг друга не в том порядке.
Он нашёл глазами кнопку вызова – круглая, с вытертым рисунком колокольчика. Протянул руку. Светодиод над кнопкой вспыхнул зелёным ещё до того, как он дотронулся. Он остановился. Палец застыл в воздухе. Свет моргнул ещё раз и погас. Будто система уже поняла его намерение и передумала реагировать.
– Не надо, – сказал он пустой комнате. – Я просто проверял.
Он всё-таки нажал, уже из принципа. На этот раз свет загорелся с небольшой задержкой. В коридоре что-то пискнуло. Через минуту (или пять – периоды стали ненадёжными) дверь чуть приоткрылась, и в щель заглянула та же медсестра, что привела его к доктору.
– Всё в порядке? – спросила она.
– Я хотел узнать… – он поискал подходящее слово. – Который сейчас… день?
Она посмотрела на него, потом на своё запястье. На часы. Он машинально тоже посмотрел. На её циферблате было двадцать пятое число. На невидимой панели над её головой – двадцать второе. Он видел обе цифры одновременно, как два наложенных слоя.
– Вторник, – сказала она после недолгой паузы. – По расписанию. – И, подумав, добавила: – После инцидента мы стараемся меньше смотреть на числа. Они… – она поморщилась, – …нервируют.
– Я мешаю? – спросил он, вдруг ощущая себя источником не только аномалий, но и бытового неудобства.
– Пока нет, – честно ответила она. – Если будете… – она поискала эвфемизм и не нашла, – …сбоить, позовите. – И закрыла дверь чуть быстрее, чем следовало, словно боялась, что из щели вместе с его голосом просочится что-то ещё.
Он остался один. Опять. Время в комнате поведало себя странно: то растягивалось, то сжималось. Пять минут могли ощущаться часом, час – минутой. Он попытался вспомнить, как пережидал такие периоды раньше. В старом отделе у него был метод: разглядывать стены, искать на них несуществующие узоры, пока мозг не успокаивался. Здесь узор был задан явно: сеть трещин в краске, пузыри клея под фотообоем, рисунок светотени от решётки на окне. Все они складывались в одну и ту же схему – узлы и линии. Сеть.
Он поймал себя на том, что мысленно соединяет точки: угол окна с пятном на потолке, затем – с кнопкой вызова, затем – с блокнотом в тумбочке. Получался треугольник. Если добавить считыватель «Синхрона» за дверью, – четырёхугольник. В центре, как ни крути, оказывался он.
Он поднялся и зашагал по комнате – от стены к стене. Пять шагов туда, пять обратно. На пятом шаге каждый раз что-то странно происходило: пол либо отзывался чуть глухим звуком, либо наоборот – звенел так, будто под линолеумом пустота. В одной из версий этих шагов он спотыкался, в другой – нет. Он остановился, посмотрел на свои ноги, вспомнил, как ходил по коридорам подземного уровня «Хронос», слушая, как под подошвой гудит энергия.
Он пошёл в маленький санузел, прячущийся за боковой дверцей. Там было зеркало. Наконец-то. Настоящее, заслуженное зеркало, во весь узкий простенок над раковиной. Лампочка сверху мигнула, приветствуя его появления, и загорелась. В отражении стоял мужчина в больничной рубахе, бледный, с тонкой щетиной и глазами, в которых усталость пыталась победить удивление. Ничего необычного. Почти.
Он подался ближе. Уперся руками по обе стороны раковины. Взгляд в упор. На секунду мир стабилизировался: он и отражение дышали в такт, моргали одновременно. Потом лампа сверху дёрнулась. Вспыхнула ярче, затем тусклее. И в этой нерешительности света отражение вдруг чуть-чуть опередило его. Сначала приподнялась его правая бровь – в стекле. Потом – в реальности. Отражённый уголок губ дрогнул на долю секунды раньше, чем он почувствовал это движение на своём лице. Мартин застыл, проверяя, шутка ли это восприятия. Шуткой не пахло.
– Ну, здравствуй, – тихо сказал он, не совсем понимая, к кому обращается.
В зеркале губы шевельнулись синхронно. Но голос, который отозвался, был не его. Или не только его.
«Ты вернулся не туда», – сказал этот голос у него в голове. Он не был записан. Не звучал в воздухе. Он был как субтитр к отражению, который слышишь глазами.
Мартин не вздрогнул. Не потому что был смелым, а потому что организм уже достиг такого уровня усталости, когда рефлексы притупляются. Он просто посмотрел внимательнее. Лицо в зеркале было всё тем же. Только в самой глубине зрачков, там, где обычно прячется личное, мелькнул какой-то другой свет. Как вспышка в тоннеле.
«Это не ты», – сказал другой голос. Более приземлённый, похожий на его собственный. – «Это просто мозг, который решил, что ему скучно».
Он закрыл глаза. Открыл. Отражение опять стало послушным. Лампа гудела, кран чуть подтекал – на дне раковины набралось три капли. Одна, вторая, третья. Они дрожали, отражая кусочек его подбородка. В каждой он был чуть разным.
– Хватит, – сказал он себе, отвернувшись.
На выходе из санузла он заметил, что фотообой изменился ещё раз. Теперь на горизонте было два солнца. Одно – чуть выше, другое – ниже, краснее. Он прищурился. Подошёл ближе. Провёл пальцем. Плёнка шуршала, изображение не двигалось. Возможно, так и было нарисовано изначально. Возможно – нет.
Он вернулся к кровати, лёг, не накрываясь. На голую кожу лёг воздух – прохладный, с примесью того запаха, который он уже научился узнавать в подобных местах: антисептик, человеческий пот, бумаги, старый пластик. И ещё – что-то металлическое, как от слишком долго работавшего двигателя. Сердце здания, где-то глубоко внутри, продолжало крутить свои шестерёнки, несмотря на то, что три года назад ему официально поставили крест.
«Я в мёртвом сердце, которое ещё бьётся», – подумал он. «И сам – по документам – мёртвое сердце, которое тоже ещё бьётся». Они с этим местом были похожи больше, чем хотелось.
Он закрыл глаза. На этот раз тьма была менее вязкой. В ней не сразу полезли лица. Сначала – линии. Белые на чёрном. Схемы. Нервная система города, метро, телефонные провода, волокна оптики, по которым бегут чужие голоса. Всё это сворачивалось в один узел. В центре узла – крошечная точка. Кто-то писал возле неё: «Субъект 01». Кто-то – «Лисов». Кто-то – «Интерфейс». Кто-то – «Ошибка».
Он не знал, сколько пролежал так – минуту, час или три года. Время в новой жизни не спешило представляться. Где-то вдалеке хлопнула дверь, потом ещё одна. Кто-то засмеялся. Кто-то поругался вполголоса. Здание жило привычной жизнью учреждения, где очереди, отчёты и усталые люди. Всё это накладывалось на другой слой – тот, где в его подвалах стояли машины, жующие чужие секунды.
Он почти провалился в сон, когда за окном вдруг что-то сверкнуло. Не молния – небо над узкой щелью было чистым, без грозы. Скорее отражение фар или рекламы. Он приподнялся на локте. Подошёл к окну. Прислонился лбом к холодному стеклу.
Снаружи – двор. Асфальт, мусорные баки, металлическая лестница, ведущая на аварийный выход. Над дальней стеной – обрезанный кусок неоновой вывески. Только последние буквы: «…NOS». Оно мигало. Иногда – «…NO», иногда – «…OS», иногда – «…N…». В одной версии вспышки он ясно прочёл знакомое: «HroNos». В другой – «hONos». В третьей – «Нос». Собачий, человеческий – неважно. Всем этим мира укороченных надписей был одинаково нелеп.
Мартин прижал ладонь к стеклу. В отражении на фоне вывески увидел своё лицо. На долю секунды оно наложилось на другое: более молодое, с другими морщинами, в другой одежде. Другой Мартин смотрел наружу, но не в этот двор, а в другой: там вместо баков были машины, вместо лестницы – вход в метро. На его лице был тот же взгляд, что сейчас у него: смесь усталости и профессионального интереса. Потом картинка сдвинулась, как слайд, и остался только он – нынешний. Возвращённый. Числящийся мёртвым.
Он отнял руку от стекла. На ладони осталось лёгкое ощущение прохлады. На стекле – след. На мгновение след отпечатка превратился в нечто похожее на диаграмму: пять точек, соединённых линиями. Узел. Он провёл по нему пальцем, стирая, и подумал, что, возможно, вся его жизнь теперь будет состоять из попыток стереть собственные отпечатки из тех мест, где по документам его быть не должно.
В комнате снова стало темно. Он вернулся к кровати. Лёг, повернулся лицом к стене с фотообоем. Волна там по-прежнему не двигалась. Но он точно знал, что где-то, в другой версии этого же момента, вода уже успела дойти до берега и отхлынуть. Просто здесь ей пока не дали команды.
– Завтра, – сказал он шёпотом. – Завтра я посмотрю, как меня помнит город.
Слово «завтра» прозвучало как вызов. «Вчера – то есть завтра», – поправил его внутренний голос, и он усмехнулся, не открывая глаз. Смех был почти беззвучным. Сердце здания ответило ему глухим эхом.
Ночь пришла не сразу. Сначала просто сгущался серый. Свет в узком прямоугольнике окна стал вязким, как старый клей, и перестал отличать день от вечера. Потом где-то в глубине здания поутихли голоса, хлопки дверей поредели, шаги стали редкими и осторожными. Сердце корпуса сбавило обороты, но не замолчало. Вентиляция шептала одно и то же, как мантру.
Он пытался считать вдохи. Это был старый трюк, ещё из той жизни: сосчитать до ста – и не заметить, как наступил сон. Вдох – раз. Выдох – два. На счёте «двадцать три» звук вентиляции вдруг отстал на одну единицу, начав шипеть «не в такт». На «сорок восемь» к нему добавился другой шум, как будто где-то тонко пискнула модемная линия из девяностых. На «шестьдесят один» он поймал себя на том, что считает вовсе не вдохи, а годы. В каком-то из них он уже должен был быть мёртв.
Он всё-таки уснул. Или провалился в то, что можно назвать сном, только если сильно не вникать в определения.
Сначала был коридор – длинный, без окон. Лампы под потолком горели одними и теми же пятнами, но свет от них шёл в разные стороны, как вода из сломанного крана. Он шёл по этому коридору босиком, слыша, как под ногами отзывается металл. Стены были гладкими, но изнутри просвечивались схемы: тонкие линии, узлы, цифры, бегущие в обе стороны одновременно. На поворотах стояли двери со стеклянными вставками. В каждой – он. Где-то больничный, в рубахе. Где-то – в пиджаке, с папкой. Где-то – в комбинезоне технического персонала. Все эти он шли по своим коридорам, каждый – в свою сторону. Иногда взгляды встречались через стекло. Никто никому не помогал.
В конце коридора – зал. Большой, круглый. Там стояла машина. Сердце «Хронос». Он узнавал её сразу: массив цилиндров, кольца проводов, окошки мониторов, в которых дергались графики. В центре – что-то, что не поддавалось определению. Свет, связанный в узел. Врач говорил тогда: «Это интерфейс, Мартин. Не бойтесь, вы не один». В другой версии этого же момента тот же врач говорил: «Вы станете первым узлом. Время через вас посмотрит на себя».
Он видел, как к машине ведут кресло. В кресле сидит человек. Иногда – он сам. Иногда – кто-то другой, похожий, но не до конца. Лицо исчезает в вспышке – и вместо него остаётся пустое место, в которое впадает свет. В зале начинают пищать приборы, бегут люди, кто-то кричит «обрубите канал», кто-то – «держите». Голоса слоятся. В одной версии они успевают, в другой – нет.
Потом свет становится слишком ярким. Всё остальное сгорает. Остаётся только чувство, что тебя разложили на сигналы и растащили по сети. По нервам города, по кабелям, по невидимым каналам. Ты есть в каждой камере, где мигает индикатор. В каждом телефоне, когда кто-то смотрит на чёрный экран и видит там своё усталое лицо. В каждой витрине, отражающей чужую спешку. Ты – везде. Но нигде не полностью. Всё остальное – шум.
Он проснулся с ощущением, что до сих пор светится изнутри. Как лампочка, которую только что выкрутили и положили остывать. Веко дёрнулось. Комната вернулась – сначала неуверенно, как призрак: потолок, пятно на нём, фотообой, окно. Потом – плотнее. Где-то в коридоре громко хлопнули чем-то металлическим. За стеной зашаркали шаги.
Он не сразу понял, утро это или всё ещё ночь. Свет в окне был таким, каким бывает поздней осенью – когда день не успевает стать днём. Он потянулся к тумбочке за блокнотом, пролистал до той страницы, где чужой почерк выводил «Я?» в кружке. На миг ему показалось, что знак вопроса превратился в две точки, как двоеточие. Не вопрос, а начало фразы.
В дверь постучали. Осторожно, как стучатся в комнату, где может быть либо больной, либо что-то, с чем не уверены, как говорить.
– Войдите, – сказал он.
Зашла медсестра. Теперь на ней была другая форма – более светлая, с зелёной полосой по подолу. На бейджике – та же фамилия, но первая буква имени сменилась: была «О», стала «А», как будто за ночь её переписали.
– Доброе… – она взглянула на часы, задумалась, – …утро, – выбрала в итоге нейтральное. – Как вы?
Он прислушался к себе. Сон оставил привкус металла во рту.
– Жив, – ответил он. – Кажется.
Она улыбнулась уголком губ – уставшей, не обидной улыбкой.
– Это уже больше, чем было вчера, – сказала она. – Формально.
В руках у неё был свёрток: аккуратно сложенные джинсы, тёмная футболка, свитер, кроссовки. Всё – чуть поношенное, но чистое.
– Нашли на складе, – объяснила она. – Одежда для… – она поискала не обидное слово, – …испытуемых. Иногда они уходят, забыв забрать своё. Иногда – не успевают. – Она положила свёрток на стул. – На ваш размер. Почти.
Он провёл пальцами по ткани. Джинсы на ощупь были знакомыми. В заднем кармане нащупалась тонкая бумага. Он вытянул её. Складчатый прямоугольник, чек или билет. На нём – размазанные чернила, но разглядеть можно было: логотип метрополитена, станция «Площадь Часов», дата. Дата менялась в его руках, как в тех печатях, что он уже видел. 12.04.2022. 12.04.2023. 12.04.2025. Он моргнул. Бумага побледнела, цифры съехали, превратившись в бессмысленный ряд.
– Это было в кармане? – спросил он.
Медсестра пожала плечами.
– Я не смотрела, – сказала она. – Мы не вскрываем чужие карманы. Официально. – И, заметив, как он сжал листок, добавила: – Если хотите, можете выбросить. Здесь… – она оглядела комнату, – …много вещей с неправильными датами.
Он сжал бумагу в кулак, но не выбросил. Запихнул обратно в карман. Пусть будет. Как маркер. Как напоминание, что даже чужая одежда когда-то была чьей-то линией жизни.
– Доктор просил, чтобы вы после завтрака зашли к нему, – сказала медсестра. – Он… говорил что-то про первичный осмотр и… пропуск. – Она чуть усмехнулась. – Вас надо оформить. Хотя бы как временную аномалию.
Словосочетание «оформить аномалию» показалось ему точным. Он кивнул.
– Я приду, – сказал он.
Она ушла. Дверь закрылась. Он одевался медленно, словно примеряя не только ткань, но и роль. Джинсы сидели так, как будто уже знали его движения; футболка была чуть свободна, свитер чесался на шее. В зеркало над раковиной он увидел человека, который мог бы быть кем угодно: обычным сотрудником, посетителем, случайным прохожим. Только глаза выдавали – то ли страх, то ли знание лишнего.
В отражении, как всегда, было чуть больше, чем в реальности. Когда он завязывал шнурки, в зеркале он уже стоял у двери. Когда он расправлял свитер, там он уже выходил в коридор. Отставание или опережение? Он не стал спорить с физикой.
Он вышел. Коридор встретил его тем же светом, но людьми уже было больше. Кто-то вёз тележку с чистым бельём, кто-то нес папки, кто-то – стаканчик с кофе. Разговоры обрывались, когда он проходил мимо, потом невольно возобновлялись. В одних интонациях звучало любопытство: «Это тот самый? Вернулся?» В других – напротив: раздражение, как на ошибку, которая портит ровный отчёт.
У перекрёстка коридоров висело электронное табло: «Сегодня: вторник. Дата: 12.04.202…» Последние цифры так и не договаривались. Ниже – расписание смен, приёма, процедур. В одной колонке – «2022», в другой – «2025». Внизу кто-то чёрной ручкой приписал: «Живём между». Надпись была наполовину стёрта, но всё ещё читалась.
Он свернул к кабинету доктора. Дверь была приоткрыта. Внутри – голоса. Он остановился, не из желания подслушивать, а потому что слово «Лисов» само зацепило слух.
– …я же вам говорю, Семён Викторович, – говорил чей-то мужской голос, не Кравчука, другой, более властный, – мы не можем держать у себя человека, который по реестру три года как погиб. Вы понимаете, что это такое?
– Я прекрасно понимаю, что это такое, – устало ответил Малышев. – Я видел его тело. – Пауза. – И вижу его сейчас. Одновременно.