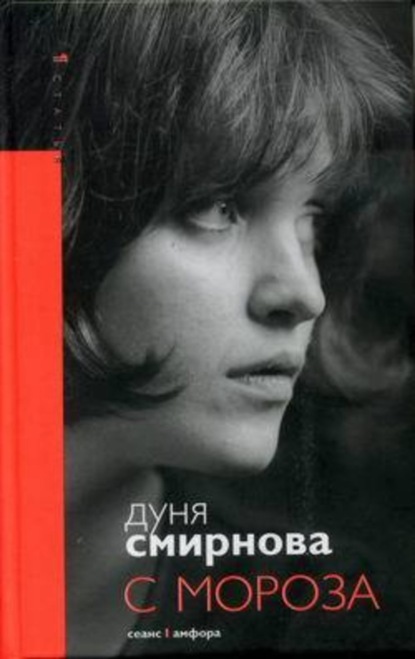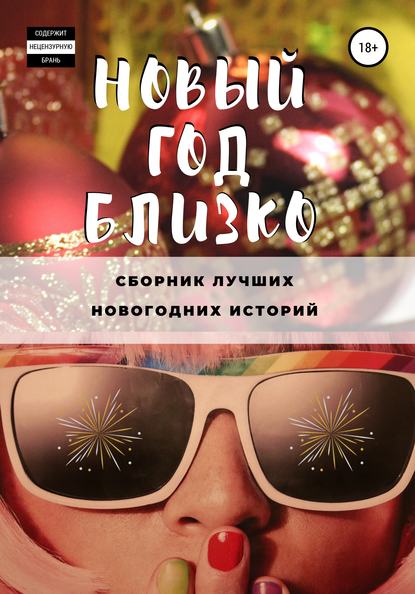Синхрон

- -
- 100%
- +
– Это бред, – пробормотал старший. – Так не бывает.
– Так уже, – невнятно сказал младший. – А ты… – он вдруг посмотрел вокруг, как будто только сейчас осознал, что происходит. Взгляд его скользнул по Мартину, задержался. – Ты это видел? – спросил он не у своего двойника, а у него.
Мартин поймал этот взгляд и на секунду ощутил странное – как если бы в сети, к которой он принадлежит, внезапно замкнули две линии с одинаковым адресом. Шорох, перегрузка.
– Да, – сказал он. – Вижу.
Старший тоже посмотрел на него. В его глазах мелькнуло: «Значит, я не сумасшедший». Сразу следом —: «А если он сумасшедший вместе со мной?»
– Вы… – он замялся, выбирая форму обращения. – Вы кто?
Ответ «следователь по временным аномалиям» прозвучал бы сейчас как издёвка. «Мертвец из новостей» – слишком много. Он выбрал самое простое.
– Прохожий, – сказал Мартин. – Тоже… – он чуть усмехнулся, – брак учёта.
Фраза попала в цель. Старший коротко хохотнул – нервно, на вдохе.
– Ага, – сказал он. – У меня, говорят, тоже. Сначала – одна жизнь, потом – другая. – В голосе пробилась злость. – В одной я не опоздал и успел ребёнка забрать из садика. В другой – да. И теперь мне три года объясняют, что «по документам всё правильно». – Он ткнул пальцем себе в грудь. – А я каждый день помню обе.
Младший молчал. У него, возможно, этот выбор ещё впереди. Или уже позади – в другой версии.
Кто-то на скамейке рядом нервно спросил:
– Вы… близнецы, что ли?
– Ещё хуже, – горько сказал старший. – Мы – варианты.
Это слово рассыпалось, как стекло. Варианты. Жизней. Решений. У него и у города.
Младший вдруг резко развернулся.
– Я ухожу, – сказал он. – Я здесь не должен… – он запутался в спряжении, – …задерживаться.
Слово «задерживаться» прозвучало особенно странно: как будто речь шла не о нём, а о времени, которое перетекло через эту точку.
Он пошёл прочь – быстро, почти бегом, лавируя между скамейками. Несколько человек обернулись ему вслед. Старший сделал шаг, будто хотел окликнуть, но не решился. Только выкрикнул ему в спину:
– Скажи хотя бы… – голос дрогнул. – Я… всё равно…?
Младший на секунду замедлил шаг. Не оборачиваясь, сказал:
– Ты – да. – И после паузы: – Это город… не всё равно.
И исчез за кустами, за выходом из сквера, за рекламным щитом. Просто ушёл. Не растворился, не вспыхнул – просто вышел с кадра.
Старший остался стоять. Кофе в его руках давно остыл. Ветер шевелил полы его пальто. Люди вокруг постепенно расползались, решив, что сцена закончена или была частью какого-то экспериментального театра. Подросток с наушниками так и не успел нажать «запись»: телефон завис в руке, экран моргал. На нём как раз появилось сообщение: «Ваша система времени была успешно скорректирована». Он стукнул по корпусу, оживляя.
Старуха с собакой пробормотала: «С ума все посходили», – и потащила Ваську дальше. Старик с крошками пригляделся к пустой дорожке, где только что был второй мужчина, и медленно перекрестился.
Старший повернулся к Мартину. Взгляд его был выжженным.
– Вы это… точно видели? – спросил он.
– Да, – ответил Мартин. – И, к сожалению, не первый раз. – В какой-то из жизней.
Он не стал уточнять, в какой. Не стал рассказывать про собственные отражения, про лифт, где рядом с ним ехал он же, только моложе, в другой рубашке. Про комнату в «Хронос», где камера писала две версии одного и того же события. Пусть у этого мужчины будет своя приватная травма, не без очереди.
– Значит… – тот глубоко вдохнул. – Значит, я не просто… – он поморщился, – …сошёл с ума из-за ток-шоу.
– Нет, – сказал Мартин. – Сумасшествие – роскошь тех, кто живёт в одном времени. У нас… – он чуть развёл руками, показывая на сквер, на город, – …другой диагноз.
Мужчина хрипло хмыкнул. Посмотрел на часы. Там наконец стабилизировались: 15:35, год – 2025. Стрелки не дергались.
– А это… – он кивнул в сторону выхода, куда ушёл его вариант, – …что было?
Мартин посмотрел на арт-объект из труб – сеть, узлы, пересечения. На сухой фонтан, на радиоточку, где всё ещё обсуждали его, Лисова, как теоретическую проблему. На свет в окнах домов вокруг: в одних кто-то готовил ужин, в других – балансировал бюджеты, в третьих – писал отчёты о «локальных временных смещениях».
– Это, – сказал он наконец, – город вспомнил одну из своих версий. И не смог спрятать.
Мужчина кивнул, будто принял этот ответ как максимально честный из возможных. Выкинул в урну остывший кофе, ещё раз бросил взгляд в сторону, где исчез его младший двойник, и пошёл прочь. Шёл он чуть иначе, чем входил: осторожнее. Как человек, который только что увидел в себе нечто, о чём не просил.
Мартин остался на скамейке, чувствуя, как вокруг сквера дрожит невидимая сеть. Провода над проспектом, камеры на углах, телефоны в карманах. Всё это запомнило происходящее. Зафиксировало. Сохранит. Добавит к архиву: «Случай №…: субъект встретил собственную версию, несовпадающую по возрасту и биографии».
Город пополнил своё хранилище конфликтующих воспоминаний. Ему нравилось хранить такие вещи. Ему нравилось пересматривать их по ночам.
Из сквера он вышел не сразу. Сначала просто встал, опёршись ладонями о край скамейки, подождал, пока воздух перестанет звенеть от только что увиденного. Мужчина с двумя жизнями уже растворился в потоке, подросток наконец добил телефон и включил музыку, радио переключилось на рекламу. Город сделал вид, что ничего особенного не произошло. Город всегда делает вид.
Он посмотрел на переплетение труб-«арт-объекта» – сеть, узлы, пересечения. Внутри кольца металла было пусто. Внутри него самого – тоже. «Каждый человек – узел», – всплыло из лекций чьих-то презентаций. Хорошо. Узел. А если к одному узлу подвести сразу два набора проводов? Система либо сгорает, либо начинает искрить. Он чувствовал, как искрит.
Если город – сеть, значит, у него должно быть сердце. Не только «Хронос». Что-то повседневнее. То, что гоняет людей по своим веткам, как кровь по артериям. Метро.
Мысль была проста и потому настораживала. В другой жизни он бы записал её в блокнот как рабочую гипотезу. В этой – просто пошёл за ней, как идут за запахом.
Вход в метро был всё тем же. Стеклянный павильон, лестница вниз, надпись с названием станции, от которого веяло чем-то слишком знакомым: «Площадь Часов». Под вывеской – ещё одна, электронная: «В случае временных сбоев сохраняйте спокойствие и дождитесь инструкций персонала». Края буквы «сбоев» чуть дрожали, как если бы бегущая строка сама нервничала.
Он остановился перед стеклянными дверями. В отражении – его лицо, уставшее, незаметное. За стеклом – другой мир: толпа на лестнице, зелёные огни турникетов, белёсый свет ламп. На долю секунды два слоя сошлись так, что казалось, он уже там, внутри. Потом стекло поправило ошибку.
Он вошёл. В нос ударил знакомый запах: пыль, тормозные колодки, сладкая нота дешёвых булочек из киоска, пот, чуть плесени. Запах города из нутра, без глянца. Ступени под ногами были стерты ровно так, как он помнил. Только возле входа теперь висел новый плакат с логотипом городских служб и крупной надписью: «Ваше время под защитой». На картинке – улыбающаяся девушка в форме и силуэт поезда, уходящего в туннель, как минутная стрелка.
Перед турникетами – автоматы с билетами. Тот же металлопластик, те же синие кнопки. Но над ними – по две строки: «Покупка» и «Синхронизация». Вторая строка светилась чуть тусклее, как старая шрамированная кожа.
Он встал к ближайшему автомату. На экране – приветствие: «Добро пожаловать в городской транспорт. Пожалуйста, прикоснитесь». Он коснулся. Электронная ладонь встретила его, как сканер: короткое жужжание, вспышка. Снизу под полоской загорелось: «Идет проверка статуса». Статуса кого? Билета? Человека?
Секунду ничего не происходило. Затем появилось окно: «Рекомендовано восстановление учётной записи. Нажмите для уточнения». Две кнопки: «Согласен» и «Позже». «Позже» выглядело обиженным.
Он ткнул в «Позже». На экране мелькнуло: «Статус: неактуален», потом сменилось обычным меню: «Разовый проход», «Пополнение карты», «Инфо». Как будто система одёрнули: не лезь глубже, чем положено.
– Помочь? – раздалось возле плеча.
Молодой кассир в синей жилетке, с бейджиком и усталым доброжелательством, смотрел на него поверх стекла соседней кабинки. На бейджике значилось: «Служба синхронизации проезда».
– Всё в порядке, – ответил Мартин. – Просто… давно не пользовался.
– Система ругается? – спросил тот, кивнув на экран. – Сейчас часто такое. После ребаланса. – Он произнёс это слово так, как будто говорил о перерасчёте квартплаты, а не о том, как всему городу пересчитали годы.
– Говорит, что учёт неактуален, – сказал Мартин.
– А, это ерунда, – отмахнулся кассир. – У нас полгорода «неактуальны». – И, чуть понизив голос, добавил: – Там, наверху, у них всё ещё «двадцать третий», а у нас тут – по расписанию. – Он усмехнулся. – Главное – наличные не умерли. Хотите жетон?
Слово «умерли» прозвучало слишком легко. Мартин кивнул.
– Один, – сказал он.
Кассир ловко щёлкнул кнопками, вытащил маленький кругляш. Глянцевая поверхность жетона на мгновение отразила лицо Мартина. И ещё – поверх него – другое, молодое, из другой смены, из другого года. Он моргнул – остался только жетон. Над стеклом кабинки висел маленький монитор с подсказками для персонала. Там как раз всплыло окно: «Запрос: LISOV M.V. Статус: DECEASED / ACTIVE. Требуется вмешательство оператора». Кассир взглянул, хмыкнул.
– Опять эта фигня, – пробормотал он. – Не переживайте, – уже вслух, – у нас тут свои правила. Пока человек до турникета дошёл – значит жив. Остальное пусть они там в своих ядрах… – он неопределённо махнул рукой вверх. – Приятной поездки. И… – он задержал взгляд на его лице чуть дольше, чем на обычном клиенте. – Вы… мне кого-то напоминаете.
– Такое часто говорят, – ответил Мартин.
Он взял жетон, прошёл к турникету. Металл, пластик, зелёная стрелка. Бросок жетона в «пасть», короткий писк. «Проходите». Турникет на секунду словно задумался, слегка задержал вращение, потом всё-таки пустил. За спиной тихо пиликнуло предупреждение: «Несоответствие данных учёта…» – но голос тут же оборвался, как будто кто-то нажал на mute.
Эскалатор вёл вниз, под землю, в тот слой города, где нет окон, но зато много отражений. Металлические боковины блестели, как вылизанные. В них он видел себя – и людей позади, и людей впереди. Лента ступеней тащила его, как конвейер. Стены иногда украшали плакаты: «Позаботьтесь о своём времени – проверьте график сна». Логотипы «Хронос» мелькали то там, то здесь, как старые метки на теле города.
На середине спуска он вдруг ясно увидел сцену, которую не помнил, но знал. Он едет по этому же эскалатору, только в другой одежде: в чёрной куртке, с рюкзаком за плечами. В руке – папка с грифом. Взгляд – сосредоточенный. Это он до «Синхрона», ещё просто следователь. В другом отражении – он же, только в форме с логотипом «Хронос», с карточкой пропуска на груди. Взгляд – уже чуть другой. Эта версия в реальности никогда не состоялась. Или состоялась в одной из веток, куда он не пошёл.
Отражения наслаивались, как кадры при двойной экспозиции. Он стоял между ними – нынешний, с чужим свитером, чужими джинсами и собственной смертью в документах.
Объявление над головой прозвучало с привычной, почти уютной интонацией диктора: «Осторожно, двери закрываются…» – и вдруг к ней примешалась другая дорожка: «…вчерашний день повторяется…» – шум, щелчок, запор. «Следующая станция…» – диктор на секунду запнулся, перебрал варианты: «Площадь Часов… Площадь… Часы…», потом снова вернулся к правильному. Несколько человек моргнули, кто-то улыбнулся, кто-то поморщился. Никто не удивился всерьёз.
Внизу, на платформе, было многолюдно. Потолок низкий, свет белый, немилосердный. Стены украшали панно: муралы с городскими сюжетами. На одном – молодой мужчина в защитном костюме выводит за руку ребёнка из дымящегося тоннеля; на другом – огромные часы, стрелки которых завязываются в узел. Подписи к панно были новыми: «Герои стабильности», «Мы пережили сбой». Под первым кто-то ручкой дописал: «А он?», обведя фигурку в костюме.
Он заметил – конечно заметил – стенд с информацией о «безопасности времени». Там, где раньше рассказывали про пожарные выходы, теперь висели инструкции: «Если вы почувствовали, что один и тот же момент повторяется более двух раз подряд – отойдите от края платформы и дождитесь сотрудника». Ниже – телефон горячей линии. Внизу мелко: «Не относится к состояниям, вызванным употреблением алкоголя». Кто-то шариковой ручкой дописал: «…и просмотром политических ток-шоу».
Ближе к середине платформы стоял большой экран. На нём без звука крутился короткий ролик: журналистка на фоне схемы метро. Нижняя строка: «Городская сеть после “Синхрона”: интервью с экспертом». В одном кадре за её спиной появилось его лицо – фотография из внутреннего архива: неофициальная, где он смотрит в сторону. Под фотографией – подпись: «Мартин Лисов, бывший следователь по временным аномалиям, фигурант дела о нарушении протоколов безопасности». Через секунду подпись сменилась: «…также отмечен благодарностью за вклад в ликвидацию последствий». Режиссёр монтажа, возможно, считал это честным балансом.
Рядом с экраном стояла девушка лет двадцати, в наушниках, с рюкзаком. Она подняла глаза, увидела его лицо на экране, потом – его самого, стоящего неподалёку. Сняла один наушник.
– Похоже, вы в эфире, – сказала она, не то шутя, не то проверяя.
Он посмотрел на экран, потом на неё.
– Надеюсь, с задержкой, – отозвался он.
Она улыбнулась краешком губ. В её взгляде не было ни страха, ни ненависти, ни особой благодарности. Скорее – интерес.
– Вы правда… он? – спросила она после короткой паузы. – Тот самый?
Он уже устал от этого «тот самый», но кивнул. Наверное.
– Круто, – неожиданно сказала она. – Я про вас курсовую писала. – И, чуть смутившись, добавила: – Три варианта, кстати. В одной вы герой. В другой – преступник. В третьей – жертва системы. Препод сказал, что «надо охватить все дискурсы».
– И какой вам больше понравился? – спросил он.
Она задумалась. Взгляд её скользнул по его лицу, поймав в нём что-то живое, не архивное.
– Тот, в котором вы человек, – сказала она. – Потому что в остальных вы – концепт. – Она пожала плечами. – Концепты не стареют, а вы… – она осеклась, поняв, что сказала, и покраснела. – В смысле…
– В смысле, старею, – спокойно закончил он. – Это хорошо. Значит, я всё ещё здесь.
«Пока», – добавил внутренний голос.
Поезд подкатил, гулко, с ветром. Двери с шипением открылись. Поток людей рванулся к ним. Девушка подняла глаза на табло над дверями. Там бегущая строка с информацией о маршруте на секунду сбилась: «Маршрут: Линия 1. Время в пути: 17 минут / 3 года». Она хмыкнула.
– Это, – сказала она, махнув рукой в сторону табло, – всегда так было? Или это… – она поискала слово, – …после?
– После, – ответил он. – До – было скучнее.
– До… – она повторила, как пробуя слово на вкус. – Я «до» не помню. Мне удобно, что можно свалить всё на «сбой». – И, после короткой паузы, вдруг добавила: – Если что… спасибо. – И, не давая ему времени отреагировать, нырнула в вагон, растворилась среди людей.
Он остался снаружи. Двери закрылись. «Осторожно, двери закрываются», – произнёс голос, в котором смешались старые и новые записи, две разных дикторши. Поезд дёрнулся, поехал. Мартин автоматически посмотрел через окна на противоположную платформу.
Там, в стекле, отразился он. Сначала он решил, что это просто эффект: двойное стекло, металлические колонны. Но отражение было… не совсем тем. Там он был в другой одежде. Чёрный плащ, поднятый воротник, более короткая стрижка. Стоял ближе к краю платформы, чуть наклонившись вперёд, как если бы собирался шагнуть. В глазах – решимость, которой у него сейчас не было.
Отражённый он поднял голову, словно почувствовав взгляд, и посмотрел прямо на него – через поезд, через людей, через стекло. На долю секунды два Мартина – этот и тот – встретились глазами. Поезд понёсся, разбивая контакт в полосы. Когда следующий вагон скользнул мимо, отражение уже было другим: обычная толпа, чужие лица.
Он остался стоять, пока поезд не исчез в туннеле. Тьма там показалась плотной, как дверь в архив. В какой-то жизни он прошёл туда, вслед за тем другим, в плаще. В этой – остался на платформе.
На стене над выходом висела схема линии. Классическая: цветная полоска, кружочки станций, стрелочки. Но в какой-то момент полоска дрогнула. На миг схема стала другой: добавились ответвления, несколько станций поменяли названия, возле трёх кружков загорелись красные «узлы» – как на диаграмме в кабинете Малышева. Один из узлов странно совпадал с названием станции, на которой он стоял. «Площадь Часов» мигнула, превратившись в «Узел 01», потом снова вернулась к норме.
Он поднял руку, коснулся стекла под схемой. Пластик был тёплым, как кожа. На мгновение ему показалось, что под пальцами пульсирует не лампочка, а живая сеть. Провода под землёй, ток в рельсах, потоки людей, их расписания, опоздания, встречи – всё это текло, как кровь. «Хронофаг» – всплыло слово и ощущение одновременно. Не чудовище. Механизм памяти. То, что ест не секунды, а способы о них вспоминать.
Он отдёрнул руку.
С другой стороны платформы мимо прошли двое – мужчина и женщина, оживлённо споря.
– Я тебе говорю, – говорил мужчина, – он устроил это специально. Чтобы получить власть над временем. Так и пишут.
– А я читала, – возражала женщина, – что он наоборот пытался остановить. И что без него вообще бы нас откатило, как тот поезд, назад. – Она посмотрела на схему. – В восемнадцатый ещё какой-нибудь.
– Ну да, – фыркнул тот. – У каждого свои сказки.
– Может, его вообще не было, – вмешалась третья, худенькая девушка с рюкзаком, которая до этого молча шла рядом. – Типа коллективный образ. Много людей, один Лисов. – Она пожала плечами. – Так проще.
Они прошли мимо него, не узнав. Или сделав вид.
«Может, его вообще не было». Город, похоже, готов был принять и эту версию. Помимо «героя» и «террориста» – ещё один вариант: «фантом». Мартин вдруг очень ясно почувствовал, как у него из рук выскальзывает право на собственную историю. Он был интерфейсом даже в этом: через него соединялись чужие рассказы, отчёты, статьи, личные трагедии и удобные оправдания. Он стал местом, где сеть городского времени срастила свои противоречия.
Он уже не был человеком с одной биографией. Он был местом в чужой памяти. Узлом, в котором время, как зеркало, показывало сразу всё – и не обязано было выбирать.
Он не запоминал, по какой именно лестнице поднимался наверх. В метро все выходы похожи: двухъярусные эскалаторы, усталые лампы, запах железа. Но когда он оказался на поверхности, город уже был другим. Другой перекрёсток. Другая площадь. Другой воздух – более холодный, более широкий.
Он уже видел это место. Но не так.
Когда-то здесь проводили торжественные митинги: флаги, сцена, речи. Он тогда смотрел трансляцию по внутреннему каналу «Хронос», не выходя из своего кабинета. Теперь площадь выглядела как лобная часть города. В центре – высокий стеклянный обелиск, внутри которого пульсировали строки текста, как светящиеся сосуды. Внизу на постаменте – надпись: «Мемориал времени». Чуть ниже, мелко: «Жертвы и участники событий 12.04.20…» – две последние цифры, как всегда, не могли договориться.
Вокруг обелиска ходили люди. Кто-то фотографировал, кто-то просто проходил мимо, даже не поднимая головы. На нескольких лицах читалась привычная смесь раздражения и суеверного уважения, с которым смотрят на государственные монументы: «Пусть будут, лишь бы не трогали».
У основания обелиска стояли интерактивные панели. Низкие тумбы с чёрным стеклом, приподнятые под углом. На них бегала бегущая строка: «Найдите своих. Введите имя. Сеть помнит». Внутри этих слов что-то кольнуло. Сеть помнит. Да, сеть помнит. Но как?
Он подошёл ближе, будто просто проходил. Одна из панелей как раз была свободна. Экран потемнел, потом зажёгся, показывая приветствие: «Единый реестр временных потерь и заслуг». Внизу две кнопки: «Поиск» и «О проекте». Он вспомнил, что уже видел этот интерфейс – в тех бумагах, что мелькали у Инны Сергеевны, в каких-то презентациях. То было «на стадии разработки». Теперь – стоит посреди площади.
Пальцы сами ткнули в «Поиск».
Появилась клавиатура. Гладкие прямоугольники букв. Он набрал свою фамилию. Л-И-С-О-В. Каждая буква вспыхивала чуть позже, чем он касался. На секунду появлялся вариант «Лисов?», потом «Лисов*», будто система сама сомневалась.
Он нажал «Ввод».
Экран задумался. Появилось слово «Синхронизация…», маленький кружок начал вращаться. За это время к панели подошёл кто-то ещё – мужчина в пуховике, с табличкой под мышкой, видно было, что он пришёл сюда по делу. Он остановился на расстоянии, не вмешиваясь, но уже читая, что там вылезет. Люди всегда читают чужие поисковые запросы, особенно у мемориалов.
Результат появился рывком. Список. Вверху крупно: «Найдено записей: 3». Ниже – три строки, как три версии.
«Лисов Мартин Викторович – статус: погиб. Роль: участник ликвидации аварии. Классификация: герой. Подробнее».
«Лисов Мартин Викторович – статус: погиб. Роль: сотрудник, допустивший нарушение протоколов. Классификация: лицо с частичной ответственностью. Подробнее».
«Лисов Мартин В. – статус: неизвестен/оспаривается. Роль: возможный интерфейс “Синхрон”. Классификация: информация ограничена. Подробнее».
В какой-то из жизней он бы рассмеялся: идеально. Три в одном. Герой. Виновник. Баг.
Возле него мужчина в пуховике тихо присвистнул.
– Вот те на… – пробормотал он. – И как их теперь в один гроб… – он осёкся, поймав на себе взгляд Мартина. – Извините.
– Ничего, – ответил Мартин. – Я сам не уверен, в какой из них лежу.
Он нажал на первую строку. Экран послушно развернул «героическую» биографию. Фото – официальное, с нейтральным фоном. Дата рождения – совпадает. Дата смерти – 12.04.2022. Ниже текст: «Следователь отдела временных аномалий. В критический момент, рискуя собственной жизнью, осуществил ручное отключение части системы “Синхрон”, благодаря чему удалось избежать полного коллапса городской временной сети. Награждён посмертно…» – ниже шла перечень медалей и благодарностей, которые он никогда не видел. Может, их вручали пустому месту на сцене.
Под текстом – раздел «Личные воспоминания». Комментарии. Как под статьёй.
«Спасибо вам, мой отец вернулся домой!»
«Я там работала, помню только свет. Говорят, вы нас вывели».
«Не знаю, кто вы, но без вас нас бы не было».
Несколько комментариев были помечены как «оспариваются», под ними серели тени удалённых слов.
Он пролистал ниже. Там, мелким шрифтом, значилось: «По данным граждан, в некоторых версиях событий Лисов не успел выполнить указанные действия, что привело к иным последствиям. Эти свидетельства хранятся в разделе спорных записей».
«В некоторых версиях». Мемориал честно признавался, что память у города многоядерная.
Он вернулся к списку и коснулся второй записи. Биография сменилась. Фото – то же, только сверху добавили тонкую красную рамку. Дата смерти – уже 12.04.2023. Текст другой: «Сотрудник, допустивший критическое нарушение протоколов безопасности при работе с экспериментальной системой “Синхрон”. Именно его действия, по версии следствия, стали одной из причин нестабильности временного ядра. Уголовное дело закрыто в связи с гибелью фигуранта».
Никаких медалей. Зато раздел «Общественные отклики» выглядел иначе.
«Из-за таких, как ты, у меня нет сестры».
«Сжёг нам время и исчез».
«Почему нам говорят, что он герой? Он преступник».
Между комментариями попадались и другие:
«Я был там. Без него было бы хуже».
«Не знаю, виноват ли, но делал он всё не один».
Система пыталась балансировать даже здесь, на кладбище текста.
Он не стал задерживаться. Коснулся третьей строки – той, где статус «оспаривается». Экран слегка мигнул, как будто присматриваясь к нему внимательнее.
Фон стал темнее. Фото – другое: не официальное, а выдернутое откуда-то из внутреннего отчёта: он в профиле, в полумраке, свет от монитора на лице. Под фото – минимальная информация: «Первые эксперименты системы “Синхрон” подразумевали участие ограниченной группы людей, выполнявших функцию интерфейса между человеческим восприятием и временным потоком. Детали засекречены. По некоторым данным, Лисов М. В. был одним из таких “узлов”. Его статус после инцидента – предмет спора. В ряде записей считается погибшим, в других – интегрированным в сеть».
Под этим – пустое белое поле. Раздел «Отзывы» отсутствовал. Вместо него – надпись: «Комментирование недоступно».