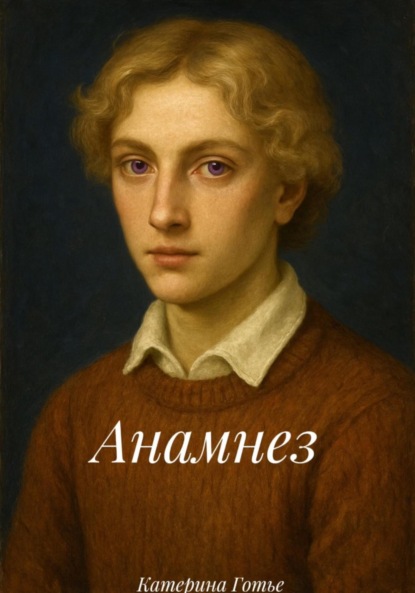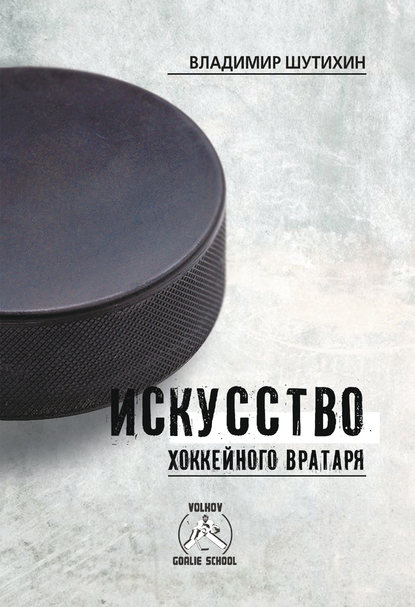- -
- 100%
- +

«Анамнез»
Ана́мнез (от греч. ἀνάμνησις – «воспоминание») – совокупность сведений, получаемых при медицинском
обследовании путём расспроса самого обследуемого и знающих его лиц. От стиля беседы врача и больного зависит та психологическая совместимость, которая во многом определяет конечную цель – облегчение состояния пациента.
Экспозиция
Порой наш мозг играет с нами злую шутку. Восстаёт против человека – своего хозяина, решая действовать так, как посчитает нужным, – не считаясь с чувственными, совершенно точно инфантильными порывами слабой души. Ведь она, подверженная страстям, никогда бы не выжила без холодного рационального контроля – единоличного правителя, разумного монарха, способного уберечь ее от боли и страданий.
И тогда мозг превращается в один кипящий котёл. Он смешивает, подменяет наши воспоминания – на смену старому прошлому приходит искаженное, но легкое для восприятия новое прошлое. Оно действует на больную душу, как целебный бальзам. Врачует ее раны, позволяет человеку чувствовать себя жертвой обстоятельств.
В этом абсолютная победа Мозга.
Но что, если человек не жертва, а злодей? Ведь тогда мозг неосознанно защищает чудовище, превращая невинных овечек из воспоминаний в серых волков, искалечивших его судьбу. Вдруг все, что вы помните из своего прошлого – ложь?
Попробуйте окунуться в собственное детство – что вы помните? Соседского мальчишку, который побил вас игрушечной лопаткой, выгнав из общей, такой привлекательной песочницы? Он же фактически изгнал вас из общества! Ведь песочница на детской площадке – миниатюра мира взрослых, общества серьезных и разумных. Или, может быть, вас до сих пор тяготит обида на мать, которая оставила вас дома в тот вечер, когда вся семья уехала в кино? Какая чудовищная несправедливость – трагедия для детского разума! Наверное, вас не любят… Или бросили, заперев в четырех стенах с темнотой, обступающей со всех сторон.
А вдруг все было не так? Если события, предшествующие жестокости по отношению к вам, оправдывают её? Вы – и только вы – отняли у несчастного мальчика в песочнице игрушечный паровозик и разбили его о камень, за что и были изгнаны из песочницы коллективным решением.
И, съев припрятанную на праздник банку сгущенки, свалили вину на младшую сестру. Так что, когда обман раскрылся, вы были наказаны. За преступлением всегда следует наказание, но каждый человек эгоцентричен, он является центром своей маленькой Вселенной. Какой человек захочет добровольно чувствовать себя виновным? Тогда в архивы памяти вмешивается всемогущая сила…
И в этом абсолютная трагедия Мозга.
И, как и каждая великая трагедия, она приводит к великой истории. А я, как и любой писатель, чертовски люблю интересные истории.
Интермедия
Маленький мальчик, опустив взгляд на свои пальцы, сидел на стуле в коридоре серого здания, заполненного людьми в форме. Он внимательно рассматривал свои руки и нервно вздрагивал, стоило кому-то пройти рядом с ним. Воздух колыхался и шевелил волосы, закрывающие его глаза. Когда мальчик все-таки осмеливался поднять взгляд, он внимательно смотрел на спортивные фигуры, затянутые в костюмы и блистающие серебряными значками. О, его поражали эти серебряные значки, которые тут и там мелькали на мрачном фоне серых стен, скрываясь в одной двери и выходя из другой.
Мальчика всегда завораживал блеск: блеск солнечных лучей, отраженных от стекла, блеск броши на шее тетушки и блеск стали. Он старался всегда носить с собой какую-нибудь вещь, которая могла бы поймать на себе луч солнца и засиять так ярко, что если он будет смотреть на неё долго, неотрывно, а потом закроет глаза, перед взором появится новый мир: мир, в котором в воздухе плавают бестелесные создания – ореолы света, похожие на рыб в пруду. Ему нравилось думать, что таким же ореолом света является и она – его мама. Не та мама, которую он всегда так звал, а другая, жившая в его воспоминаниях.
Мальчик видел маму один единственный раз, когда её руки положили его в колыбель и исчезли из поля зрения. Младенец в бессилии смотрел в пустоту, но слабые глаза различали лишь сгусток блестящего света, которому и принадлежали тёплые руки. Этот сгусток он назвал «мамой», такой она была в его представлении.
То, что в детской памяти осталось белым ореолом, было лишь тусклым свечением из окна, играющим на белых волосах его матери. Но мальчику эта правда была не нужна. Мальчику был нужен блеск и мама. Поэтому все и случилось.
Если бы не маленькая хрустальная капля, отвалившаяся от люстры и надежно спрятанная в глубоком кармане, мальчик чувствовал бы себя одиноким в этом странном сером здании, люди в котором то появлялись толпой, требуя внимания, то оставляли его совсем одного, переговариваясь между собой на непонятном ему языке.
Но сейчас он был не один: хрустальная капля, которая долгое время ловила лишь отражение его больших фиалковых глаз, наконец ухватилась за тонкий луч света из окна и отбросила кривой блик на стену. Мальчик улыбнулся сгустку света, все ещё не поднимая головы высоко. Его алкающий взор устремился на хрусталь, лежащий на ладони. Он смотрел на него так долго, что глаза начали слезиться, а по стенам, словно проплешины, заплясали белые пятна. Мальчик рассмеялся: сгустки света извивались, отращивали руки и даже пытались коснуться его – они превращались в маму.
– Ты не голоден?
Прямо перед взором мальчика сперва появились ноги в идеально выглаженных брюках, а потом голова мужчины, присевшего перед ним на корточки. Мальчик испугался, зажмурил глаза и сжал хрусталик в руке до боли: острые грани впились в нежную кожу детской ладони. Этот странный человек, пришедший оттуда, где нет ничего, что могло бы отражать свет, напугал его.
Закрыв глаза еще крепче, мальчик замотал головой и стиснул зубы. Он не мог открыть глаза, не мог смотреть на человека, чей взор так страстно впивается в мозг, что кажется, будто он роется в его воспоминаниях. Что он надеется там найти? Неужели мужчина хочет украсть маму?
Но он уже сделал это: блики перед глазами исчезли и перестали мелькать даже в темноте закрытых век. Она исчезла, он забрал её – этот человек в форме.
– Если не хочешь говорить, можешь помолчать, но я не причиню тебе вреда, малыш. Я офицер Стоун, но можешь звать меня просто Роб. Так меня зовут все друзья.
Мальчик видел перед собой лишь темноту и красные всполохи – это свет падал на его глаза, подсвечивая капилляры.
– Роберт, оставь его, он ни с кем не разговаривает, – голос с высокими нотками и противным дребезжанием – эта женщина подходила к нему некоторое время назад, хватала за руки и пыталась отвести куда-то, где было душно и желто от электрических ламп.
– Фло, он не ел почти сутки, и если мы не заставим его поесть в ближайшие полчаса, то можно ожидать голодного обморока. Я бы на его месте уже давно хлопнулся без сознания: пережить такое на голодный желудок – дело страшное.
Роберт покровительственно похлопал мальчика по голове и встал, шурша чем-то в карманах.
– Вот, держи, можешь съесть потом. Не волнуйся, я не буду смотреть на тебя.
Что-то шуршащее опустилось на сиденье рядом с его рукой, и Роберт ушёл, насвистывая под нос какую-то мелодию.
– Странный мальчишка, – сказал он женщине в форме. – У него явно что-то с головой не в порядке.
– Роб, этот ребёнок 20 часов назад оказался круглым сиротой. На его руках умерла бабушка, а ты что-то говоришь о психическом здоровье? Если ты хочешь знать мое мнение – надо будет благодарить Бога, если после такого потрясения он вообще останется дееспособным. Ты же помнишь, в каком состоянии было тело…
– Нет, тут дело не только в этом. Он вообще что-нибудь сказал за все это время? Сколько ему – лет десять уже? Думаю, говорить он умеет, но не хочет.
– Он разговаривает только с детективом Уилсоном, и то с неохотой. Может быть, дело в том, что именно Фредерик первым говорил с ним, когда мы приехали на вызов. Он мальчик явно особенный. Я читала, что такие дети почти никак не взаимодействуют с людьми, но если выбирают взрослого, который по какой-то причине кажется им нужным, то выходят на контакт только с ним.
– Ты думаешь, у него такие серьезные проблемы? Может быть, он даун?
– Роб, я же не врач, откуда мне знать? Я просто читала статью на одном форуме.
– Но выглядит он и правда странно. Я имею ввиду, не считая его поведения. По документам ему десять лет, а мальчишка едва тянет на восемь. У нас нет доступа к его медицинской карте?
– Запросили, когда везли сюда. Никаких психиатрических диагнозов нет, у психиатров и психологов не наблюдается. Заметок от педиатра тоже нет. Карта вообще чистая, словно его никогда к врачам не водили.
– Ну он же из богатых, может, у них свой врач был. А карту завели, когда регистрировали младенца. Стандартная процедура.
– Ой, я уже вообще ничего не понимаю. У нас столько висяков накопилось, а тут этот ребенок… Шеф сегодня весь день по всему отделению гоняет, поесть не успеваю.
– Да, шумихи эта история наделает, и мальчишка тоже огребет по полной. Ты же знаешь, как пресса любит наживаться на жертвах и выживших. И все-таки нужно его покормить – может, он есть только что-то особенное? Черт, ну почему бы ему просто не открыть рот и не сказать нам об этом? Куда делся Уилсон? Мы без него тут просто время теряем.
– Кажется, он уехал обратно на место преступления. Когда я час назад заходила к шефу, они говорили по телефону.
– Господи, нам так придется весь день здесь торчать…
Дальше он не слушал, его внимание снова утекло дальше от внешнего шума и скользящих по коридорам теней в форменных костюмах. Его снова занимало только одно: хрусталик перестал ловить свет, потускнел, стоило сумеркам начать клубиться за окнами. Сколько мальчик не вглядывался в своё сокровище, оно больше не отражало ни его глаз, ни маму, которая пряталась внутри него. Она точно ушла с тем мужчиной-офицером в синем костюме, так что хранить этот хрусталик больше не имеет смысла.
Мальчик поднял ладонь к глазам, последний раз прошёлся взглядом по граням осколка и перевернул ладошку внутренней стороной к полу. Хрусталик ударился о мраморную плитку и отлетел под ножки стула, спрятавшись в темном углу у плинтуса. Он снова стал обычным куском люстры.
Для мальчика он больше не имел никакого значения.
«Скажи, откуда ты приходишь, Красота?
Твой взор – лазурь небес иль порожденье ада?
Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста,
Равно ты радости и козни сеять рада.
Заря и гаснущий закат в твоих глазах,
Ты аромат струишь, как будто вечер бурный;
Героем отрок стал, великий пал во прах,
Упившись губ твоих чарующею урной.
Прислал ли ад тебя иль звездные края?
Твой Демон, словно пес, с тобою неотступно;
Всегда таинственна, безмолвна власть твоя,
И все в тебе – восторг, и все в тебе преступно!
С усмешкой гордою идешь по трупам ты,
Алмазы ужаса струят свой блеск жестокий,
Ты носишь с гордостью преступные мечты
На животе своем, как звонкие брелоки.
Вот мотылек, тобой мгновенно ослеплен,
Летит к тебе – горит, тебя благословляя;
Любовник трепетный, с возлюбленной сплетен,
Как с гробом бледный труп сливается, сгнивая.
Будь ты дитя небес иль порожденье ада,
Будь ты чудовище иль чистая мечта,
В тебе безвестная, ужасная отрада!
Ты отверзаешь нам к безбрежности врата.
Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена?
Не все ль равно: лишь ты, царица Красота,
Освобождаешь мир от тягостного плена,
Шлешь благовония и звуки и цвета!»
Шарль Бодлер «Цветы зла»
Глава 1
Редкая свежая кровь спускалась на перрон. Это место словно отвергало чужеземцев, не пуская в свои покои. Но почти никого и не тянуло в этот полный уныния ветреный край.
Главной загадкой оставалось выросшее словно из небытия здание, построенное так давно, что к его возведению могли приложить руки древние боги. Если бы было возможно разрезать его ножом, как кремовый торт, внутри стен несомненно обнаружились бы кости: ребра, плечевые суставы и фаланги пальцев. Весь стройный фасад, густо окутанный плющом, точно утопленница саваном, был плотью, покрывающей скелет фундамента.
Академия была до боли красива: благородный оттенок дуба на стенах, эркерные окна и широкие балконы на высоких этажах, где студенты часто устраивали литературные вечера или собрания кружков, шпили высоких башен, поднимающихся над третьим уровнем, небесной голубизны озеро с аметистовой глубиной и даже величественные створки дверей дышали богатой стариной и элитарными знаниями. Она излучала яркий манящий свет, словно лампада. И на этот свет слетались мотыльками души, жаждущие кто таинственных знаний, кто известности, с которой выходят из этих стен, а кто просто престижа – ведь академия была сурова и пускала под свой кров только те умы, которые могуществом своего слова заставили её содрогнуться.
Под высокими шпилями жили не студенты различных факультетов, а стая, скрепленная если не родством, то кровью. Не стоит думать, что все члены этой стаи были миролюбивы: бывали и изгои, и мародеры, и просто бунтари, желающие подорвать традиции, случались пару раз и несчастные случаи, которые быстро забывались, так как полиция почти никогда не вмешивалась в дела академии – ей попросту было неудобно проделывать столь долгий путь ради сломанных рук или ног, пущенных лживых сплетен и одного убийства, о котором она, однако, даже и не догадывалась. Но то дела веков минувших, а та история, что начинается сейчас, куда ближе к нам и нравам нашего века.
Именно в эту крайне разношерстную компанию предстояло влиться Виктору Хьюзу, чей паровоз должен прибыть на станцию ровно в восемь – к часу, когда сонные студенты открывают глаза под немилосердные звуки будильников.
Наконец старый смотритель, развлекающийся беседой с лохматой черной вороной, сидящей рядом с ним на лавочке, разглядел за верхушками елей клубы дыма.
Старик встал, зевая и почесывая ноющую спину. Холода в этих краях и впрямь не щадили никого, но и люди здесь были выносливые, сделанные явно не из сахара.
Ворона, заметив в стыке между окном и стеной аппетитный кусочек замазки, принялась увлеченно выковыривать его тонким клювом, совершенно поглощенная этим занятием. Старик любовно погладил птицу по голове, а потом подошел к краю перрона, приложив ладонь ко лбу козырьком. Он был одет в распахнутую на груди ветровку и вязаный шерстяной свитер цвета мокрой овцы. На его голове сидел неизменный черный берет, залихватски сдвинутый на затылок. Дать бы старику в руки сигару – и он бы походил на сурового морского волка, которому бури океана милее, чем голос любимой жены.
Но сейчас смотритель ждал не свой корабль, а празднично-красный паровоз, наконец появившийся из-за поворота. Его хвост еще извивался, как ползущая змея, когда голова уже подъезжала к станции, постепенно сбавляя ход.
Водитель паровоза, высунувшись из окна, махал ему рукой. Смотритель заулыбался и пошел вдоль состава по краю платформы, стараясь не отставать от кабины водителя.
– Как дела, Уилки? Сто лет не видел тебя! – паровоз остановился, и водитель в фиолетовой униформе высунулся из окна по пояс.
– Да как у меня могут быть дела, Бенни? Сижу тут один, как пень трухлявый. Ворону вот себе завел. А ты как сам? Как Аби и дети?
– Младший вот недавно в школу пошел. Тот еще шалун. А Аби отлично: мы с ней столько времени проводили последний раз в медовый месяц.
– Ну еще бы! Когда тебя последний раз сюда на рейс-то ставили? Кажись, в нашу глушь уже давно никого не возили. Все выходили на Блэквуде – и дело с концом.
– В последний раз я сюда приезжал три месяца назад – студентов отвезти на каникулы в большой мир. Вот время-то было: до Блэквуда довез всех старичков-садоводов и скучающих родичей – и домой, отдыхать. А тут из-за одного-двух пассажиров приходится сюда весь поезд гонять. Да еще пути у вас тут такие извилистые, что на поворотах аж голова кружится.
Водитель снял фуражку, вытерев воображаемый пот со лба.
– А что, сейчас сколько у тебя там?
– Да один должен быть. Из-за него лишние полтора часа приходится за рулем сидеть, а надбавки не дают.
– Это верно, надбавка бы нам не помешала.
– А у меня старший скоро женится, нужно свадьбу играть…
– Вот так: говорят, все для людей, а на деле…
– И не говори… А ты приходи на свадьбу-то, дружище. Хоть с людьми нормальными поговоришь, а то все с вороной…
За оживленной беседой друзья и не заметили, как виновник их встречи спрыгнул на перрон, плотно запахнув пальто. Холод почти сразу залез под свитер, щекоча иголками кожу, но Виктор усилием воли заставил себя потянуться, чтобы в затекших от сидения конечностях возобновился нормальный кровоток.
Смотритель наконец заметил юношу в светлом пальто, неловко переминающегося с ноги на ногу.
– Ну моль, честное слово, – шепнул он Бенни, улыбнувшись. Уилки знал толк в насекомых и бабочках: глаз заядлого коллекционера сразу признал в приезжем студенте бледную моль.
– Ну ладно, Бенни, пойду я. А то замерзнет он тут, а мне потом администрация предъявит.
– Давай, Уилки. На свадьбе тебя ждем!
– Обязательно!
Смотритель помахал последний раз другу, и паровоз тронулся с места, медленно удаляясь от станции.
– Сынок, тебе в академию? – смотритель закурил сигару, выпуская в холодный воздух такие же впечатляющие клубы дыма, какие неслись вслед за паровозом.
– Да. Но я не знаю, куда мне дальше идти. В письме конечным пунктом значилась эта станция, но что-то я тут никаких зданий не вижу…
Смотритель прищурил глаза, осматривая незнакомца. Тот даже ни разу глаза на него не поднял, спрятав больше половины лица за шерстяным шарфом.
– Дорогу-то я тебе покажу, но идти придется пешком, да еще и долго. Давай ты у меня в кабинете погреешься, кофе выпьешь, а потом пойдешь себе потихоньку.
– От кофе я не откажусь, – Виктор поднял взгляд на смотрителя – глаза сверкнули аметистами, – но вы мне путь сразу укажите. Не хотелось бы задерживаться в первый день.
Смотритель задумчиво кивнул и поманил Виктора за собой. Спустившись с бетонной платформы, он указал на лесную дорожку прямо за станцией.
– Идешь все время по тропинке прямо. На первой развилке пойдешь налево, на второй не ошибешься – там будет указатель.
– Сколько примерно идти? – Виктор поставил чемодан на землю, надевая на замерзшие пальцы перчатки.
– Час быстрым шагом, за полтора с твоим тяжелым чемоданом, – смотритель перекатывал сигару во рту, смотря вглубь леса.
Виктор опустил взгляд на свой багаж и протяжно вздохнул, ощущая ноющую боль в задеревеневших пальцах.
– Что вы там, студенты-искусствоведы, носите-то? Неужели передвижную картинную галерею? – смотритель разглядывал чемодан с большим интересом.
– Бюст Шекспира и чучело ворона, который когда-то каркнул «Nevermore!», вызвав у Эдгара По мыслительную горячку, – Виктор и не думал грубить, но он так устал, что язык почти не повиновался мозгу.
– Что же… – старик уловил сарказм в голосе юноши, но, будучи человеком исключительной душевной доброты, лишь усмехнулся в усы. – Тогда тебе с твоим Шекспиром предстоит долгий путь. Дорогу запомнишь или тебе карту нарисовать?
– Запомню, спасибо.
– Можешь зайти в кабинет, хоть пять минут погреешься, пока я тебе кофе сделаю. А то потом километр не дойдешь – свалишься, точно осиновый лист.
– Нет, спасибо, я в тепле насиделся, – оба повернулись к лесной дорожке, не глядя друг на друга. – В вагоне было душно, я лучше воздухом подышу.
– Как знаешь. Тогда иди поболтай с Ванессой, а я мигом тебе кофе на дорогу соображу.
Смотритель скрылся в небольшой будке, которую ласково называл кабинетом, а Виктор оглянулся по сторонам в поисках загадочной Ванессы. Не найдя вокруг никого, кто подходил бы под описание, Виктор устроился на скамейке, лицом к пустым железнодорожным рельсам. Чемодан, в котором на самом деле не было никаких бюстов и чучел, он поставил рядом.
Юноша натянул шерстяной шарф повыше и втянул голову в плечи, чтобы защититься от холода. Ветер убаюкивал свистом и будил морозной пощечиной, из-за чего голова Виктора кружилась и пульсировала в затылке, словно набухающая кровью шишка. Неожиданно его глаза зацепились за крошечные дырки в деревянных досках перрона. Должно быть, они остались от старых гвоздей, которые вытащили, когда перекладывали доски.
«Одна, две, три, четыре…»
Глаза Виктора скакали зигзагом от одного отверстия к другому, напряженно щурясь. Вдруг что-то черное метнулось справа, прямо на периферии зрения. Он испуганно вздрогнул, но отвести взгляд от досок не смог – боялся сбиться со счета. Ворона, которая упала на скамейку мокрой черной тряпкой, с удивлением уставилась на незнакомца черными глазами бусинками.
«Шестьдесят семь…»
Виктор был уверен, что сосчитал все отверстия. На душе сразу стало спокойнее – будто бы бушевавший океан расступился, повинуясь божественной воле. Обернувшись, он ожидал увидеть что угодно – пожухлый лист или мусор, – но только не лохматую птицу, пристально изучающую его фигуру. Виктор уставился на ворону с таким изумлением, словно увидел перед собой призрак прошлого Рождества. Ворона вызывающе каркнула и снова склонила голову на бок, как будто приглашала Виктора вступить в диалог.
– Вижу, ты познакомился с моей Ванессой! – весело заметил смотритель, толкая плечом дверь и стараясь не разлить содержимое двух чашек, от которых поднимался легкий дымок.
– С Ванессой? – Виктор еще раз обернулся, но никакой Ванессы рядом не оказалось.
Заметив, что смотритель собирается сесть, Виктор забрал у него обе чашки, предотвратив неизбежные лужи кофе на деревянных досках перрона.
– С ней самой, – мужчина с улыбкой указал на скачущую от радости ворону.
Виктор был уверен, что за его спиной не было никакой девушки, поэтому не понимал, почему смотритель отчаянно тычет в пустоту.
Наконец ворона перелетела на колени мужчины и довольно каркнула, спрятавшись в изгибе его локтя от ветра. Глядя оттуда на Виктора, она словно смеялась над ним.
– У меня тут нечасто собеседники объявляются, вот я и завел Ванессу. Кормлю, даю сидеть в тепле – и она всегда возвращается. А то в таком тихом одиночестве недолго и с ума сойти.
Виктор подумал, что старик и так уже сошел с ума, но говорить об этом не стал, резко вспомнив о правилах приличия.
– Вы имеете в виду ворону?
– Конечно. А ты нашел еще кого-то? – блаженно распушив перья, ворона вытягивала шею, чтобы старик мог почесать её кончиком указательного пальца.
– Нет. Просто я не думал, что ворону можно назвать Ванессой. Вы ведь сказали, что я могу с ней поболтать, а вороны говорить вряд ли умеют.
Смотритель удивленно покосился на юношу, но лишь пожал плечами. Не в его правилах тыкать людей в их странности.
– Фигура речи. Но из неё хорошая слушательница получается. Единственный друг в этой унылой глуши.
Виктор пил кофе, снова зацепившись взглядом за отверстия в досках.
«Шестьдесят шесть или шестьдесят восемь?»
– Заново…
– Ты о чем?
Виктор поднял глаза от чашки.
– Шестьдесят семь, – помедлил, – у вас шестьдесят семь отверстий в досках.
– Да, наверное. Никогда не считал, – замялся мужчина.
– Очень успокаивает.
– Наверное…
Виктор сжал в руках чашку, разом допил кофе и чуть не подавился кофейной гущей, противно облепившей горло.
– Спасибо за кофе и указанную дорогу. Я пойду.
Ветер яростно застонал в верхушках елей. Смотритель неодобрительно покачал головой: ветер в этих краях и впрямь был суровый, способный за считанные минуты надуть дождевые облака или сбить с ног. Ему было жаль бедного юношу, но помочь он ничем не мог.
– Хорошей тебе дороги, – мужчина отсалютовал Виктору чашкой. – Стань там великим философом или актером, ну или на кого ты там идешь учиться…
Ванесса благосклонно каркнула, вынырнув откуда-то из рукава ветровки смотрителя.
– Непременно стану, – Виктор улыбнулся в шарф, беря в руки чемодан. – Не зря же меня приняли в «Лахесис».
Смотритель наблюдал за уходящим юношей, пока лесная дорога не поглотила его, скрыв густыми хвойными ветвями. Мужчине вдруг вспомнились глаза студента: светло-фиолетовые, большие, смотрящие одновременно на тебя и мимо тебя, как иногда смотрят неразумные дети или безумцы. Впрочем, наверное, все люди с фиолетовыми глазами кажутся необычными – не часто ведь увидишь в толпе человека с радужкой цвета аметиста.