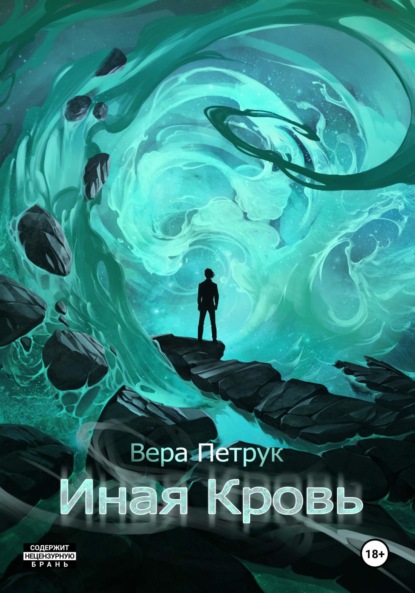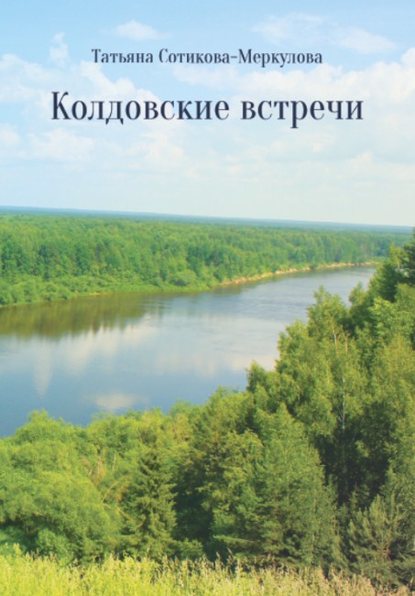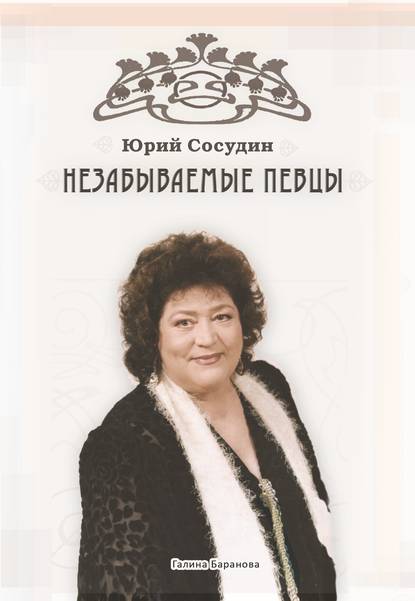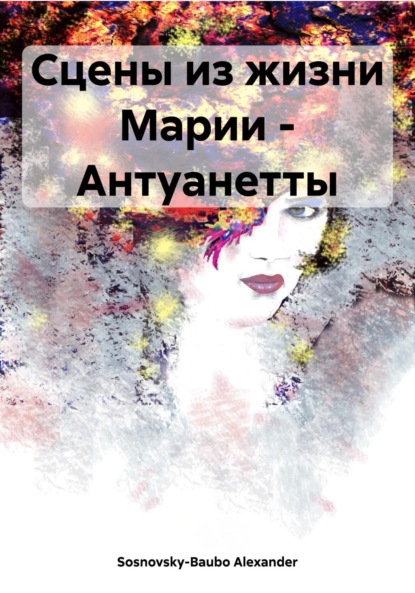- -
- 100%
- +

От автора
Тема маски идёт со мной почти всю жизнь. Ещё в музыкальном училище, на отделении «Теория музыки», я училась видеть закономерности построения образов. В опере всё казалось очевидным: герой, героиня, злодей или шут находили своё звучание в голосе певца, в оркестровке, в театральном гриме. Но в инструментальной музыке всё было иначе: никакого лица, никакого текста, только ноты. И всё же композитор умел создать «маску» – тонкую, невидимую, но узнаваемую. Венские классики были в этом виртуозами.
Не случайно моей дипломной работой стал «музыкальный театр Моцарта». Его партитуры оказались настоящей галереей масок: любовники, злодеи, шутники – они жили в музыкальной ткани. В то же время меня завораживал фильм «Маска» с Джимом Керри, а юная жизнь, со своими влюблённостями и разочарованиями, тоже подбрасывала сюжеты, где за улыбкой или молчанием скрывалась та или иная «маска».
Так тема перешла со мной в университет. На философском факультете я занялась масками в любви, и из этого выросла моя кандидатская диссертация. Тогда меня даже забавляла мысль: вот бы написать книгу, как доктор в фильме, – «Маски, которые мы носим». Но всё вышло серьёзнее: в докторской диссертации я исследовала маску уже как универсальный культурный инструмент, как форму, которая репрезентирует многоликое человечество.
После защиты работа над этой темой ушла в тень. Казалось, я поставила точку. Но жизнь распорядилась иначе. Пандемия вернула маску в повседневность – сначала в трагическом, затем в ироничном ключе. «Маски, которые с нами навсегда» – эта фраза из шуток того времени звучала как новый культурный код. А в 2023-м в мою жизнь вошёл искусственный интеллект – со своими дипфейками, аватарами и антропоморфными ботами. Маска снова оказалась рядом.
И теперь я возвращаюсь к одной из книг моей академической трилогии, чтобы дать ей новое дыхание. Это второе, переработанное издание. На этот раз – не только для коллег-исследователей, но и для широкой аудитории. Потому что маска – это не просто предмет или метафора. Это зеркало времени. И каждый из нас, глядя в него, может узнать больше о себе и о мире, в котором мы живём.
ВВЕДЕНИЕ.
Каждый из нас хотя бы раз надевал маску. Иногда буквально – в период эпидемии или на карнавале. Чаще – незаметно: рабочую улыбку на планёрке, спокойствие, когда тревожно, уверенность, когда нужно принять решение. Мы различаем адресатов и ситуации, настраиваем голос, выбираем интонацию письма, подбираем аватар в мессенджере. Это не обман и не слабость. Это язык, на котором человек договаривается с миром о правилах близости и дистанции.
В бытовых ролях маска кажется чем-то лёгким и повседневным. Но стоит сделать шаг в сторону – и перед нами открывается культурный узор: ритуалы, театры, городские праздники, политика, цифровые интерфейсы. Переход от лица к образу – не случайность, а устойчивый способ организации человеческого опыта. Культура хранит этот способ, множит его и передаёт дальше.
Маска – не только то, что скрывает. Это инструмент выделения и фокусировки. Она позволяет подчеркнуть существенное и приглушить лишнее, собрать разрозненные впечатления в внятную форму. Через маску мы показываем себя так, чтобы Другой мог нас прочесть: «вот я – для работы», «вот я – для близких», «вот я – для публичной сцены». Маска экономит усилия коммуникации: вместо бесконечных пояснений – узнаваемый образ с ясными ожиданиями.
У маски две опоры: тело и форма. Телу она дарит защиту (от холода, от взглядов, от риска), форме – выразительность. Надев маску, человек на время «снимает» с лица случайные штрихи – усталость, смущение, мимолётный страх – и подчиняет выражение общему рисунку. Это дисциплина и свобода одновременно: дисциплина, потому что образ требует точности; свобода, потому что образ открывает возможность быть иначе.
Современность сделала этот механизм почти вездесущим. После COVID-19 медицинская маска стала маркером заботы и границы. Одновременно цифровые маски – фильтры, аватары, голосовые образы – наделили каждого мини-театром: в смартфоне у нас всегда под рукой реквизит, грим и сцена. Мы то усиливаем черты, то сглаживаем их, то меняем по требованию платформы. В результате маска перестала быть исключением и превратилась в норму среды.
Важно не перепутать: маска – не враг подлинности. Она не отменяет глубину «я», но определяет условия её явления. Подлинность не исчезает, когда мы выбираем форму; наоборот, без формы она часто остаётся нераспознанной. Как в музыке: чтобы мысль стала слышна, её нужно интонировать. Маска – это интонация присутствия.
И всё же у этого инструмента есть пределы. Там, где образ окончательно подменяет лицо, где правила сцены вытесняют опыт, где маска перестаёт быть мостом и становится стеной, – начинается другая история. Этой границей мы и займёмся: где маска помогает жить вместе, а где – разобщает; где она бережёт, а где – властвует; где ведёт к смыслу, а где – к пустой игре.
Интерес к маске как к философской и культурной категории возникал в разные эпохи. Каждое время задавало свой вопрос: зачем человеку скрывать лицо и почему за ним всегда проступает нечто большее, чем просто «мокрое тело» (органическое)?
Уже античность видела в маске не только театральный реквизит. В греческом театре persona служила не для сокрытия, а для усиления – через рупор маски голос актёра достигал зрительного зала, а образ становился узнаваемым. За этим внешним назначением скрывалась мысль: у каждой роли есть форма. Платон говорил о химерах – сложных образах, соединяющих истинное и мнимое. Для него маска могла стать опасной: если принять подобие за сущность, мы обманываемся и теряем истину.
Позже, в Новое время, Фрэнсис Бэкон предложил идею «идолов» – масок «ложного» сознания. Они искажают восприятие, навязывают человеку готовые схемы. Одни из них происходят от природы человеческого ума, другие – от традиции, языка или авторитетов. Бэкон видел задачу науки в том, чтобы разоблачить эти идолы-маски и вернуть сознанию ясность.
В ХХ веке мысль о «плохих масках» получила продолжение у теоретиков симулякров. Жан Бодрийяр писал о мире, где копии подменяют оригиналы, где знаки живут своей жизнью, не имея за собой реальности. Маска в таком контексте перестаёт быть мостом к подлинному и становится самостоятельной реальностью – симулякром, без опоры на лицо.
Между античностью и постмодерном прошло множество этапов. Средневековье знало маску как инструмент ритуала и мистерии, где за образом скрывалась вера. Новое время – как политический атрибут, когда государство требовало от личности определённого выражения. Немецкая классическая философия размышляла о субъекте, который всегда представляет себя в форме: Кант и Гегель искали баланс между внутренним и внешним, между «я» и его проявлением.
В ХХ веке интерес к маске обрёл театральное измерение. Режиссёр Всеволод Мейерхольд создавал биомеханику актёра как систему ролей и форм, а Михаил Бахтин рассматривал карнавал и смеховую культуру как пространство, где маска освобождает от социальных норм. В социологии и психологии Ирвинг Гофман говорил о «представлении себя другим» в терминах театра: каждый из нас – актёр на сцене повседневности, и маска становится инструментом взаимодействия.
Философия показывает: маска – не второстепенный элемент культуры, а один из её ключевых кодов, позволяющий приблизиться к расшифровке человеческого. Она может быть проводником истины или ловушкой иллюзий, мостом к подлинности или стеной симуляции. Но равнодушной она не оставляла никого и никогда.
Чтобы понять пределы маски, нужно увидеть её множественность. История культуры знает десятки её форм – от сакральных до бытовых, от игровых до политических.
Есть ритуальная маска, связанная с обрядами и религией. Она соединяет человека с силами, которые превосходят его: с предками, богами, духами. В этой маске лицо перестаёт принадлежать самому себе и становится проводником сакрального.
Есть театральная маска, которая родилась из древнегреческой сцены и до сих пор остаётся символом искусства. Её задача – сделать роль узнаваемой, передать характер. Театр научил человечество простому правилу: без маски нет образа, без образа нет игры.
Есть социальная маска – роли, которые мы принимаем в повседневности. Работник, друг, родитель, ученик, начальник: все они требуют своего выражения, своей интонации. Эти маски кажутся естественными, но без них жизнь была бы хаотичной.
Есть и политическая маска, которую надевают общества и лидеры. Она защищает власть, создаёт образы врагов и союзников, внушает доверие или страх. Политика невозможна без масок: от риторики до символов и медиа.
Современность добавила новые формы. Медицинская маска стала символом пандемии – одновременно защиты и тревоги. Маска в индустрии красоты превратилась в тренд: макияж под маску, акцент на глаза и брови. Цифровая культура подарила «маски-фильтры» и аватары, а искусственный интеллект – антропоморфные образы, которые учатся говорить и даже думать вместо нас.
Все эти формы объединяет одно: маска всегда работает с границей. Она показывает и скрывает, соединяет и разделяет, дисциплинирует и освобождает. Маска – это язык, на котором мы договариваемся с миром о том, что считать лицом.
Но у языка есть пределы. Где заканчивается игра и начинается подлинность? Где маска помогает нам быть вместе, а где разрушает доверие? Где она защищает личность, а где подменяет её? Эти вопросы проходят через книгу, которую вы держите в руках.
Мы будем искать пределы маски – в истории и в современности, в философии и в искусстве, в цифровой среде и в нашей повседневной жизни. Маска – не только о других. Маска – о каждом из нас.
1.Ориентальная вещность маски
Восток как культурный бренд – есть мировоззренческая традиция, тип духовности, специфическая картина мира, выразившая себя в особых феноменах, нормах, ценностях, традициях и артефактах.
Специфика Востока определена рядом характерных черт: особенностями восприятия бытия (видение действительности через сакральную призму), времени (цикличность), желанием реализовать духовные идеалы (согласно религиозной догматике), наличием характерного «обожествления» властных структур, общественными принципами (противоположные Западу коллективизм, традиционализм, солидарность и др.).
Данные черты свойственны Востоку как единому, но имеют разные выражения во множестве культурных подтипов, включаемых в культурологическое понятие «восток»: буддийско-синтоистский, конфуцианско-даосистский, индо-буддийский, арабо-мусульманский.
При обращении к истории культуры данных видов традиций Востока обнаруживается многообразие представленностей маски в ее утилитарной, предметной форме. Однако даже при рассмотрении только одной этой вещной формы, мы видим реализацию маски как идеи в вариациях смыслов, порождаемых контекстом применяемости масок (для чего, в каких сферах). Проанализируем формы и смыслы вещной маски по культурным типам Востока.
1.1.«Хоннэ» и «татэмаэ». Понятие истинных и ложных лиц в масках-артефактах Японии.
Японская культура не является исключением в ряду культур восточного типа по строгости соблюдения традиций, неизменности ценностных систем в ходе течения истории. Интересными для нашего исследования маски выступают ценности социальных взаимоотношений, межполовой коммуникации («хоннэ» и «татэмаэ»), самоограничения («хикаэ»), снисходительности к слабым («амаэ»), внимания к Другому («сэкэнтэй») и долга («гири») [257].
Личность в Японии конституируется, прежде всего, как общественная персона, для существования которой важны строгий социальный этикет и согласие с государством как всеобъемлющей ценностью. Для таким образом трактуемого понятия личности приветствуются и особые качества: умение сохранять лицо (не показывать яркие чувства и эмоции), способность избегать конфликтов в обществе, быть нейтральным в поведении и словах. Эти качества имеют две стороны оценки. С позитивных позиций, Я понятно, поступки предсказуемы, не агрессивны. Но, с другой стороны, за запросами и ожиданиями японской социальной культуры стоят запросы и ожидания Я, потому что человек имеет сложную психическую систему, которую невозможно абсолютно настроить только на социальные, государственные и цивилизационные ориентиры, официальные выражения себя во вне. Человеку в любом культурном типе, не только на Востоке, присуще искать значимого Другого, которому он может показать глубину, чувственность Я, с кем он может быть в доверительных отношениях, с кем он может познать себя. Так на сцене японской культуры для реализации этой интенции появились специфические понятия «хоннэ» и «татэмаэ» – основные компоненты культурной идентичности Японии.
Хоннэ («honne») – достаточно сложно переводимое с японского языка понятие, которое можно, в общем, трактовать как абсолютное отсутствие утаивания (что касается именно нашего предмета исследования и одной из функций маски – сокрытия) – «то, что у человека на душе», «связано с личным», «я для себя», показанное Другому. Хоннэ – то, что является противоположностью лжи для японцев, выражает искренние чувства, порождает действия, соответствующие доверию. Интересно то, что открытость – хоннэ – крайне не желательна. Искренность вообще воспринимается как детскость, непосредственность, иногда как глупость. Показывать хоннэ публично считается дурным тоном. Особенно не принято быть таковым в официальных социальных, государственных взаимоотношениях. Объяснение генезиса понятия хоннэ и его присутствия в современности можно найти в природно-климатических условиях, повлиявших на становление японской культуры и цивилизации в целом. Островное расположение, влажность, сейсмическая активность, недостаток земельных, минеральных и других ресурсов обусловили общинное существование. Люди были (и есть) вынуждены жить в стесненных условиях (это подтверждают характер деревенских, городских, простых и привилегированных построек, система права и налогообложения, эстетические аспекты). В ряду детерминант стоит также отметить сложный период раздробленности и междоусобиц древнего японского государства (достаточно длительный – с I века нашей эры (упомянутые в древнекитайских хрониках люди ва, государства На и Яматай) по XVI в., когда сёгун Тоётоми Хидеёси осуществил удачную попытку объединения враждующих аристократических кланов [68]). Так, наличие сложных морально-нравственных принципов, воплощенных в этикете, позволило отрефлектировать эти факторы в культуре появлением таких понятий как «хоннэ» и «тотэмаэ».
«Хоннэ», «татэмаэ» и подобные им понятия японской национальной культуры связаны с дифференциацией Других: «сото» – сообщество тех, кто не входит в круг возможного проявления доверия, искренности; «ути» – сообщество, состоящее из значимых Других. То есть, японский социум не является выражением абсолютного коллективизма, а презентирует себя сообществом, состоящим из вариаций групп. Для каждой из них важны «хоннэ», «татэмаэ», «гири», наличие ритуалов, специфика которых, однако, может от группы к группе разительно отличаться. «Хоннэ», «татэмаэ», «гири» и другие константы японской ментальности имеют деятельные выражения – повседневные и официальные ритуалы, многие из которых сохранились до наших дней. А также атрибутические, вещные выражения понятий в аспектах религиозной, эстетической, художественной культур, дресскоде.
«Татэмаэ» («totamae») – понятие, которое выражает то, что удобно большинству, нужно всем, то, что желательно говорить и делать публично. «Татэмаэ» – «гимн» принятым не только в Японии, но и в мире дипломатическим принципам, связанным с поиском общего мнения, сглаживанием конфликтов и противоречий.
«Татэмаэ» как понятие японского национального характера имеет не только положительные, но и отрицательные смыслы, особенно для представителей других культур (с чем связано множество неловких и даже окончившихся военным противостоянием историй). «Татэмаэ» может мешать реализации личного в ущерб общественного, вступать в противоречие с ментальностью другого культурного типа. Потому это понятие всегда связано с личными ограничениями, контролем за своими словами и поступками – «хикаэ».
«Татамаэ» – умалчивание, то, что в культуре Запада, отечественной культуре и других называют лицемерием. Для японца же мерить «лица», иметь их во множестве является обязательным культурным предписанием. Благодаря «лицемерию» современная Япония сохраняет свою самобытность, не допуская чуждые влияния в систему традиций. «Татэмаэ» – выражение множества «лиц» индивида в едином культурном «мнении», важном для стабильного существования большинства, возможность сохранять свое Я в гармонии и не испытывать стыда перед Другими (избегание стыда – одна из доминат японской культуры).
Запрет на искренние прилюдные выражения чувств и эмоций в японской культуре сформировал скрытые формы чувственности, воплощенные в эстетике. Одной из таких скрытых форм стала одежда. В ней оказались реализованы основные принципы духовности – «хоннэ», «татэмаэ», «гири» и др. Государство регулировало вид, качество, стиль, покрой и рисунки на ткани для одежды подданных: каждое время года, каждый торжественный или особый случай должны были иметь свою маску-платье. Личное (настроение, возраст, характер) выражалось в цвете, специфике изображенного на рисунке. Самим распространенными сюжетами для мужской и женской одежды (кимоно и пояс – оби, украшения, головные уборы) были птицы и цветы. Наиболее яркой спецификой обладал женский дресскод. Квинтэссенцией женского начала в японской культуре выступил феномен гейш. Их внешний вид – одежда, маскоподобный макияж, а также ролевое поведение должны были служить «лицом» Женщины в культуре.
Генезис и развитие феномена происходили примерно с XI по XVII вв. Гейшами становились незамужние, образованные, музыкальные, пластичные представительницы слабого пола, которыми «пользовались» мужчины, публично обозначая межполовое коммуникативное пространство. Своих жен вводить в него, выставлять прилюдно для общения и «оценок», в отличие от западной культуры со свойственными ей традициями торжественных приемов и пр., было запрещено. Пользоваться для коммуникации признанным большинством стереотипом женщины считалось нормой. Гейши выступали в качестве содержания татэмаэ для отношений мужчин и женщин.
В чайных домиках проходили мужские собрания для обсуждения дел клана, общины, государственных событий. Чтобы соблюсти гармонию мирового начала видимого в гармонии данного природой – соединении мужского и женского, коллективного жизнетворчества – на такие собрания приглашали женщин, которые олицетворяли идею прекрасного, свойственную сущности мира. В их обязанности вменялось сопровождать переговоры и досуг пением, музицированием, танцами, поэзией, философской беседой. При этом женщины должны были осознавать суть эстетического видения красоты, заключающегося в знании его принципов: «саби» (красоты течения времени), «ваби» (красоты обыденного), «сибуй» (красоты обыденного в течение времени) и, самое важное – «югэн» (красоты подтекста, иносказания [257]). Гейши, будучи метафорой женщины, иносказанием, стали подтекстом прекрасного.
Гейши – стереотип японского идеала женской красоты и внешней красоты. Для них было характерно особо подчеркивать черты лица, особенности прически и платья. Другие, не публичные представительницы японской культуры, как и мужчины, тоже не чуждались усовершенствований внешности, которые, однако, не носили такой нарочитый характер, а служили лишь маркировкой общественного положения – маской принадлежности культурной группе. Так, например, головные уборы (их цвет, форма, материал) указывали на статус: шелковые (чаще узкие) носил император и члены его семьи, шелковые (простой формы) – аристократия, хлопок и солому носили ремесленники и крестьяне. Или прически со строгой дифференциацией геометрии по возрастам, полам и социальной принадлежности (выбритые затылки, длинные виски, жгуты, косы и начесы). Украшения в прическах тоже служили обозначению персоны для Других (гребни, шпильки, цветы из шелка, позолоченного картон, кости, перламутра и пр.; были и специфически знаковые украшения, например, цуно-какуси – белый налобник для невесты, который должен был скрывать «рога ревности»).
Лицо женщин обязательно покрывалось белилами, дабы по цвету кожи невозможно было определить действительное состояние чувств, здоровья, отношение личности к обстоятельствам – макияж должен был служить содержанием татмаэ. Распространено было и бритье бровей, наличие которых потом имитировали краской, придавая излому нейтральное выражение. Уместно здесь напомнить подобную ренессансную традицию центральной Европы. Однако европейки после удаления не дорисовывали волосы, так как хотели придать лицу «загадочность». Почему же этим естественным линиям придавали и на Востоке и на Западе такое большое значение? Объяснение имеет физиологические основания: брови подчеркивают движение мышц лица, указывая наблюдателю на испытываемые чувства; их полное отсутствие не дает возможности их понять вовсе. Японцы, со своим нежеланием раскрывать личное, быть публичными, создали «нарисованное» лицо-маску, выражающую удобное всем видение внешнего. Облик-маска полностью соответствовал представлениям о должном для женщины/мужчины. То есть то, что делали со своей внешностью гейши (и остальные, но не так ярко) служило прямым выражением татэмаэ: «я выгляжу так, как должно выглядеть в глазах значимых Других, чтобы не вредить их чувствам и быть им понятным».
Палитра макияжа включала в себя всего три цвета: белый для лица, черный – для глаз и бровей, красный для губ. Такая цветовая традиция пришла в Японию из Китая. Красный цвет символизировал собой солнце, его красоту, животворящую силу; белый – совершенство и чистоту; черный – добродетель, глубину мира. Глаза и губы окрашивали красным как зеркало души – в красоте слов и взгляда; брови, ресницы и зубы – черным для придания статусности. Насыщенность макияжа указывала на функциональность женщины, ее роль в мужском сообществе: самый яркий – у куртизанок, утонченный – у гейш, минимальный – у знатных женщин.
Мужская культура Японии тоже прошла путь развития внешнего от аскетической культуры эпохи клановых междоусобиц до излишеств театральности бытия в эпоху единого государства. Так, характер становления стереотипики мужского внешнего объясняется военными лишениями раннего периода и требованиями этикета абсолютной монархии. Маска как вещь внерелигиозной и некосметической функциональности появляется в культуре японских мужчин-воинов (расцвет XV–XVI вв.) – самураев и буси.
Представители аристократии – крупные землевладельцы и военная знать (самураи) – всегда следили за своим внешним видом, его соответствию доминантам национального характера: гири, хоннэ и татэмаэ. Мужчина, как старший, ни в коем случае не должен был допустить ситуаций, в которых бы над ним бы смеялись (начиная от недостатков в платье, оружии или прическе заканчивая, бытовыми решениями или военными поступками).
Самураи были классом мелких японских феодалов, имеющих военные обязанности перед своим сеньором. Буси – воины, которые могли не обладать знатным происхождением, но были обязаны исповедовать принципы служения, доблести и пр. В основе системы ценностей этих мужских сословий лежал кодекс Бусидо (его оформление в текст происходило в XI–XIV вв. [201]), регламентирующий поведение и внешний вид.
Маска обнаруживается в боевом костюме японского воина. Артефактные военные маски, найденные археологами, датируются VIII веком. Рисунки, гравюры древних летописей также содержат изображения этой части военного снаряжения. Что представляли собой маски воинов? Маска самурая – мэн-гу, во-первых, выполняла прямую защитную функцию лица в битве. Во-вторых, скрывала реальные чувства Я, открывая неприятелю нужные (те, которые от него ожидали), подчеркивала мужественность (даже на женских самурайских масках; женщины-воны были редкостью, но имели свое место в японской культур-истории). Для этого маску расписывали красными и черными резкими полосами, придавали суровое выражение, рисовали оскал зубов, крепили усы, бакенбарды или придавали фантастические зверообразные черты и т.п. Также маска скрывала реальный пол, возраст и уровень опыта воина – юные носили «лица» стариков, зрелые – юны, мужчины – женщин, чтобы ввести противника в заблуждение относительно истинного Я, не дать понять хоннэ, ведь доверие могло было быть только в близком кругу, в который противник, очевидно, не мог входить. В-третьих, маска выполняла вполне физическую функцию – уравновешивала тяжелый шлем кабуто, который металлическими пластинками затылка оттягивался назад. Шлем был сложным сооружением весом 2–3 кг, включающим в себя пластины, бронзовые зеркала для защиты от злых духов, рога, знаки клановой принадлежности. Убор держал шнур с узлом на подбородке, который от тяжести причинял болезненные ощущения воину. Чтобы исключить неудобства, буси видоизменили его – стали носить маску.