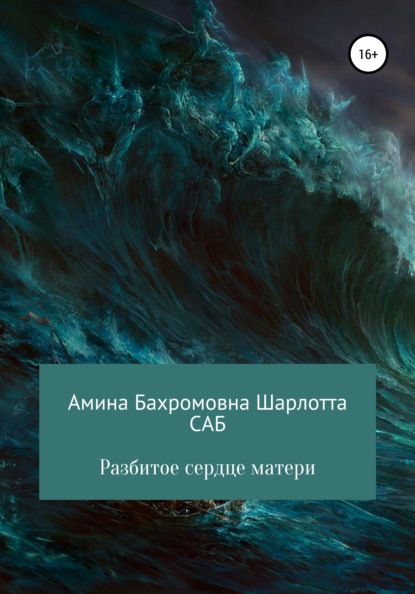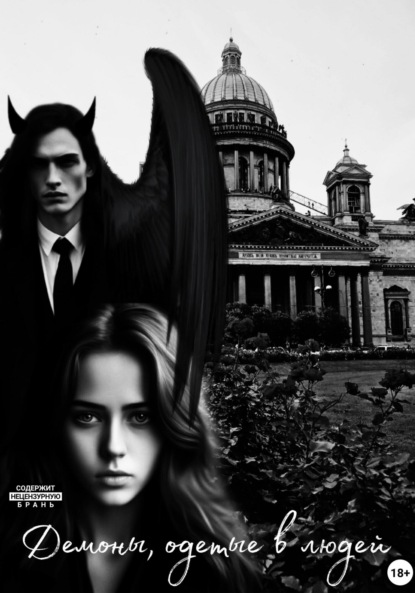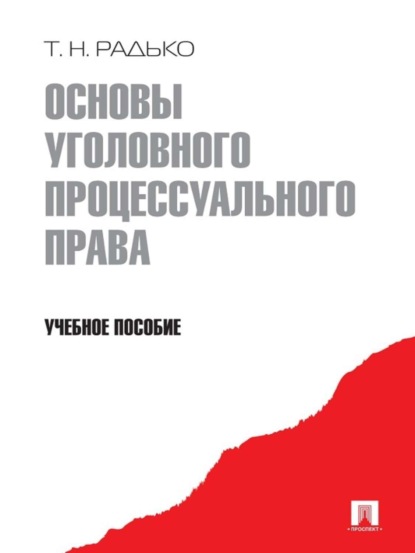Смыслы цвета
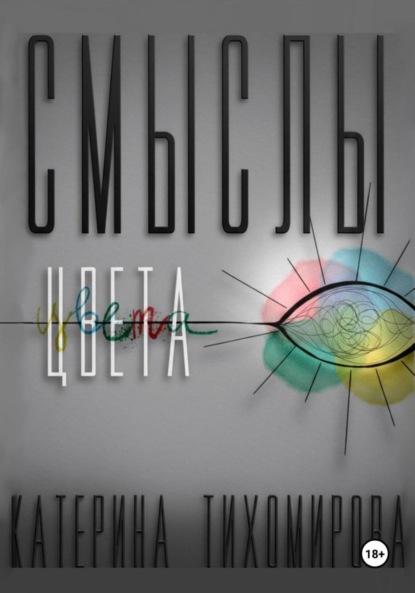
- -
- 100%
- +
Мудрецы, стремящиеся к раскрытию тайн бытия, сделавшие философию образом жизни, были меньшинством. А общая масса греков жила просто: воспринимая цвета природы, не углубляясь в их мировоззренческие глубины. Люди отображали эту природность цвета не в философской рефлексии, а в повседневных текущих практиках – моде на одежду и внутреннее убранство жилищ.
Окраска зданий, статуй, предметов быта и тем более тканей не сохранилась до нашего времени. Цвета чудесных творений скульпторов и архитекторов были разрушены ветрами, влажным приморским воздухом, дождями. Сохранились только фрагменты окрашивания – в потаенных деталях зданий, на защищенных негладких поверхностях. Органические краски не смогли выдержать испытания временем. Например, черный цвет получали из сажи испепеленных костей. Как закрепить такой краситель надолго? Однако греки, не преуспев в создании долговечных красок, добились другого – они вычленили их из природы, довели их использование до совершенства.
Античные ткани до нашего времени не сохранились. Об их окрашивании мы можем судить только по упоминаниям в научных трактатах и художественных текстах. Тканей с набивными узорами не было, их делали однотонными, украшали полотно вышитым разноцветьем. Черный цвет для одежных тканей не применяли, однако использовали его, как и в нашей культуре, как цвет-акцент, цвет- контур (дополняющий, не самостоятельный).
Ткали полотно в Древней Греции ручным способом, окрашивали натуральными красителями. Деятельность красильщиков и ткачей считалась очень почетной. Так, в Древней Греции мир был красочным и дорогим – работа специалистов по росписи домов, тканей, посуды оплачивалась очень щедро.
Культура Древнего Рима, также интересующая нас как этап становления цветовидения, просуществовала с VIII в. до н. э. и до 476 г. н. э. Римляне во многом были похожи на эллинов, но вместе с тем существенно отличались от них. Система римских ценностей была основана на социополитических принципах: равенстве всех перед законами Рима, патриотизме, долге гражданина.
Римляне не разделяли греческого прославления свободной личности, допускающей нарушение установленных законов обществ. Напротив, они всячески возвышали роль и ценность закона, его соблюдения, вылившуюся в стремление к строгой социальной стратификации [31]. Колорирование окружающего пространства производилось согласно выработанным общественным законам, что и стало спецификой римского цветовидения.
Узаконенная на государственном уровне палитра римлян почти не отличалась от древнегреческой, поменялись только имена богов, с которыми ассоциировались основные коннотации реальных цветов. Черный был отнесен к хтоническим божествам и использовался для обозначения сферы смерти [88].
Также разделение использования смыслов цветов в римской культуре произошло по гендерному признаку: краски стали мужскими и женскими. Такая тенденция стала свидетельством динамики процесса самоидентификации субъекта в культуре, обозначив цветовой личностный стереотип.
Так, античная любовь к краскам как любовь к богам, гармонизирующим мир человека и мир природы, стала фундаментом важной доминанты – творческого усовершенствования мира – трансформированной затем в ценность концепта человека-творца в зарождающейся европейской культуре [117].
Европейский черный: от Средних веков к Новому времени
Колыбелью западной (европейской) культуры (согласно онтологии по М. Петрову [97]) считается пространство Европы618 и, прежде всего, античная традиция, включающая в себя крито- микенскую, греческую и римскую культуры. Кризис античности обусловили внутренние политико-экономические проблемы Рима, принятие и легализация христианства, последующая экспансия варварских племен, завоевания сформировавшихся в эпоху Средневековья европейских государств, географические открытия эпохи Возрождения и Нового времени. Крушение античного типа культуры расширило границы Запада не только на всю территорию Европы, но и позволило преодолеть океаны. Агрессивная политика колонизации новых земель привела к поглощению аутентичных культур Америки и Австралии с заменой их ценностных систем на доминирующие западные. В Средиземноморье начались процессы романизации и христианизации. Люди принимали религию и образ жизни Рима, нормы строительства, торговли, экономики, права, политики и пр. Культурное значение всех этих процессов (миграций, романизации и христианизации) велико – оно обусловило слияние культур, поглощение слабых сильными, становление языкового, религиозного, экономического и политического противостояния, которое отчасти сохранилось до сих пор. Все это ознаменовало переход к новой культурной парадигме – парадигме Средних веков [71].
Так, становление средневековой культуры происходило в ре зультате драматического и противоречивого процесса столкновения двух культур – античной и варварской, сопровождавшегося, с одной стороны, насилием, разрушением античных городов, утратой выда ющихся достижений античной культуры719, с другой – взаимодей ствием и постепенным слиянием христианизированной римской и варварской культур [68].
Переход от мифологической к религиозной рефлексии в европейской средневековой культуре характеризовался одновременным существованием языческих традиций и принятием христианской системы ценностей. Данная особенность культуры оказала влияние на формирующиеся цветопредставления Средневековья. В коннотациях цветов реализовалась склонность этого периода культуры к метафоричности, символизму, аллегории и иносказанию.
Библейские тексты, диктующие каноны цветопредставления, не оставили никаких сомнений в аксиологии цветов: все, что создано
Богом, мудро и совершенно; творение Абсолюта не может подвер гаться человеческому переосмыслению. Потому «божественность» цветов – значение каждого, смыслы сочетаний мыслились неруши мыми. Иконопись выступила визуализацией христианского осмыс ления цвета как моста-связки в ситуации дифференциации мира на «божественный» и «человеческий»:
белый – святость, божественная власть; черный – ночь, смерть, ад;
голубой – величие, красота, ясность, печаль;
красный – неустрашимость перед жертвой и страданиями; золотой – верность, правда (честность), постоянство царствия
небесного;
зеленый – человеческая надежда, земная свобода, жизнь; желтый – трусость, предательство [2, 27].
Значение черного, как мы видим, стало негативным. Он теперь служил зримым выражением мрака и тьмы, соотносился с дьяволом, антихристом, злом, преисподней и муками грешников, смертью во всех ее проявлениях. Черные глубины иконописных пещер повествовали зрителям-христианам о могильной глубине и адской пропасти. Эта сакральная смысловая наполненность была абсолютно доминирующей и довлела даже над «светской» живописью: черного старались избегать, используя вместо него темно-синий или темнокоричневый.
Черные образы-детали также имели отрицательный подтекст: ворон служил знаком беды, а черный дрозд – эмблемой искушения. Иногда черный цвет для иконописцев обретал не только трагическое значение – угольно-темная сфера в верхней части иконы могла означать и великую божественную тайну.
Черный, связанный в христианской художественной культуре в основном со значениями греха, в повседневной практике стал обозначением процесса очищения, выбора аскетического пути. Папа римский Невинный III примерно в 1200 г. объявил черный цветом покаяния и скорби, необходимым для атрибутики и одеяний в период Великого поста. Так, этот цвет стало носить духовенство. Одежда священников выступала метафорой мертвой плоти, смерти для мира (светского общества), отказа от греховных помыслов ради души и ее вознесения.
В средневековом оккультизме черный имел прямое отношение к темной магии – вредоносному чародейству и колдовству, к ведьмам и колдунам, чернокнижникам и приверженцам дьявола, состоящим в тесном союзе со злыми силами [126, 131]. К черной магии причисляли общение с умершими, «неконтактное» покушение на жизнь и здоровье («порча»), любовные привороты и отвороты. Оккультные процедуры требовали специальных условий и атрибутики – темноты, подземелья, черной одежды, черных жертвенных животных, черной крови, свечей и талисманов. Так, например, гагат, который в дохристианские времена наделяли значением оберега от дурного глаза, зла, болезней, кошмаров, страха, теперь использовали для контактов с мертвыми душами.
В средневековой алхимии, ставшей мостом между мирами, но не только между сакральным и человеческим, а между культурой Востока и Запада, символика черного цвета, как и других, была позитивной. Из цветов (как, впрочем, и из иных символов – камней, растений, птиц, животных, планет) выстраивалась алхимическая картина мира. В «палитре» алхимика цвета делились на два класса. Первый – наиболее важный: черный, белый, красный. Второй: серый (между черным и белым), зеленый, голубой, желтый, оранжевый (между белым и красным). Черному отводилась важная роль фундаментального цвета, первоцвета (вероятно, первовещество черное). Этот цвет, как полагали алхимики, помогал раскрывать тайное, продвигать к совершенству (изменение цвета металла в горне при переплавке – от черного к золоту, «муки Христовы»; то есть черный – ключ к поиску философского камня).
Алхимия выступала на языческих «натурфилософских» осно ваниях, потому коннотации цвета в ней имели «физические» – сти хийно-природные истоки. Цветопонимание алхимиков соответство вало реальным цветовым превращениям химического порядка, трансформам элементов и веществ, которые можно вызывать, которыми можно управлять и которые можно наблюдать. Поэтому алхимически цвет считался физической реальностью – свойством вещи, имеющим и метафизический смысл – зрительно воспринимаемого Логоса. Если убрать метафизику, то в этом отношении к цветам веществ мы увидим начала химии и физики, открытые средневековыми алхимиками.
Черный цвет служил герметикам знаком земли, его считали первой частью Великого Делания – символом состояния, пережива емого философским камнем. Алхимик Н. Вачта писал: «Материя, приведенная в движение соответствующим жаром, начинает делаться черной. Этот цвет является ключом и началом Делания. В нем заключаются все другие цвета: белый, желтый и красный» [102]. Позже Роджер Бэкон добавляет к этому следующее: «Первому процессу Делания дали название гниения, ибо в это время наш камень черен» [102]. Так, у алхимиков черный предстал источником, порождающим другие цвета, началом преобразования.
Традиционный для христианства символ ворона разворачи вался алхимиками аллегорией лабораторной деятельности, описанием «научного» метода: как ворона не заботится о потомстве до появления черных перьев, так и алхимик не должен вмешиваться в процесс трансформы вещества до его почернения. Далее пласт сюжетов образа ворона раскрывал значения метафизической смерти и гниения, соединения мужского и женского начал – серы и ртути820.
В этой связи эзотерики, позже последующие алхимикам, например Блаватская, указывали на библейские сюжеты: Ной выпу стил черного ворона из ковчега прежде, чем выпустить белого голубя. Образу черного ворона посвящено множество современных исследований. В большинстве символика трактуется близко к алхимической – связи с первоначальной бессознательной мудростью, по Леви- Строссу, происходящей из скрытого источника вечной женственности. У Юнга дается указание на сходство «черной ночи» Иоанна Кре стителя и «зарождения во тьме» алхимического nigredo [103].
В других оккультных эзотерических практиках, например в более позднем возникшем на волне нововременного увлечения Востоком масонстве (XVIII в.), черному и другим цветам также были аттрибутированы специфические значения:
белый – непорочность, беспристрастие; серый – каббалистический цвет мудрости;
черный – печаль, смерть;
пурпурный – символ власти, царственности, высоты духа; красный – цвет крови, гнева, мести, войны, возмездия, верности; розовый – любовь, вечность жизни;
золотой – символ чистоты, благородства побуждений; зеленый – одоление, победа;
голубой (синий) – цвет неба, возвышенности устремлений, совершенствования духа.
В средневековой повседневной культуре с черным обраща лись достаточно вольно, однако, насыщали его метафорическими значениями. Теперь его носили в десакрализованных, но высоких человеческих смыслах – для маркировки нравственных, социальных достоинств. Так, знать использовала черный в геральдике, где он нес смыслы постоянства, скромности, покоя, траура и смерти. В военном деле Средневековья черный цвет служил стигмой рыцарской славы. Его носили: шотландский национальный герой Черный Дуглас (1286–1330); Эдуард Уэльский Черный Принц (1330–1376) – герой Пуатье, разгромивший армию французов и пленивший короля Иоанна II; польский рыцарь Завиша Черный – активный участник грандиозной Грюнвальдской битвы (1410 г.), ставший нарицательным образцом рыцарских добродетелей [93].
Кроме рыцарства к черному и его «постоянству» обращались знатные влюбленные, которые носили его в знак меланхолии.
В VIII в. этот цвет по приказу Карла Великого стали носить и более низкие сословия средневекового общества – крестьяне. В X–XI вв. в Западной Европе начали расти старые города и появляться новые. В городах зарождался новый образ жизни, новое видение мира, новый тип людей. Новый город – другое, отличное от феодального поместья, социокультурное пространство. Субъект этой среды – горожанин. Горожане деятельно включались в строение культуры – профессионально, как ремесленники, социально – как члены объединения (например, цехового комитета), экономически – как интересанты торговли, психологически – как субъекты сложной связи Я – Другой. В городах, свободных от сеньората, устанавливалось самоуправление. Будучи в центре экономической жизни, горожане были более информированы, обладали широким кругозором и видели жизнь иначе, чем крестьяне [19, 45]. Начался путь по формированию другого типа личности – ренессансной и нововременной – которая имела иные ценностные установки, иначе отражала культуру в представлениях о цвете.
В начале Ренессанса черный по-прежнему символизировал смирение. Люди продолжали носить этот цвет в знак траура, печали и уныния. Его носил Филипп Добрый, герцог Бургундский после 1419 г., чтобы помнить о смерти своего отца, король Испании Филипп Габсбург и другие европейские монархи. А с принятием специальных «антироскошных» законов, которые запрещали дорогие платья и ткани, черный стал первым «разрешенным» цветом для итальянцев, а затем и для остальной Европы (особенно северной). Достаточно посмотреть мужские портреты Тициана, Тинторетто и картины голландских мастеров, где доминируют дамы и господа в черных костюмах, подразумевающих серьезность, опыт, мудрость, элегантность, важность, сложность и большие достоинства. Министры ряда королевств (например, Франции, Англии, Испании) носили черный в знак покорности воле государя. Примерно в то время черный получил популярность и у приверженцев идей Реформации. Этот цвет сохранится в одежде священников, чиновников и судей до наших дней – останется важным для всех тех, у кого он, по уже сложившейся традиции христианизированного европейского цветовосприятия, символизировал высокую нравственность, мудрость и смирение.
В XV в. регулярно носить черный цвет стали купцы, особенно генуэзские и венецианские. Торговцы и сенаторы этих республик считали черный символом республиканской добродетели. Под этим видением черного на самом деле скрывалась обида на «регальный» запрет: как непривилегированное сословие купцы не имели права на одежду пурпурного цвета, потому черный стал для них знаком протеста. И вдруг произошло чудо: выяснилось, что черный цвет может быть изысканным и соблазнительным. В Италии не осталось ни одного дворянина, который бы не купил себе костюм из черной ткани. Скоро эта мода распространилась по всей Европе. Не было в это время такого короля или владетельного князя, в чьем гардеробе не хранилось бы изрядное количество черной одежды (как из шерстяных, так и из шелковых тканей), а также мехов. Так, черный выступил цветом знатных и богатых, маркером изысканности и сословных различий, вместо пурпура и красного. XV в. стал триумфом черного [96]. К Новому времени символический посыл черного о скромности, умеренности и дисциплине заменил на большей части Европы прошлые значения цвета. Черные одежды носили уже все европейские чиновники, представители ученого сословия, английские пуритане, крестьяне и горожане, а жителей Дании за особое пристрастие к этому цвету даже прозвали «черными датчанами».921В 1809 г. герцог Фридрих Вильгельм для борьбы с Наполеоном создал ударный корпус «черных брауншвейгцев» – солдат в черном обмундировании. Так, если в Европе в раннем Средневековье было неприятие черноты в ее полярности божественному свету, то теперь он стал крайне популярным. Мода на цвет «серьезности», «мудрости», «верности» (и генуэзского богатства!) оказалась крайне устойчивой и продержалась вплоть до Новейшего времени.
Интерес к христианским представлениям о черном и других цветах в целом сошел на нет. Цветовидение стало светским, а цвето вая религиозная символика практически вышла из употребления и стала забываться. Философский интерес к цвету и его влиянию на человека обозначился с иной стороны – физики и естественных наук. Первыми отметились просвещенцы, которые подвергли скепсису мистику и религиозность цвета. Далее знаковыми стали исследования Гегеля и Гете.
Практики Новейшего времени: черный в политической и экономической культурах
В современных культурных практиках, в разных сферах культуры Новейшего времени у цветов неисчислимое множество значений. Структуры культуры усложняются, что выражается в многозначности их свойств, в том числе в атрибуциях цвета. Важно отметить то, что единого преставления о коннотации цветов нет.
Современная политическая культура являет специфические примеры цветовидения, равно далекие от стихийно-природного, свойственного древнему периоду культур-истории, и религиозного прочтения.
Черный цвет трактуется теперь совершенно по-разному. В странах Центральной, Северной и Восточной Европы он отож дествлялся в основном с клерикалами. С начала 1830-х гг. в Южной Европе, особенно в Испании, Италии, Франции, он стал служить обозначением борьбы рабочих за свои права. Позднее «борьба» была трансформирована в «бунтарство». Макс Люшер – психолог, исследователь цвета – писал по этому поводу, что черный выразил идею «ничто» абсолютного отказа в боевом протесте [75].
В России в 1879 г. черный был признан народовольцами из объединения «Черный передел», в начале XX в. им «вооружились» ярые защитники самодержавия – черносотенцы из «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела».
К середине XX в. черный во многих странах (Россия, Эстония, Италия – фашисты-чернорубашечники Муссолини и пр.) стал цветом ультранационалистов.
На сегодняшний день политический черный остается в зоне негатива. Его по-прежнему предпочитают радикалы и националисты всех мастей, террористические группировки, анархисты. Вербально
«черный», «чернильница» – ругательство, стоящее на грани обсценной лексики, заключающее в себе значение маркировки национальности или расы.
В экономической культуре черный занимает положительную нишу. Его трактуют как выражение весомости, значимости, автори тарности, успеха и прибыли. Несомненно, данный «экономический» контекст ведет свое начало от амбициозных европейски придворныхминистров и итальянских купцов, сделавших этот цвет выражением своего карьерного и финансового успеха. Черные автомобили, меха, одежда – «иконописный» канон современного видения успешности. В моду прочно вошли «маленькие черные платья» Коко Шанель, черные туфли-лодочки и сумки, лимузины, черная икра и даже черный хлеб. Экономически черный – цветное выражение денежного успеха.
Черный в художественной культуре Живопись и графика
В художественных практиках – живописи, архитектуре, лите ратуре, музыке – существуют специфические представления о зна чении и смыслах цвета. Традиции применения цвета формировались, прежде всего, на основе физических особенностей – возможностей цветовосприятия субъекта и возможностей получения пигмента (ве щества, которое преломляет свет в теле, способствуя цветовосприя тию). Так, краски художественной картины мира первобытного че ловека были репрезентацией природы, но ее реализация не была полной из-за скудных возможностей – неумения добыть пигмент.
С появлением методов получения естественных и искусственных красителей у художников-живописцев сформировались каноны значимости и применимости цветов. Основными цветами считаются: красный, синий и жёлтый. Чёрный и белый – не главные, но их отсутствие невозможно: они указывают на состояние наличия света и цвета. От смешения главных цветов производятся составные – оранжевый, зелёный и фиолетовый. Вместе с тремя основными первичные смешанные составляют «живописный» спектр: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый. Голубой цвет считается производным от сине-зеленого. При дальнейшем смешивании этих шести цветов получается двенадцать, соответствующих европейскому темперированному звукоряду:
1)
красный;
2)
оранжево-красный;
3)
оранжевый;
4)
оранжево-жёлтый;
5)
жёлтый;
6)
жёлто-зелёный;
7)
зелёный;
8)
сине-зелёный;
9)
синий;
10)
фиолетово-синий;
11) фиолетовый;
12)фиолетово-красный.
Эти цвета, которые смог получить человек применяя специ альные технологии, есть доступная обычному человеческому зрению «октава» цвета.
В истории живописи от эпохи к эпохе главенствовали определенные цвета из этой «октавы». Приоритет цвета, как мы выяснили на примере анализа черного в истории культуры, определялся тем значением, которым он выражал свойства структур культуры, находившихся в зависимости от специфики ценностных установок историко-культурного периода (языческих, монотеистических, эзотерических, социальных, экономических, политических и пр.). В дошедших до нашего времени списках названий [3] живописных «цветов» есть удивительные названия, вербально указывающие на культурные свойства цвета: «вежливость», «гниющая листва» – японские; «кеми» – египетский, «бедро испуганной нимфы», «голубиная шейка»,
«опавшие листья», «резвая пастушка», «тертая земляника» и т. п. – цвета эпохи рококо; «цвет трубочиста», «цвет короля», «цвет пыли»,
«цвет пепла», «жемчужный», «серый нищенский», «серый джентль менский», «крысиный», «цвет волос молодых женщин» «цвет поце луй меня, милашка», «цвет потерянного времени» и т. д.
Таким образом, передача цвета в живописи очень сложна, потому что обусловлена и качеством пигмента, и особенностями физиологии субъекта, и смыслами цветовидения той культуры, к которой принадлежит художник. Самым известным живописцем, работающим с черным, является К. Малевич (1879–1935), который создал несколько «черных квадратов» – изображений простой геометрической фигуры на белом фоне. Ни один из вариантов не был похож на другой – ни фактурой, ни оттенком черного. Сам Малевич отмечал, что цвет заложен внутри организма человека, и именно оттуда проистекают требования цветности [77].
Великим мастером черного цвета можно считать и голландского художника XVII в. Франса Халса (1582–1666). На его полотнах встречается более сорока оттенков черного (например, «Банкет офицеров стрелковой роты св. Георгия»). Стоит упомянуть и Веласкеса (1599–1660), Эль Греко (1541–1614), Питера Рубенса (1577–1640), которые создали массу «черных» портретов.
Особым направлением для применимости черного и артикулирования его культурных коннотаций в художественной культуре выступает графика – «искусство черно-белого».1022 В XII в. графитный карандаш выполнял только второстепенную роль, а для современной графики характерно буйство света и тени [32]. Основные технологии данного художественного направления получили развитие в эпоху барокко – были обнаружены выразительные возможности резких светотеневых контрастов, открыт контражур (светящийся контур). Оказалось, что градациями черного и белого графика может передавать структуру материала, оптические и осязательные свойства поверхности, ритм, оттенки цвета и тона, теплого и холодного, голубого неба и зеленой лужайки – обладать красочностью. Признанными мастерами графитного карандаша считаются Да Винчи, Дюрер, Энгр, Гойя и др.
Литература
Многообразие игры с видением цвета обнаруживается в другой форме художественной культуры – литературе. Особенности лингвистики цвета таковы, что писатель не называет цвета всех и вся в своем тексте. Цветовые эпитеты – результат интуитивного художественного отбора творящего субъекта. Они имеют важный выразительный функционал: смысловой (красный цвет лица – признак стыда или злости героя); описательный и эмоциональный (требующий эмотивно-чувственного отклика читателя).