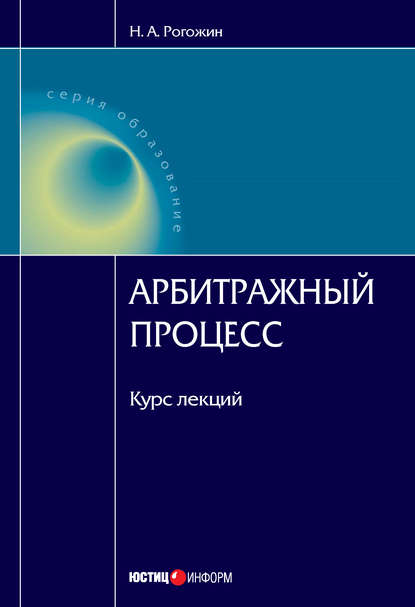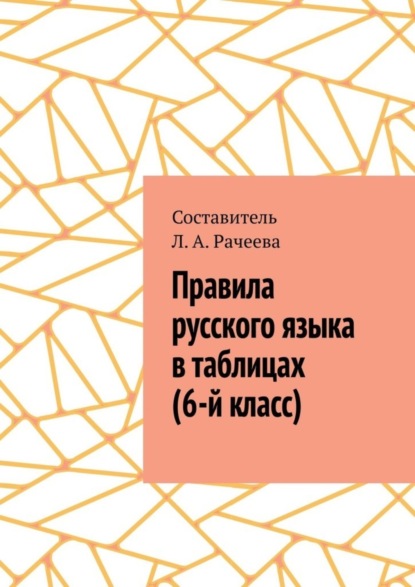- -
- 100%
- +
– Я его спас. Ру… Словом, кошка хотела съесть, а я отнял. В любом случае опоздал – воробей все равно умрет, – дрожащие пальцы гладят птичье тельце. – Ну вот, я все рассказал. Теперь ты останешься?
Делаю вид, что не заметила мольбы в серых глазах:
– Что будешь делать с воробьем?
– Сидеть и ждать, пока все… все само не закончится. Понимаешь? – негромко говорит Юра.
Вдруг становится жалко и Юру, и воробья, и утекающую из крошечного тельца жизнь.
– Хочешь, подождем вместе? – спрашиваю.
– Хочу, – очень серьезно кивает Юра.

Воробей умер через тридцать минут, судя по Юриным часам. Хороним его под сосной, Юра копает землю складным ножом, на рукоятке – черная волчья морда, лезвие – тоже черное, блестящее, с хищными зазубринами.
– Стащил у отца. Мне оборотень понравился. Если отец узнает – убьет, конечно, но вдруг повезет, – буднично говорит Юра, точно прочитав мои мысли, а потом добавляет: – Если бы я был колдуном и мог выбрать одну магическую суперспособность, я хотел бы превращаться в зверя.
– И зачем? Чтобы тебя все боялись? – бережно кладу еще теплое птичье тельце в ямку.
– Не только, – уклончиво говорит Юра. – Звери живут как хотят, им никто не указ, кроме леса, им не нужно… ну, знаешь, становиться такими, – он кивает в сторону родителей.
Воробья проглатывает земля, я кладу на свежий холмик блестящий булыжник – сойдет за надгробие, – встаю и отряхиваюсь. Юра вздрагивает:
– Ты куда, ты что, уходишь?
– Скоро, возможно, уйду, – говорю я, думая про Катю.
– Может, задержишься на чуть-чуть? – вдруг говорит Юра. – Мы теперь вроде как немножко друзья, да? – поднимает бровь (как ему удается поднимать только одну, да еще так высоко?). – Кстати, хочешь, расскажу тайну?
– Что за тайна? – спрашиваю, но ответа не дожидаюсь: за спиной раздается знакомый голос.
Оборачиваюсь – и меня обнимает Катя, и я вдыхаю запах – шарлотки и ванильной гигиенической помады, такой неуловимо и щемяще родной, что хочется плакать, плакать, плакать, пока не выплачешь все, что накопилось за месяцы разлуки, и всё и все вокруг исчезают.

Катя рассказывает про дачу, про реку, про то, как полюбила плавать – «если бы я могла, стала бы морской царевной», – я пытаюсь сосредоточиться на ее голосе и не думать про мальчика, стоящего у горки поодаль и не сводящего с меня глаз. Кажется, Юра ждет, что я окликну его. Представлю Кате. Скажу, что теперь мы гуляем втроем и никакой он, в сущности, не Псих.
Но я не окликаю, не представляю и ничего не говорю.
– Псих так и будет на нас смотреть? – хмурится Катя.
– С чего он вообще на нас так зациклился? – вздыхает она.
– Не хочу с ним гулять, хочу только с тобой, с тобой одной, – улыбается – и правда только мне одной.
– Не думай о нем, – говорю как можно равнодушнее.
Мы качаемся на качелях, сидений всего два – и, даже если бы мы позвали Юру, он не смог бы присоединиться к нам.
С чего я вообще чувствую себя виноватой? Я ничего Юре не обещала. Я с ним вообще впервые сегодня заговорила – он мне, по сути, никто, мы всего лишь «немножко друзья». А теперь пришла Катя, я мечтала об этой встрече все лето, представляла ее, когда задыхалась от бессонницы и от ночной жары на даче, раз за разом перебирала, как и о чем мы будем говорить; мне сейчас не до Юры, Кате сейчас не до Юры, неужели сложно понять?
Но он не понимает – и вдруг направляется к нам, встает рядом, прижимается бледной щекой к железным балкам качелей, скалится в обиженной улыбке, и я впервые замечаю, что клыки у него чуть-чуть заостренные. «Если бы я был колдуном и мог выбрать одну магическую суперспособность, я хотел бы превращаться в зверя», – звучит в голове Юрин голос.
«Надо было дать ему прозвище Волк, а не Псих», – некстати думаю я. Катя замолкает – не хочет говорить при чужаке, ясное дело.
– А в чем прикол одеваться одинаково? Вы же в курсе, что не близняшки? – говорит Юра.
– Что тебе надо, Псих? – не выдерживает Катя.
– Хочешь, покажу одну штуку? Спорим, вы так качаться не умеете.
Катя закатывает глаза:
– Если мы дадим тебе показать твой дурацкий супертрюк, ты оставишь нас в покое?
– Обещаю.
Катя спрыгивает с качелей, машет мне рукой – «давай слезай», – я следую ее примеру. Юра садится на место Кати, отталкивается от земли длинными ногами и начинает раскачиваться.
– Знаете, что такое «солнышко»? – спрашивает он. Катя охает – она знает:
– Ты правда псих! Решил убиться на наших глазах, да?
Но Юра ее как будто не слушает, раскачивается все сильнее, сильнее и сильнее.
– Что еще за «солнышко»? – не понимаю я.
– У нас мальчик на даче так разбился, упал, сломал спину, кровищи было – море, – Катя злится. – Эй, Псих, слезай! Иначе позову родителей!
– Зови. Меня все равно не остановят, а ты станешь стукачкой, – усмехается Юра.
Оцепенело наблюдаю, как он, вцепившись в поручни, делает оборот вокруг перекладины, зависнув на несколько секунд в воздухе вниз головой, как будто оказавшись в мире с обратным притяжением, и затем несется вниз с дикой улыбкой и вздувшимися от напряжения венами на белых руках – откуда у него столько царапин и шрамов, интересно?
Качели не скрипят, а точно клацают железными зубами, шипяще рассекают воздух, делают еще один полный оборот – и затем сбрасывают с себя Юру. Вернее, это он спрыгивает и пружинисто приземляется на ноги, торжествующе вскинув голову.
Только сейчас понимаю, что «солнышко» Юра сделал на глазах у родителей. Меня пробивает озноб: вдруг они видели? Оборачиваюсь: папа читает на лавочке, остальные над чем‐то пьяно хохочут, красные и счастливые. Взрослые, кажется, слишком заняты собой, чтобы обратить на нас внимание. Между ними и нами как будто стекло, прозрачное с одной стороны, матовое и глухое – с другой, как в фильмах про полицейских.
– Ну что, как вам? Не описались от страха? – спрашивает Юра.
Катины глаза загораются совсем не Катиным огнем, лицо у нее чужое и некрасивое, и даже голос незнакомый, ниже обычного.
– Жаль, не свалился, – оставил бы нас в покое, – говорит новая Катя новым голосом. Мне становится тревожно, хочется прокричать самой себе: «Давай просыпайся, это какой‐то дурацкий сон», – ущипнуть за руку, встряхнуться, но бесполезно: все происходит наяву.
– Признайся, что просто боишься. Сама знаешь, тебе слабо́, – усмехается Юра.
– Думаешь, я слабачка? – Катя смотрит на Юру, и на секунду мне кажется, что их горящие взгляды – вроде лазерных мечей в «Звездных войнах»: зеленый – Катин и бледно-серый – Юрин.
– Слабачка, конечно, – отвечает он.
– А вот и посмотрим. – Катя идет к качелям, все мои жалкие «не надо» и «прекрати» бесполезны. Кажется, это могло повлиять на прежнюю Катю, мою Катю, – но новой, невесть откуда возникшей девочке все равно.
Оглядываюсь на Юру, шепчу взрослое и обидное «Чтоб ты провалился» – совсем как мама, когда злится на папу, – и демонстративно встаю подальше – и от Психа, и от качелей. Я, в отличие от некоторых, не играю в дурацкие игры, пусть все видят.
Катя делает как Юра, раскачивается все сильнее и сильнее, выше и выше, смотрит только вверх, на небо и кружащих над нами ворон, выдыхает, вцепляется худыми руками в поручни – сейчас будет «солнышко», сейчас она наконец сделает это и все закончится, мы снова будем смеяться и болтать, все снова будет хорошо.
Оглядываюсь на родителей – все еще не смотрят на нас? Понимаю по знакомому шипящему звуку и хищному лязгу, что качели делают оборот вокруг перекладины, и вдруг все звуки, шорохи и смех взрослых перекрывает крик, долгое и отчаянное «ааааааааааа!».
Стекло между нами и родителями трескается и рассыпается, все взрослые как один поворачивают головы, я – вслед за ними, а Катя, сорвавшись с самой высокой точки «солнышка», летит вниз, падает, стонет, приподнимается, деревянное сиденье прилетает ей по виску, раздается второй крик, протяжнее и безнадежнее, и мне чудится, что кричит небо, качели, земля, родители, Юра, я сама, все и всё вокруг – но только не призрачно-бледная девочка, без движения лежащая на земле.

Утром за окном – белая пустота, Пьяный двор затопило вязким туманом. Говорят, его прядут лесные мертвецы, закидывают рыболовной сетью на район, тянут-потянут – кого затащат к себе сегодня?
На циферблате будильника семь тридцать утра. Вставать еще рано, слишком рано – выходной, и я полночи не спала. Но стоит закрыть глаза, как начинают звучать голоса родителей, их ночные кухонные перешептывания – «черепно-мозговая травма», «открытый перелом руки», «множество ушибов», «большая кровопотеря».
Катя – в коме, Катя – между жизнью и смертью, между той и этой стороной, Катя, кажется, так крепко застряла в проломе между живым и мертвым, что не выбраться.
Юра. Во всем виноват Юра. «Чтоб ты провалился, чтоб ты провалился, чтоб ты провалился», – шепчу раз за разом, пока в горле не пересыхает.
Встаю, иду по холодному полу босиком на кухню, хожу туда-сюда по храпящей сонной квартире, понимаю, что сегодня уже не заснуть.
Одеваюсь, тихонько беру ключи и выскальзываю из дома. На улице – жемчужно-серый свет, каркающие вороны-невидимки и поскрипывающие качели в Пьяном дворе. Иду вслепую – на звук. Вижу рядом с качелями что‐то черное и неподвижное, что‐то, не похожее ни на человека, ни на зверя, – просто сгусток всхлипывающей темноты.
Стоит подойти ближе, как темнота превращается в Юру. Сквозь туман его лицо толком не разглядеть, но почему‐то мне кажется, что оно испуганное и детское, совсем не такое злое и холодное, как вчера.
Наверное, во мне, как и в Кате, тоже дремала другая «я», и теперь эта новая Женя вдруг проснулась. У новой Жени в груди – ярость и пожар, новая Женя хочет царапать, кусать, бить, бить, бить так, чтобы Юра почувствовал все, что чувствую я, чтобы он тоже немножко умер.
И новая Женя бы била, царапала и кусала – но она затихает, как только я подхожу ближе, как только могу разглядеть хорошенько Юрино лицо, бледное и опухшее, как только вижу рассеченную бровь с запекшейся коричневой корочкой, синяк на скуле – кто это сделал, Федор Павлович? – и глаза. Красные, с полопавшимися сосудами, мутные, как у покойника.
В одной руке у Юры нож с волчьей мордой на рукоятке, а другая спрятана за спину. Черное лезвие влажно блестит.
– Ты себя что, порезал? Зачем? – спрашиваю.
– Пришла меня побить? – вопросом на вопрос отвечает Юра, говорит совсем тихо, так что едва можно разобрать слова. – Я сразу понял, что да.
– Как это – понял? – хмурюсь. – Как это вообще можно понять?
– Можно, – уклончиво говорит Юра. – Так что, если хочешь бить – бей. А потом уходи. И держись от меня подальше: я как черная кошка – приношу одни несчастья, понимаешь?
Подхожу ближе и, плохо понимая, что́ делаю, забираю нож из Юриной руки, зажмуриваюсь и быстро провожу лезвием по своей ладони. Дыхание перехватывает от боли, кожу обжигает теплым и влажным.
– Ты что, с ума сошла? – Юра смотрит на меня потрясенно.
– Может, я тоже псих, – отвечаю, вскинув голову.
Хочется сказать еще много всего. Что я тоже виновата, что не надо было вчера отталкивать Юру, не надо было делать вид, что он мне никто, не надо было позволять им с Катей глупое соревнование, не надо, не надо, не надо – столько разных «не надо» роится в голове!
Но я ничего не говорю – и просто обнимаю худого измученного мальчишку, беззвучно плачущего передо мной, и он обнимает меня в ответ.
За пять лет и неделю до смерти Кати
За спиной, на футбольном поле – смех и крики одноклассников, на лавочках и в беседке Пьяного двора – смех и крики взрослых. Но все звуки тускнеют и меркнут, стоит им долететь до нас с Юрой.
Думаю о Кате. Как всегда в последнее время – о ней. Четыре года, как мы дружим, пошел пятый. Моя самая долгая дружба. И до недавних пор – единственная.
Четыре, семнадцать, двадцать пять. Четыре, семнадцать, двадцать пять. Четыре, семнадцать, двадцать пять.
Сижу на качелях, а Юра – прямо на земле: октябрь в этом году выдался неправдоподобно теплый. Флуоресцентные стрелки часов светятся на его запястье, сливаются в одно сияющее пятно – глаза слезятся от недосыпа.
Семь порезов на Юриных руках, семь за прошедшие сутки – после того как Катя разбилась, он режет себя постоянно. Впрочем, мы об этом не говорим – никогда не говорим. Нечто вроде негласного уговора.
Семь новых порезов плюс десять зарубцевавшихся, итого семнадцать.
Четыре, семнадцать, двадцать пять. Четыре, семнадцать, двадцать пять. Четыре, семнадцать…
Двадцать пять дней Катя «между жизнью и смертью». Двадцать пять…
Стоп. Перестань. Хочется врезать себе самой по лицу, избить так, чтобы ни о чем, кроме боли, думать было невозможно, но часть меня знает: цифры все равно будут вертеться в голове. Это как ведьмины силки – дергайся не дергайся, свободы не получишь.
Юра вертит в руках нож с волчьей мордой на рукоятке, сосредоточенно рассматривает, изучает каждую царапину так, словно впервые видит. Притворяется, что занят и не знает, который час. Юра должен был вернуться домой еще сорок минут назад – воскресенье у них с отцом и матерью «семейный день».
Четыре, семнадцать, двадцать пять, четыре, семнадцать, двадцать пять.
На его запястье голубеют синяки. По форме похожи на пальцы, но больше разглядеть не выходит – Юра ловит мой взгляд, натягивает рукав куртки, кидает нож в землю и вдруг говорит:
– Прикинь, әни 3 как‐то сказала, что у отца нет сердца. Я был совсем маленький и все никак не мог понять: как это? – выдергивает лезвие. – Один раз, когда отец спал, я подкрался к нему, прислонился к груди, слушал, слушал, слушал. Кажется, полночи просидел – и так ничего не услышал. Как думаешь, может, у него и правда в груди пустота? – нож втыкается в землю снова, снова и снова.
– Это ты к чему?
– Наверное, хотел тебя отвлечь.
Четыре, семнадцать, двадцать пять, четыре, семнадцать, двадцать пять, четыре, семнадцать, двадцать…
Вскрикиваю: затылок обжигает болью. Мяч, ударивший меня по голове, падает на землю. Слышу за спиной смех, оборачиваюсь, вижу одноклассников и парней из параллели – идут к нам вдесятером. Впрочем, когда они вместе, то они уже не они, а оно. Существо.
Существо – душа Пьяного двора. Существо – как лего, собирается из множества тел, рук, ног и голов, щелк – и все начинают действовать как один, смотреть как один, думать как один, все знают ответ на главный вопрос: «В чем сила, брат?» В кулаках, брат, конечно в кулаках.
Была бы тут Катя, она бы не испугалась. Существо обходит ее стороной, она неприкосновенна. Но Кати нет – а одной мне, и тем более нам с Юрой, не справиться. Нас Существо ни во что не ставит.
Меня никогда не били – но при мне били других. И внутри все немеет и мелко дрожит, когда я представляю себе, каково это. Надо молчать, главное – молчать, делать все, что скажут, главное…
– Эй, Псих! Хороший песик! Кинь нам мячик обратно! – нежно просит Существо во все десять голосов.
– Че такой невеселый? Да забей, у Жени голова пустая – ей не больно, да, Жень? – давится от смеха.
Юра улыбается все шире и шире, перекидывает мяч из одной руки в другую:
– Извинитесь перед Женей – и сделаю что скажете. Считаю до трех. Один.
Кажется, земля сейчас уйдет из-под ног. Шепчу:
– Пожалуйста, не надо! Верни им мяч, и всё!
– Псих, ты че, забыл, кто мы, а кто – ты? – Существо переводит взгляд с меня на Юру, с Юры на меня, снова на Юру. Чувствую себя абсолютно голой, как в страшных снах, где почему‐то приходишь в школу без одежды. Неожиданно Существо съеживается, тушуется, распадается на два и пропускает вперед Руслана – парня из параллельного класса.
Если Существо – душа Пьяного двора, то Руслан – душа Существа. Или, правильнее сказать, мозг, король и хозяин.
Смотрит на Юру почти с жалостью:
– Че ты строишь из себя супергероя? Нафига, Псих?
– Два.
– Нам же не нужны проблемы, да? – в панике дергаю Юру за рукав. Но он как будто не слышит.
– Три.
Мяч со свистом режет воздух и бьет Руслана по лицу.
– Сдурел? – ревет Существо, рычит, скалится в десять лиц, сжимает двадцать кулаков, обступает Руслана живым щитом. Тот вытирает рукавом кровь, текущую из распухшего носа, отмахивается от вопросов.
– Всё в порядке, всё под контролем. Отвалите от Психа, было бы о кого руки марать. – Переводит взгляд на меня: – А ты, Жень, тоже та еще шизичка. Псих твою лучшую подружку прибил, типа, реально прибил, а ты вокруг него скачешь. Совет за бесплатно: выкинь Психа на ближайшую помойку, как сделал я. Поверь, там блохастым дворнягам самое место.
Юра меняется в лице и кидается в драку, но я висну у него на плече, не даю сдвинуться с места, бормочу: «Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо!» Существо взрывается хохотом, шутит: «Смотрите, Женька и ее цепная псина! Осторожно, злая собака!» – и уходит обратно на футбольное поле. Мои щеки горят, как в тот раз, когда мы с матерью поссорились и она надавала мне пощечин, – и кажется, что весь Пьяный двор смотрит на нас с Юрой, только на нас.
– Да ты реально псих! Будешь дальше нарываться – нас обоих прибьют! – почему‐то хочется плакать. Как Юра не понимает? Он же раньше учился в одном классе с Орфеевым – говорят, они даже общались, – и должен быть в курсе, что Руслан может делать что хочет. Его папа – король района, заправляет всем и всеми. – Катя говорила, что в том году Руслан побил одного парня прямо у всех на глазах, в коридоре. И там было столько крови, что… В общем, того парня больше никогда не видели – никогда, понимаешь? Что, не слышал об этом?
– Слышал. Я был тем парнем. И побили не меня – а я, – Юра достает нож, забытый в земле, остервенело чистит лезвие рукавом куртки.
– Ну да, конечно ты. – С трудом верится, что худощавый Юра мог что‐то сделать с Русланом. – Весь прошлый год сидел, молчал в тряпочку, даже нашим пацанам сдачи не давал, а теперь…
– А теперь у меня есть ты! – говорит Юра и сразу же осекается.
По впалым щекам расплываются красные пятна, глаза наливаются темнотой, из серых вдруг становятся беспросветно черными, смотрят на меня, только на меня, будто ничего вокруг больше нет – ни Пьяного двора, ни идущего к нам высокого мужчины.
– Черт, кажется, там твой папа, – шепчу я.
Юрины плечи вздрагивают. Он отводит взгляд. Чем ближе к нам Федор Павлович, тем меньше и худее кажется Юра.
– Браво, Юрий, наконец‐то повел себя как настоящий мужчина, – отец хлопает в ладоши. – Да-да, я всё видел – стоял во‐о-он там. Небольшой совет: в другой раз врежь им вот так. Понял? Вот так, – медленно подносит кулак к скуле сына, имитирует удар, – и бей, пока всю дурь не выбьешь. Доброта – удел баб, но ты‐то не баба, правда?
– Да, папа, – высоким и каким‐то чужим голосом говорит Юра отцовским ботинкам.
Федор Павлович похож на шпионов из кино. Серые брюки, серый пиджак, серое пальто, серая шляпа с полями и серый шарф, серые глаза. Раньше я бы сказала: «Как у Юры», – но нет, совсем не такие. Глаза Федора Павловича – мертвые, остекленевшие, а Юрины – живые, цвета теплой собачьей шерсти.
– Знаешь, что еще должен настоящий мужчина? – вкрадчиво спрашивает Федор Павлович и, не дожидаясь ответа, замечает: – Держать слово и приходить вовремя. Сказал: «Буду в час» – значит, надо быть ровно в час, и ни минутой позже. Как думаешь, что бы было, если бы я опаздывал в операционную, а? Ты, к слову, задержался на… – часы вспыхивают льдом на запястье и снова исчезают под рукавом пальто, – пятьдесят семь минут. Нехорошо, Юрий.
– Да, папа. Ты прав, папа.
– Мы еще дома это обсудим, – усмехается Федор Павлович. – Мать, между прочим, обед приготовила, ждет тебя. Так что давай прощайся, и идем.
Юра быстро сжимает мои пальцы, шепчет затравленно: «Может, выйду ближе к вечеру». Больше всего на свете хочется его обнять и сказать, что все будет хорошо, но Федор Павлович не сводит с меня глаз – и мне становится так не по себе, что не могу шевельнуться.
Высокий серый мужчина и худой мальчик с опущенными плечами уходят прочь, а я снова остаюсь один на один со своими призраками.
Четыре, семнадцать, двадцать пять, четыре, семнадцать, двадцать пять, четыре, семнадцать, двадцать пять, четыресемнадцапять, чтресенадцать, чресендать.

На прилавке в Скворечнике лежат ноги в белых кедах, разрисованных черепами с горящими глазницами. Лиса меня не замечает, слишком увлечена видео на ноутбуке. Иду к полке с шоколадными батончиками, по привычке тайком разглядываю Лису, любуюсь издали хищной рыжиной волос, медальоном-ключом на шее, неоново-яркими тенями – и самой себе кажусь тусклой и невзрачной: не человек – тень.
Голос по ту сторону экрана рассказывает про наш лес.
Говорят, сойдешь с протоптанной дорожки – и земля начинает хрустеть под ногами: то там, то тут сереют кости-черепа.
Говорят, на месте леса когда‐то было кладбище, потом могилы разорили, и мертвецы переродились в деревья.
Говорят, у мертвецов есть хозяин. Приметит – поминай как звали.
Говорят, если повезет, если попросить как следует, если хозяин позволит – лес исполнит любое желание.
«Любое желание», – сердце бьется так быстро и громко, что закладывает уши. «Любое, любое, любое», – твердит радостный голос в голове.
Несу «Чудо» с орехами на кассу. Лиса неохотно выключает видео, пытается пробить – не выходит. Хмыкает:
– Видимо, сегодня не до чудес. – И пробует второй раз, а я считаю про себя до трех и быстро спрашиваю, чтобы не передумать:
– А ты бывала в лесу?
Лиса отвлекается от батончика, смотрит на меня – впервые на меня, а не сквозь:
– Никто в этом крейзи-царстве зомби никогда не спрашивал про лес, ты первая.
Ее лицо делается серьезным, почти суровым:
– А зачем тебе, малая? Только не говори, что сама туда собралась!
Во рту пересыхает, становится почему‐то стыдно, так стыдно, как будто я спросила о чем‐то гадком, о чем‐то взрослом и неприличном.
– Значит, так: запомни, а лучше выучи наизусть. Надо быть совсем отбитым, чтобы таскаться в лес. В лучшем случае тебя просто прибьет какой‐нибудь нарик, вот и сказочке конец. А в худшем… Короче, это место не для желторотиков вроде тебя, поняла, малая? Поняла, спрашиваю?
Разглядываю свое отражение в витрине. Призрачная девочка по ту сторону стекла напряженно смотрит на меня в ответ. Призрачная девочка уверена: если Лиса что‐то знает, надо выведать это у нее. Пусть злится, ругается, кричит – какая разница, если появился шанс спасти Катю?
– Правда, что лес может сделать что попросишь?
– Какая ты приставучая, малая, а! – Лиса вздыхает и неожиданно мягко добавляет: – Даже если лес выполнит твои хотелки – а ключевое тут «даже если», – за это придется заплатить, ясно тебе? За спасибо никто ничего не сделает.
– Чем платить? – хмурюсь.
– Поверь, ты не хочешь знать. Всё, хватит на сегодня: если обосрешься от страха, убирать мне. Держи свое «Чудо». Денег не надо, сегодня все чудеса бесплатно. А теперь иди куда шла.
На улице, вопреки совету Лисы, сворачиваю не налево, к подъездам, а направо, к Околесью, за которым темнеет и перешептывается лес. «Любое желание, любое, любое, любое».

Юра приходит почти сразу же после моего звонка. Не отговаривает, не спрашивает зачем и почему – ответ мы оба и так знаем, – только теребит задумчиво часы на запястье и затем уточняет тихо:
– Уверена?
– Уверена, – твердо отвечаю я.
Беремся за руки, вбегаем в лес как в ледяную воду – с разбега, с лихим и отчаянным «ааааааааа», захлебываемся колючей прохладой воздуха – почему тут так холодно? – бежим, бежим, бежим, пока не оказываемся на берегу реки. В прозрачной темноте воды змеятся водоросли. «Похоже на русалочьи распущенные косы», – шепчет Юра. Воздух мерцает предзакатным золотом, пахнет увядшим иван-чаем и мертвой травой, вокруг – тишина, как будто по соседству нет ни района, ни дороги, ни машин, и на километры вокруг – лес, один лес и больше ничего.
Встаем на колени и просим:
– Пожалуйста, спаси Катю! Если хочешь, забери нас – но спаси Катю!
– Шшшшшш, – шипит в ответ река.
– Шшшшшш, – шепчет ветер.
– Спаси! – повторяем снова, снова и снова, пока холод не начинает струиться по венам, пока мускулы не застывают один за одним и не превращаются в лед, пока не начинает двоиться в глазах, пока саднящее горло не пересыхает. Сколько мы так стоим? Пятнадцать минут, полчаса, больше? Не знаю: стрелки Юриных часов застыли.